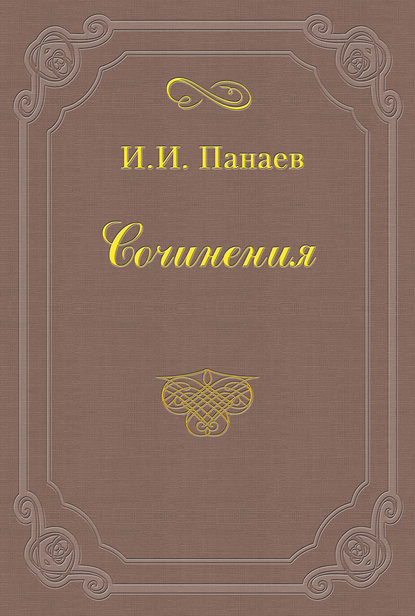По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Великосветский хлыщ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отличные, – отвечал я.
Они в самом деле были таковы. Он сам закурил пахитоску, выпустил тонкую струю дыма и вдруг предложил мне вопрос совершенно неожиданный:
– А что, вы часто бываете у наших общих знакомых… у Грибановых?
До этой минуты он не только ни слова не говорил о них, даже, казалось, избегал и напоминания.
– Бываю довольно часто, – отвечал я, – они люди очень добрые.
– Да, кажется, – возразил Щелкалов, – хотя надо признаться, что немного смешные, ведь правда? И барыня мне эта не совсем нравится… тетка, что ли? Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте. Впрочем, у всех такого рода барынь слабость к французскому диалекту.
Щелкалов помолчал с минуту.
– А дочка… она ведь миленькая, кажется?
– Очень, – отвечал я.
– В самом деле?.. И у нее так себе есть голосок для домашнего обихода… Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены в нее?..
– Нисколько, продолжайте смело.
– Да-с… ну, а скажите, пожалуйста, можно за нею эдак… приволокнуться?
– То есть как, эдак? Это семейство очень честное и почтенное.
– О, да я в этом нисколько не сомневаюсь! – воскликнул Щелкалов, – я разумею волочиться самым невинным образом… А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будут косо смотреть на это, а? Ведь я мало знаю эти буржуазные нравы.
– Очень может быть, – сказал я, хотя подумал, что тетенька была бы от этого в совершенном восторге.
– Разве приволокнуться мне, на старости лет! – проговорил он через минуту, зевнув и потянувшись, – потому что это уже все надоело мне.
С этим словом Щелкалов придвинул к себе китайское блюдо, стоявшее на столе у него под рукою, и тотчас же оттолкнул его. На этом блюде была груда разноцветных записочек и писем: кружевных, с бордюрчиками, с вензелями, с именами, с гербами, и прочее. До этой минуты я не обратил на него внимания.
– А что это такое? – спросил я нарочно.
– Это? – возразил он с принужденною улыбкой, – различные мои воспоминания, глупости, billets-doux, это материалы для моей биографии, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ее. Здесь есть, впрочем, много любопытного. Я иногда роюсь в этих воспоминаниях не без удовольствия… Лучше иметь хоть какие-нибудь воспоминания, чем ничего; правда?
– Я думаю.
Барон опять придвинул блюдо к себе и начал перебирать записки, не упуская случая подсовывать мне под нос, как будто нечаянно, те, на которых красовались гербы и короны. Две или три записочки на французском языке без запятых и точек он тут же бросил в камин, показав мне предварительно первые строки.
В этих записках Щелкалова называли mon petit Sacha, и вслед за тем речь начиналась о деньгах.
– Это от Камишки, – прибавил он с улыбкою.
Я слышал, что Щелкалов с этой m-lle Камиллой имел какую-то неприятную историю, что он будто взял у нее бриллианты для того, чтобы отвезти их в починку, заложил их и проиграл эти деньги, что-то вроде этого; что она везде об этом кричала, но потом примирилась с ним, потому что он не только выкупил эти бриллианты и возвратил их ей, но еще вдобавок поднес ей какой-то браслет довольно значительной цены.
– А вот письмо, – сказал Щелкалов, выбрав одно из груды и подавая его мне, – прочтите, это стоит того.
Письмо это было написано самым изящным французским языком и почерком и было проникнуто самою безумною страстью.
– Ну что? каково? – возразил он, когда я возвратил ему письмо, – и если бы вы знали, что это была за женщина! я не стоил ее, не знал ей цены. Мне всякий раз становится досадно и больно за себя…
И он ударил кулаком по столу.
– В этой женщине было все – и красота, и ум, и поэзия; от выражения глаз ее можно было с ума сойти; за нею волочились все, всё было безумно влюблено в нее… Я, знаете, редко могу чем-нибудь увлечься; но, говоря об ней, вспоминая об ней, вы видите, я не могу быть равнодушным.
Щелкалов точно представлял вид человека взволнованного.
– Вы ее не знали, – продолжал он, – вам могу я показать это, не компрометируя ее памяти.
Он отворил стол, вынул из стола коробку, а из коробки медальон и подал его мне.
В этом медальоне был вделан портрет женщины, красоты почти идеальной; по крайней мере мне не случалось встречать таких женщин.
– Не правда ли, хороша? – спросил Щелкалов.
– Даже невероятно, – отвечал я.
– Именно невероятно… c'est le mot! Да, она была во всех отношениях невероятна.
Он взял от меня медальон, посмотрел на него, спрятал в стол и задумался.
– А не правда ли? – сказал он через минуту, – мы живем глупою, изломанною, исковерканною жизнию?
– Да, это правда, – отвечал я.
– Эге! – вскрикнул вдруг Щелкалов, взглянув на часы. – Да уж половина второго… Я в это время всегда завтракаю. Не хотите ли вместе со мною?
Я отвечал, что никогда не завтракаю, но барон позвонил, не обратив внимания на мой ответ.
– Дайте нам чего-нибудь позавтракать, – сказал он вошедшему лакею.
Через минуту на серебряном подносе принесен был только что початый страсбургский пирог, различные холодные закуски на китайских тарелках и две бутылки: одна с лафитом, другая с мадерой, также початые.
Наш общий знакомый, господин с злым языком, уверял меня, что эти закуски, этот пирог и вина – все это театральное; что это не более, как пуф, выставка серебряного подноса и китайских тарелок для поддержания кредита.
Я сам, впрочем, не мог убедиться в этом, потому что ни к чему не прикасался, а барон тоже едва ковырнул только страсбургский пирог и выпил менее полрюмки мадеры.
Когда я уходил, он сказал мне:
– А знаете ли, соберемся когда-нибудь к Грибановым… а?
– Пожалуй, – отвечал я, – но они скоро переезжают на дачу.
– Право? а куда?
– К Выборгской заставе.
Они в самом деле были таковы. Он сам закурил пахитоску, выпустил тонкую струю дыма и вдруг предложил мне вопрос совершенно неожиданный:
– А что, вы часто бываете у наших общих знакомых… у Грибановых?
До этой минуты он не только ни слова не говорил о них, даже, казалось, избегал и напоминания.
– Бываю довольно часто, – отвечал я, – они люди очень добрые.
– Да, кажется, – возразил Щелкалов, – хотя надо признаться, что немного смешные, ведь правда? И барыня мне эта не совсем нравится… тетка, что ли? Она уж очень чувствительна и все говорит на французском диалекте. Впрочем, у всех такого рода барынь слабость к французскому диалекту.
Щелкалов помолчал с минуту.
– А дочка… она ведь миленькая, кажется?
– Очень, – отвечал я.
– В самом деле?.. И у нее так себе есть голосок для домашнего обихода… Да что, про нее можно говорить? Вы не влюблены в нее?..
– Нисколько, продолжайте смело.
– Да-с… ну, а скажите, пожалуйста, можно за нею эдак… приволокнуться?
– То есть как, эдак? Это семейство очень честное и почтенное.
– О, да я в этом нисколько не сомневаюсь! – воскликнул Щелкалов, – я разумею волочиться самым невинным образом… А то, пожалуй еще, эти тетеньки и папеньки, они будут косо смотреть на это, а? Ведь я мало знаю эти буржуазные нравы.
– Очень может быть, – сказал я, хотя подумал, что тетенька была бы от этого в совершенном восторге.
– Разве приволокнуться мне, на старости лет! – проговорил он через минуту, зевнув и потянувшись, – потому что это уже все надоело мне.
С этим словом Щелкалов придвинул к себе китайское блюдо, стоявшее на столе у него под рукою, и тотчас же оттолкнул его. На этом блюде была груда разноцветных записочек и писем: кружевных, с бордюрчиками, с вензелями, с именами, с гербами, и прочее. До этой минуты я не обратил на него внимания.
– А что это такое? – спросил я нарочно.
– Это? – возразил он с принужденною улыбкой, – различные мои воспоминания, глупости, billets-doux, это материалы для моей биографии, если я когда-нибудь и за что-нибудь удостоюсь ее. Здесь есть, впрочем, много любопытного. Я иногда роюсь в этих воспоминаниях не без удовольствия… Лучше иметь хоть какие-нибудь воспоминания, чем ничего; правда?
– Я думаю.
Барон опять придвинул блюдо к себе и начал перебирать записки, не упуская случая подсовывать мне под нос, как будто нечаянно, те, на которых красовались гербы и короны. Две или три записочки на французском языке без запятых и точек он тут же бросил в камин, показав мне предварительно первые строки.
В этих записках Щелкалова называли mon petit Sacha, и вслед за тем речь начиналась о деньгах.
– Это от Камишки, – прибавил он с улыбкою.
Я слышал, что Щелкалов с этой m-lle Камиллой имел какую-то неприятную историю, что он будто взял у нее бриллианты для того, чтобы отвезти их в починку, заложил их и проиграл эти деньги, что-то вроде этого; что она везде об этом кричала, но потом примирилась с ним, потому что он не только выкупил эти бриллианты и возвратил их ей, но еще вдобавок поднес ей какой-то браслет довольно значительной цены.
– А вот письмо, – сказал Щелкалов, выбрав одно из груды и подавая его мне, – прочтите, это стоит того.
Письмо это было написано самым изящным французским языком и почерком и было проникнуто самою безумною страстью.
– Ну что? каково? – возразил он, когда я возвратил ему письмо, – и если бы вы знали, что это была за женщина! я не стоил ее, не знал ей цены. Мне всякий раз становится досадно и больно за себя…
И он ударил кулаком по столу.
– В этой женщине было все – и красота, и ум, и поэзия; от выражения глаз ее можно было с ума сойти; за нею волочились все, всё было безумно влюблено в нее… Я, знаете, редко могу чем-нибудь увлечься; но, говоря об ней, вспоминая об ней, вы видите, я не могу быть равнодушным.
Щелкалов точно представлял вид человека взволнованного.
– Вы ее не знали, – продолжал он, – вам могу я показать это, не компрометируя ее памяти.
Он отворил стол, вынул из стола коробку, а из коробки медальон и подал его мне.
В этом медальоне был вделан портрет женщины, красоты почти идеальной; по крайней мере мне не случалось встречать таких женщин.
– Не правда ли, хороша? – спросил Щелкалов.
– Даже невероятно, – отвечал я.
– Именно невероятно… c'est le mot! Да, она была во всех отношениях невероятна.
Он взял от меня медальон, посмотрел на него, спрятал в стол и задумался.
– А не правда ли? – сказал он через минуту, – мы живем глупою, изломанною, исковерканною жизнию?
– Да, это правда, – отвечал я.
– Эге! – вскрикнул вдруг Щелкалов, взглянув на часы. – Да уж половина второго… Я в это время всегда завтракаю. Не хотите ли вместе со мною?
Я отвечал, что никогда не завтракаю, но барон позвонил, не обратив внимания на мой ответ.
– Дайте нам чего-нибудь позавтракать, – сказал он вошедшему лакею.
Через минуту на серебряном подносе принесен был только что початый страсбургский пирог, различные холодные закуски на китайских тарелках и две бутылки: одна с лафитом, другая с мадерой, также початые.
Наш общий знакомый, господин с злым языком, уверял меня, что эти закуски, этот пирог и вина – все это театральное; что это не более, как пуф, выставка серебряного подноса и китайских тарелок для поддержания кредита.
Я сам, впрочем, не мог убедиться в этом, потому что ни к чему не прикасался, а барон тоже едва ковырнул только страсбургский пирог и выпил менее полрюмки мадеры.
Когда я уходил, он сказал мне:
– А знаете ли, соберемся когда-нибудь к Грибановым… а?
– Пожалуй, – отвечал я, – но они скоро переезжают на дачу.
– Право? а куда?
– К Выборгской заставе.