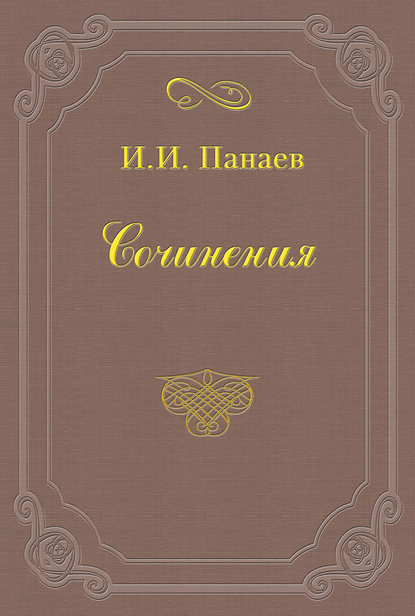По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Актеон
Автор
Год написания книги
1860
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, вот и прекрасно!.. – воскликнула Прасковья Павловна. – У тебя там, голубчик, в Завидовке столько земли, что уж половина так брошена, не обработывается, рук недостает… Поскорей бы и купчую сделать…
– Пожалуй, – сказал Петр Александрыч.
– Т…т…т…ак вы у…у…уступаете мне эту землю? – спросил Семен Никифорыч, вытаращив глаза и еще не совсем веря своему счастию.
– Неужели ж, – отвечала Прасковья Павловна, несколько обидясь, – могли вы сомневаться в благородстве моего сына?
– Не…не…нет. Не…не… знаю, как и благодарить вас… Пе…Пе…Петр Александрыч…
– Поздравляю вас, Семен Никифорыч, с приобретением, – сказала Прасковья Павловна.
– Поздравлять надо шампанским, – заметил Петр Александрыч. – А кстати, я уж давно не пил шампанского… вкус в нем потерял. Выпьем-ка, Семен Никифорыч, бутылочку.
– Э…это наше гу…гусарское вино, – произнес Семен Никифорыч, – к…как не выпить?
На другой день Актеон сообщил своему управляющему о том, что он уступил пятьсот десятин земли Шмелевской дачи Семену Никифорычу.
– Помилуйте-с, – сказал Назар Яковлич, нахмурив брови, – да как это можно-с? У нас в Завидовке на сто душ останется всего двести десятин… Крестьянам-то умирать с голода придется. Нет уж, воля ваша! После этого какие же вы хотите доходы от меня требовать?
– Так что ж? не отступиться ли мне от своего слова! – отвечал Актеон. – Я вчера уж и бутылку шампанского роспил по этому случаю с Семеном Никифорычем…
– Ах, Петр Александрыч! Одна деревенька оставалась незаложенная, да и ту вы хотите разорить.
– Вздор какой!..
– Нет-с, не вздор; да и земля-то, уступленная вами, самая лучшая, хлебородная…
– Вы мне и без того никаких доходов не дали во все ваше управление, да еще, говорят, хотите требовать денег на прокорм крестьян…
– Так что же, сударь, – возразил управляющий недовольным голосом, – коли хлеб не родится, ведь это не моя воля, а божья…
– Отчего же другие помещики все-таки получают кой-какие доходы?
– Да уж я давно, Петр Александрыч, замечаю, что я вам не нужен. Что ж? я готов хоть сейчас отойти: я место себе всегда найду.
Прасковья Павловна подслушала этот разговор и вбежала в комнату с гневом.
– Что ж, друг мой, неужели ты после этих грубостей станешь держать его у себя? Господи боже мой! разве он один только и умеет управлять имениями? Вот какое сокровище!..
– Не горячитесь, сударыня, – сказал управляющий, посмотрев прямо в глаза Прасковье Павловне, – я, во-первых, обижать себя никому не позволю, потому что я чиновник, а во-вторых… Ну, а во-вторых-то… Я, так и быть, промолчу, а уж вы сами знаете.
Он поклонился Петру Александрычу и вышел из комнаты.
– Экий грубиян! – закричала Прасковья Павловна, притворяя дверь, в которую вышел управляющий. – Отпусти его поскорей, друг мой. Бог с ним! он только разорял крестьян… Я знаю за ним такие плутни, такие… ну, да я тебе все после расскажу. Семен Никифорыч у нас свой человек в доме, душевно привязанный к тебе, да он с охотой возьмется управлять твоими имениями. Молчи только, дружочек, до времени… Я все это тебе устрою самым лучшим образом.
Через две недели Назар Яковлич выехал из села Долговки и все счеты и расчеты по своему управлению сдал, по приказанию Актеона, Семену Никифорычу. Назар Яковлич давно искал только предлога, чтоб отойти от Петра Александрыча. В продолжение своего четырехлетнего управления он нажил себе порядочный капиталец и захотел сам сделаться помещиком. Он вскоре купил за 200 верст от села Долговки 60 душ с усадьбой.
Состояние Актеона близилось к разрушению. С капитала, отданного им на бумагопрядильную фабрику, он еще не получил ни гроша. Дмитрий Васильич Бобынин написал к нему оскорбительное письмо за увольнение управляющего и настоятельно требовал или немедленной высылки денег, которые Петр Александрыч был должен ему, или немедленной уступки за этот долг деревни Бекеевки; в противном случае угрожал, что начнет действовать по законам. А деревня Бекеевка была хоть и небольшая, но лучшая и выгоднейшая деревня Петра Александрыча! Чтоб развязаться с Дмитрием Васильичем, он должен был согласиться на уступку ему Бекеевки.
– Знаете, маменька, – говорил он, – я уж от Дмитрия Васильича ни за что в свете не ожидал такого подлого поступка.
– Что, мой голубчик? – возражала Прасковья Павловна, – моя правда и вышла… Я всегда говорила тебе, что Дмитрию Васильичу пальца в рот нельзя класть, что этакого тонкого обманщика и вообразить нельзя… Видишь ли, как твоя маменька знает людей?..
– Да. Как вы их так научились разбирать? Это удивительно!
– А сказать ли тебе приятную новость, мое сердце?
– Какую?
– Парамон Астафьич, заседатель наш, просит руки моей Анеточки; он написал ко мне премилое письмо по этому случаю.
– Так у нас будет скоро свадьба, маменька?
– Надеюсь, душа моя…
Через несколько времени Петр Александрыч, по настоянию Прасковьи Павловны, занял 20 000 рублей ассигнациями у Семена Никифорыча под залог 40 душ – и отдал эти деньги от имени своей матери в приданое дочери бедных, но благородных родителей.
– Не беспокойся, Петенька, – говорила Прасковья Павловна, – эти двадцать тысяч я тебе отдам… Уж ты, мое сердце, положись в этом случае на мою совесть…
– Хорошо, маменька-с; а когда же свадьба-то?
– В начале сентября, друг мой, непременно.
И вот сентябрь приближался… Только еще третью осень встречал Петр Александрыч в деревне, а ему казалось, что он живет в ней с самого младенчества. Иногда, в год раз или два, мерещились ему петербургские лица, Невский проспект, Александрийский театр, офицеры, устрицы… и г-жа Бобынина и г-жа Горбачева – эти две жемчужины среднего петербургского сословия… Но он тотчас же отгонял от себя все эти воспоминания.
«Да и что такое Невский проспект? – мыслил он однажды, – совершенный вздор… И что эти красавицы? так только, блестят, и больше ничего… Спрашивается: чем здесь хуже? Здесь и Агафья Васильевна в козловых башмаках, и Маша, у которой щечки алее зари утренней, и Настя…» и проч. Вдруг на дворе послышался крик.
«Что это значит?» – подумал Петр Александрыч.
Он поднялся с своего дивана и взглянул в окно. У подъезда дома стояли три подводы, и на эти подводы укладывали сундуки с приданым дочери бедных, но благородных родителей. Мужики и лакеи, стоявшие у подвод, во все горло смеялись, глядя на какого-то мальчика, которого Антон торжественно вел через двор за ухо. Мальчик тщетно пытался вырваться от Антона и кричал.
– Что это, Наумыч? – спросили в один голос Дормидошка, Фомка и Филька. – За что это ты, брат, его теребишь? Ведь это Петька покровский.
– Не ваше дело, – отвечал Антон с глубочайшею важностию, – будете знать все, скоро состареетесь…
«Что это за мальчишка? – подумал Петр Александрыч. – Странно!»
Через полчаса после этого Прасковья Павловна вбежала к своему сыну.
– Ну, Петенька, – вскрикнула она, – приготовься, мой друг!.. Не на радость я пришла к тебе… да что делать? Супруга твоя забывает все приличия, всякую благопристойность… Она… она… ну, как бы ты думал… ну, вообрази, что может быть хуже… завела переписку с учителем!.. Я молчала, все молчала… да наконец уж, извини… не могу… не могу… Я не говорила тебе до сих пор, что она с ним прогуливается в роще, что уж однажды Антон подкараулил их и, кажется, учителю-то от него досталось… Уж об этом, батюшка, посторонние говорят, все, все… Я щадила только твое здоровье, потому молчала… и думала, признаюсь, что она очувствуется… Наконец надо же положить этому преграду… Переписка!.. Бесподобно!
– Где ж вы видели ее переписку? – спросил Петр Александрыч, встав с дивана и пройдясь по комнате…
– Где?.. где?.. А вот где!
Прасковья Павловна подала сыну с особенною торжественностию какую-то записочку.
Он открыл ее, пробежал глазами и нахмурился.