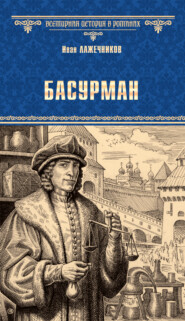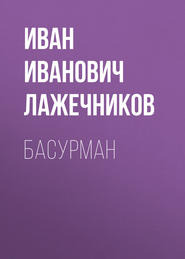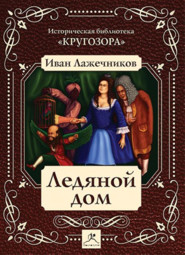По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ледяной дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто же смеет лишать вас заслуг ваших?.. Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом и… последняя милость…
– Милость моей государыни! – прервал с твердостию Волынской. – Я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее…
– Боже мой! какая азиатская гордость!.. Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог курляндский…
Бирон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула; но кабинет-министр так же гордо встретил его взор и сидя отвечал:
– Я не имею никакой должности в Курляндии.
Бирон вспыхнул, сдвинул под собою кресла так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем:
– Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества.
При этом имени Волынской тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал:
– Слушаю повеление моей государыни.
– Она подтверждает вам, сударь… чтобы вы… (не приготовив основательного удара, Бирон растерялся и искал слов) поскорее… занялись устройством ледяного дворца…
– Где будет праздноваться свадьба шута?.. – отвечал с коварной усмешкой Волынской. – Я уж имею на это приказ ее величества; мне его вчера сообщили от нее; ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употреблять меня на дела, более полезные для государства.
– Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынской. (Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился.)
– С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству!.. Доведено ли до сведения ее величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф? – продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, – у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою…
– Ужасно! – воскликнул граф Миних. – Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков! Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные?
– Всего более страдает Малороссия, – отвечал Волынской, бросив пламенный, зоркий взгляд на Бирона. (Этот сел, и кабинет-министр сел за ним.) Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру.
Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии.
– Об этом, – подхватил Остерман, – сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России. (Здесь Волынской с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал.) И, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом: государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа.
Этою лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Бирона, который, пользуясь поддержкою вице-канцлера, обратился с большею твердостью к мнимому гетману Малороссии:
– Поверьте, несчастия, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынской обманут своими корреспондентами.
– Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, – сказал Волынской. – Я имею свидетельства и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там…
– Выдумка людей беспокойных! мятежных!
– Неправда, герцог! – вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. – Волынской это подтверждает, Волынской готов засвидетельствовать это своею кровью…
Явился опять посланный из дворца, и опять за тем же.
– Сию минуту буду! – сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. – В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами…
– Ваша светлость пригласили меня, – сказал Миних, – чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск.
– Да, да, – отвечал Бирон, – господин вице-канцлер согласен на вознаграждение.
– Честь империи этого требует, – сказал Остерман. – Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в Кабинете.
– Честь империи!.. – воскликнул Волынской, – Гм! честь… как это слово употребляют во зло!.. И я скажу свое: впрочем. Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении; да, один вассал Польши!..
При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, – последний, охая и жалуясь на подагру, – оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынской не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж долее скрываться.
– За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! – вскричал вне себя Бирон, – клянусь вам честью своею.
– Отдаю вам прилагательное ваше назад! – вскричал Волынской.
– Государыня вас требует, – сказал Остерман герцогу.
– Во дворец, да! к государыне! – произнес Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: – Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.
– Очень рад, – отвечал Волынской и, не поклонясь, вышел.
Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть» – слова, произнесенные беснующимся Бироном, когда они с ним прощались.
– Я или он должен погибнуть! – повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.
– Этого гордеца надо бы хорошенько проучить, – говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынской проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.
– Его светлость! его светлость! – закричал паж.
Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошел чрез приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! «Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступи! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»
Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника и для женщин имел более привлекательности.
– Пожалуйте, – отвечали ему, – у того был только бюст хорош, а у этого… все совершенство!..
Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастию временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы ни стало», – говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное:
«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».
Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностию, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.
Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя – нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность. Кучера, лакеи, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
Глава VIII
Во дворце
Но час настал – я ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье…
Пушкин[98 - Но час настал – я ничего не помню… – из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Не вполне точная цитата: «Но час настал – и ничего не помню».]
– Милость моей государыни! – прервал с твердостию Волынской. – Я ни от кого, кроме ее, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для нее…
– Боже мой! какая азиатская гордость!.. Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог курляндский…
Бирон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове приподнимется со стула; но кабинет-министр так же гордо встретил его взор и сидя отвечал:
– Я не имею никакой должности в Курляндии.
Бирон вспыхнул, сдвинул под собою кресла так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем:
– Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества.
При этом имени Волынской тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал:
– Слушаю повеление моей государыни.
– Она подтверждает вам, сударь… чтобы вы… (не приготовив основательного удара, Бирон растерялся и искал слов) поскорее… занялись устройством ледяного дворца…
– Где будет праздноваться свадьба шута?.. – отвечал с коварной усмешкой Волынской. – Я уж имею на это приказ ее величества; мне его вчера сообщили от нее; ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употреблять меня на дела, более полезные для государства.
– Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынской. (Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился.)
– С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству!.. Доведено ли до сведения ее величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф? – продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, – у нищих выпытывают последнюю копейку, сбереженную на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою…
– Ужасно! – воскликнул граф Миних. – Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Петр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков! Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные?
– Всего более страдает Малороссия, – отвечал Волынской, бросив пламенный, зоркий взгляд на Бирона. (Этот сел, и кабинет-министр сел за ним.) Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру.
Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии.
– Об этом, – подхватил Остерман, – сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России. (Здесь Волынской с презрением посмотрел на вице-канцлера, но этот очень хладнокровно продолжал.) И, сколько мне известно, заботы его увенчиваются благоприятным успехом: государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе мечом будет уметь охранять ее спокойствие от нашествия опасного соседа.
Этою лукавою речью был несколько склонен честолюбивый Миних к стороне Бирона, который, пользуясь поддержкою вице-канцлера, обратился с большею твердостью к мнимому гетману Малороссии:
– Поверьте, несчастия, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынской обманут своими корреспондентами.
– Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, – сказал Волынской. – Я имею свидетельства и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния все свое семейство, что другой отнес трех детей своих в поле и заморозил их там…
– Выдумка людей беспокойных! мятежных!
– Неправда, герцог! – вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. – Волынской это подтверждает, Волынской готов засвидетельствовать это своею кровью…
Явился опять посланный из дворца, и опять за тем же.
– Сию минуту буду! – сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. – В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами…
– Ваша светлость пригласили меня, – сказал Миних, – чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск.
– Да, да, – отвечал Бирон, – господин вице-канцлер согласен на вознаграждение.
– Честь империи этого требует, – сказал Остерман. – Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в Кабинете.
– Честь империи!.. – воскликнул Волынской, – Гм! честь… как это слово употребляют во зло!.. И я скажу свое: впрочем. Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один вассал Польши может сделать доклад об этом вознаграждении; да, один вассал Польши!..
При слове «вассал» Миних и Остерман встали с мест своих, – последний, охая и жалуясь на подагру, – оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда еще Волынской не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж долее скрываться.
– За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! – вскричал вне себя Бирон, – клянусь вам честью своею.
– Отдаю вам прилагательное ваше назад! – вскричал Волынской.
– Государыня вас требует, – сказал Остерман герцогу.
– Во дворец, да! к государыне! – произнес Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: – Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.
– Очень рад, – отвечал Волынской и, не поклонясь, вышел.
Собеседники, смущенные этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго еще гремели слова: «Я или он должен погибнуть» – слова, произнесенные беснующимся Бироном, когда они с ним прощались.
– Я или он должен погибнуть! – повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.
– Этого гордеца надо бы хорошенько проучить, – говорили между собою стоявшие в зале, когда Волынской проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.
– Его светлость! его светлость! – закричал паж.
Возглас этот, повторенный сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался, наконец, у подъезда. Опереженный и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошел чрез приемную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! «Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступи! Проницательность во взорах! Он рожден повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»
Какой-то выскочка осмелился сказать, что Петр Великий и для художника и для женщин имел более привлекательности.
– Пожалуйте, – отвечали ему, – у того был только бюст хорош, а у этого… все совершенство!..
Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стеклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастию временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы ни стало», – говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда прочел написанное:
«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».
Эта записка имела свое действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностию, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать ее. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесенной ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.
Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя – нет муки, нет казни, которую взбешенный Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность. Кучера, лакеи, все, что подходило к карете, все, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мертвых.
Глава VIII
Во дворце
Но час настал – я ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей;
Любовь мутит мое воображенье…
Пушкин[98 - Но час настал – я ничего не помню… – из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Не вполне точная цитата: «Но час настал – и ничего не помню».]
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67