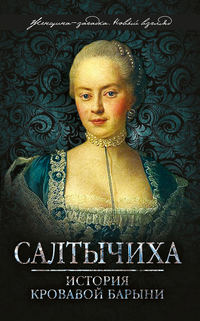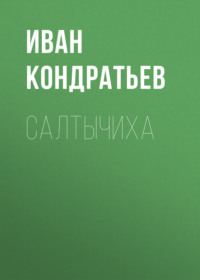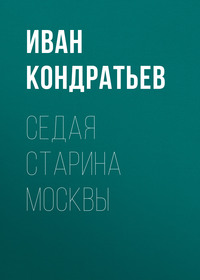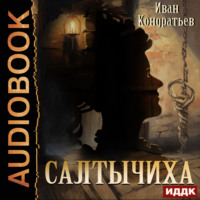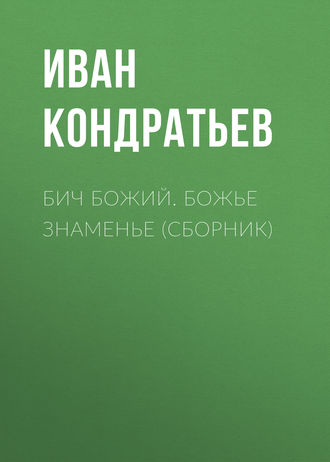
Бич Божий. Божье знаменье (сборник)
Князь поднял голову, насторожил ухо. Звуки не прекращались.
– Что это – сон? Нет, нет… – прошептал князь и вдруг, порывисто встав, направился в ту сторону, откуда слышалась игра на цимбалах…
X. На склоне лет
В ее очах, алмазных и приветных,Увидел он, с невольным торжеством,Земной эдем!.. Как будто существомДругих миров – как будто божествомИсполнен был в видениях заветных.ПолежаевС того самого утра, как граф Валевский, встретившись с Уленькой, выпил у нее несколько чашек кофе, те маленькие комнатки, где она помещалась, необыкновенно преобразились. Прежде пустые и скучноватые, они теперь были наполнены всякого рода дорогими безделушками и дышали той уютной роскошью, которой умеют обставлять свои жилища только одни женщины. С радостью, свойственной неожиданно разбогатевшему человеку, Уленька по нескольку раз в день, на первых порах, пересматривала и перебирала особенно нравившиеся ей вещицы, вертела их в руках, любовалась ими, старалась разгадать, как и из чего они были сделаны. При этом цыганская порода ее сказалась вполне: она более всего восхищалась блестящими или ярко раскрашенными предметами. Красный цвет она предпочитала всем другим.
Граф Ромуальд от души смеялся над этим вкусом своей певицы и не препятствовал ей обставлять комнаты по ее желанию.
Изменилась несколько и сама Уленька. Она стала более резвой и веселой, играла и пела более чем прежде. Граф Валевский по целым часам слушал ее, молча и улыбаясь. Ему нравилась эта маленькая идиллия, начатая так недавно и так мило отзывавшаяся в его сердце.
В первое утро граф просто хотел пошалить, как он шалил обыкновенно, где бы ни был, но в то же утро к шалости примешалось какое-то новое чувство, которое не покинуло его и доселе.
Граф до мельчайших подробностей помнил все, что произошло в то утро.
Уля ввела его в свою комнатку и не знала, где посадить. В комнатке было бедно. Бледный свет утра, пробивавшийся сквозь небольшие окна, ложился на все матовыми полосами и еще более увеличивал ее невзрачность. Оглянувшись, граф брезгливо поморщился. Он никогда не заглядывал в жилища своих служащих и потому не знал, как они живут. Граф довольствовался одной наружной красотой их помещений и полагал, что и внутри так же хорошо, как и снаружи. Он оглядывался и не знал, где присесть. В комнатке стояли только табуретик да скамейка у небольшого столика. Граф уже сожалел о том, что вошел в такое помещение.
Сконфуженная и растерявшаяся Уля суетилась.
– Туто вот, пан, туто, – указывала она на скамеечку и покрыла скамеечку маленьким ковриком.
Граф не садился. Тонкая неподвижная улыбка не сходила с его губ. Он все оглядывался.
– О, граф! Тут у меня все так не хорошо, не прибрано, – извинялась Уля, – да я ж не знала, что граф заглянет ко мне, а то я бы прибрала.
Уля говорила своим порывистым, но мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели. Звуки этого голоса как-то странно, но вместе с тем приятно щекотали ухо графа. Он сел на скамеечку, но осторожно и медленно.
Рассветало все более и более.
– О, я сейчас, сейчас подам графу кофе! – сказала Уля и скрылась за дверью, шелестя своим платьицем.
Не переставая улыбаться, точно какая-то забавная мысль не покидала его, граф обернулся к окну и совершенно машинально распахнул его. В ту же минуту с соседних деревьев, с громким щебетаньем, сорвалась многочисленная стая воробьев и уселась, толкаясь и пища, на подоконниках флигелька. Более всего их вертелось у распахнутого оконца; некоторые, более смелые, совсем-таки лезли к рукам графа. Невообразимо безалаберный писк одушевлял всю эту массу маленьких храбрецов. С каждой минутой их прибывало все более и более – они сыпались откуда-то точно проливной дождь.
– Вполне идиллия! – произнес граф, отыскивая глазами, что бы можно было посыпать крикливым гостям.
На глаза ничего не попадалось. Вошла Уля с засученными по локоть рукавами. Опытный глаз Валевского сейчас же заметил красоту этих засученных рук.
– Прочь, прочь вы, негодные! – замахала Уля руками на воробьев. – Прочь, а вот я ж вас! А вот я ж вас! – продолжала она махать руками, так как воробьи и не думали покидать окна, а, напротив, несколько из них, из назойливейших, влетели даже в комнатку и шныряли повсюду.
Графа это заняло.
– Нет, вы не гоните их, зачем же?
– Да ведь они ж мешают графу.
– Нисколько, право, нисколько, – говорил граф, следя за изгибами махающих Улиных рук. – Им бы что-нибудь посыпать, хлеба, зерен. У вас есть?
– Вот тут хлеб – крошки, вот они.
Уля вытащила из-под столика ящик с крошками хлеба и метнула горсть за окно. Часть воробьев, шурша крыльями, устремилась туда.
– А, да это занимательно! – сказал граф. – Позвольте мне самому их накормить, а вы уж похлопочите о кофе.
Почти с полчаса граф возился с воробьями: кидал им крошки, прислушивался к гневному их щебету, любовался их возней. Чашка кофе уже стояла перед ним, а сама Уленька, как-то успевшая переодеться, ожидала, когда граф перестанет забавляться прирученными ею буянами-воробьями.
Наконец граф обернулся к Уленьке:
– О, да сколько у вас друзей, моя маленькая! Право, я вам завидую. В таком пернатом обществе, с такими крикунами, я думаю, вам превесело.
Уля, краснея, объяснила, что воробьи ее очень любят и каждое утро и каждый вечер собираются у ее окон и что они, правда, много развлекают ее.
Граф прихлебывал кофе и не сводил глаз с Уленьки. Сверх ожидания, кофе оказался превосходным. Граф попросил другую чашку. Уленька торопливо принесла. За второй граф выпил третью чашку. Комнатка бедной певицы начала казаться ему занимательной, даже в своем роде приятной.
«Странно, – думал он, – что я до сих пор не обращал на эту девушку внимания! Черты ее лица очень хороши и напоминают облики древних изваяний. Плебейка – и такое сокровище! Впрочем, тип у нее несколько цыганский, однако ж она напоминает и нечто греческое или, в крайнем случае, грузинское, вообще – что-то восточное».
Он еще внимательнее, точно вещь, начал разглядывать Улю. Та поняла это и зарделась до ушей, не опуская, впрочем, глаз, в которых сверкало что-то смелое до дерзости.
Граф почувствовал, что кровь приливает ему в голову, а все тело охватывает какое-то восторженное опьянение. Он встал, прошелся раза два по комнатке и сел рядом с Уленькой. Та не шелохнулась на своем месте. Граф взял ее за руку. Рука Уленьки горела, как в огне. Не то с удивлением, не то с испугом она смотрела на графа во все свои глаза и недоумевала, что с ним такое сталось.
Граф между тем был в совершенно возбужденном состоянии, что случалось с ним довольно редко. Он часто брался за голову, нервно вздрагивал и так же нервно улыбался. Уля стала страшиться за графа: ей показалось, что он болен. Она стала выражать нетерпение. В самом деле, глаза у графа в эти минуты были почти помешаны, руки судорожно дрожали, все тело вздрагивало.
Уля вдруг встала. Сильное смущение было заметно во всей ее фигуре, во всех ее движениях.
– С вами недоброе делается, граф! – сказала она дрожащим голосом.
– Что?.. Что?.. – как бы очнулся граф и медленно встал.
– Я пойду… позову людей…
– Людей? Зачем! Не надо! – проговорил торопливо граф. – Я один с тобой хочу быть, один! И ты не уходи. Садись.
Граф посадил Улю на прежнее место. Та беспрекословно села, но лицо ее мгновенно нахмурилось и приняло какой-то своеобразный, решительный вид.
– А! Ты, вижу, зла, любишь кусаться! – начал граф каким-то прерывистым голосом. – Зачем это? Не будь злой. Я злых не люблю…
– Граф! Граф! – прошептала Уля. – Я девушка безродная, я одна, я девушка бедная…
– Бедная? Какой вздор! Ты так же богата, как и я… Не ты у меня в гостях – я у тебя. Да, тебя зовут Улей – Ульяной по-русски… Какой вздор!.. Ульяна… Совсем незвучно… Я буду звать тебя Реввекой… Ты не еврейка, но это все равно, по крайней мере – поэтично и звучно… Тебе нравится имя Реввека, скажи? – приставал граф… – Реввека и Ромуальд?! Как прекрасно! Это все равно что – Ромео и Юлия!
Уля не понимала графа. Она все более и более таращила на него глаза, что еще более раздражало графа. Граф очень хорошо понимал, что с ним происходит, и, радуясь этому настроению, проявлявшемуся у него весьма редко, как можно долее намеревался продлить его. Это было с его стороны нечто искусственное, но в то же время для него невыразимо приятное.
– Да, я буду тебя звать Реввекой! – повторил граф. – А ты… ты просто зови меня Ромуальдом. Я для тебя не граф теперь, ты для меня – не бедная певица, не танцорка, не плясунья театральная, ты для меня теперь – нечто больше всего этого… несравненно больше… Постой! Что же ты молчишь, не отвечаешь ничего? – медленно взял граф Улю за руку. – Реввека, говори со мной!
Уля низко опустила голову, пылая вся в лице и стараясь сохранить спокойный вид.
– О, граф! Я бедная девушка… – снова чуть слышно произнесла она и немного отвернулась от графа, так, что ему она видна стала вполуоборот.
«Какой профиль! – мысленно восклицал граф. – Нет, нет, я не могу поверить, чтобы она была простой плясуньей. Тысячу раз допускаю, что она нечто выше этого»!
Граф быстро шагнул к Уленьке и крепко взял ее за плечо. Та вздрогнула и стала на ноги.
– О, точно, точно Реввека! – воскликнул граф с невыразимой страстностью, откинув голову несколько назад, но не снимая с Уленькиного плеча руки. – Античная красавица вполне! Га, черт возьми! – закричал он вдруг громко, волнуясь и порывисто дыша, – красота не должна быть в дрянном одеянии! Прочь все! Долой все!
На Валевского нашло какое-то жгучее исступление. Рука его судорожно смяла в комок находившееся под ней полотно сорочки – и плечо Уленьки обнажилось.
Уленька не вскрикнула, не подала ни малейшего голоса негодования, но здоровые пальцы ее с дикой яростью впились в борт графской венгерки… Несколько мгновений граф почти задыхался…
– О, прелестное утро! Прелестное утро! – восклицал после этого утра часто Валевский.
Почему-то осталась довольна тем утром и сама Уленька. Для нее то утро тоже прошло в каком-то угаре, и при воспоминании о нем она вся вспыхивала от удовольствия.
Для графа Валевского сделалось чем-то необходимым посещать каждым утром – именно утром – свою Реввеку. Уленька-Реввека встречала его с той простой, милой предупредительностью, которою в совершенстве обладают любимые и влюбленные женщины. Во всем замке и в окружности еще никому не было известно об отношениях графа к своей певице, хотя ни граф, ни сама Уленька вовсе не старались придавать этому особенной таинственности: граф потому, что вообще человек был бесцеремонный и открытый, Уленька – по своей врожденной простоте. Таинственность соблюдалась как-то сама собою. Впрочем, если бы отношения графа к певице и стали известны, то едва ли бы ими так интересовались, как в обыкновенное время: все были заняты Наполеоном, его войсками, предстоящими битвами, и всякий втихомолку, а то и открыто дрожал за свое имущество и за свою шкуру. Переход Багратионовой армии через Веселые Ясени еще более усугубил этот страх, все приутихло и попряталось, ожидая грозы.
Не обращал ни на что внимания один владелец Веселых Ясеней и более чем когда-либо жил беспечно и забывался до опьянения в маленькой комнатке своей Реввеки, которая на склоне его лет дарила ему такие жгучие ласки, каких он не испытывал и в лучшую, молодую пору своей жизни.
– А, ты уж проснулась, моя Реввека, моя ранняя птичка! – приветствовал граф Уленьку, пробравшись к ней в утро выхода Багратионовой армии из Веселых Ясеней.
– Проснулась и ждала тебя, Ромуальд! – встретила его Уленька в утренней полосатой курточке резвым и вкусным поцелуем в левую щеку.
– Ну, и прекрасно! Ну, и прекрасно! – целовал обе ее руки граф, светло и хорошо улыбаясь.
– Ах! – вдруг воскликнула Уленька. – Зачем это сюда столько солдат нашло? Так много, и все такие запыленные, сердитые! Я видела.
– На войну идут, – удовлетворил ее любопытство граф. – Драться будут с Наполеоном.
– На войну! Драться!
– Пойдут подерутся, порежут друг друга, мертвых всех – похоронят, а живые все – разойдутся, кому куда нужно.
– Ах! Ах! – восклицала наивно Уленька. – Как страшно! В Москве я у солдата жила, так он тоже про войну рассказывал. Я, бывало, всегда пряталась и плакала, когда он начинал показывать, как на штыки идут. И теперь будут на штыки?
– Всего будет довольно. Впрочем, все это вздор! – сказал граф и обнял Уленьку за стан. – Ты лучше спой мне что-нибудь потихоньку или сыграй на своих цимбалах. Нынче я плохо спал. Вздремну, может быть, под твою игру.
– О, то добже, пан! – воскликнула весело Уленька. – Ложись, слушай… Я буду играть…
Через минуту Уленька сидела уже на полу, подстелив коврик, с цимбалами на коленях. Она поместилась у ног развалившегося на диванчике графа.
Струны на цимбалах дрогнули – Уля начала играть. Сперва она бренчала довольно равнодушно, сдержанно; но заунывные страстные звуки родных песен расшевелили ее понемногу, руки быстро забегали по струнам – и она заиграла громко и увлекательно.
– Хорошо! Хорошо! – шептал граф, любуясь виртуозкой, поминутно встряхивавшей своими густыми кудрями.
В самый разгар игры, когда, казалось, звуки метались, как шальные, то ноя, то взвизгивая, то замирая, чтобы разразиться с новою силою, на пороге появился князь Багратион…
XI. Перед грозой
…Как! к нам? милости просим, хоть на Масленице, да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой.
РастопчинВесна двенадцатого года в Москве стояла прекрасная. Вся утопающая в садах, первопрестольная столица утопала в это время и в удовольствиях, даже более чем когда-либо.
Так называемый большой свет предавался обычным увеселениям. В Английском и в танцевальных клубах шла игра в вист, бостон, лябет. Ежедневно у кого-нибудь из высшего света давался бал или устраивалась вечеринка. На них гости, как и в другое время, беспечно танцевали экосезы, матрадуры и полонезы и вели изящные речи на французском языке, так как среди этого общества преобладал еще тон старой Франции, тон эмигрантов, графов и маркизов. Приверженность к французам была еще полная. Говорить по-русски в гостиных считалось еще дурным тоном. Повсюду сновали франты, которых называли тогда «петиметрами». Они щеголяли в шляпах а ла Сандрильон, в пышных жабо с батистовыми брыжами, с хлыстиками или с витыми из китового уса тросточками, украшенными масонскими молоточками. Многие, особенно изысканные щеголи, ходили во фраках василькового, кофейного или бутылочного цвета, в узких гороховых панталонах, а сверх них в сапогах с кисточками. Дамы-франтихи являлись везде в платьях с высокой талией, с короткими рукавами и в длинных, по локоть, перчатках… Более благочестивые дамы, по общепринятому тогда обыкновению, щипали корпию, кроили и шили перевязки для раненых. В таких домах редкая комната, даже из парадных, не была завалена бинтами и засорена обрезками холста и полотна. Глядя на мамаш, занимались этим и маленькие дети. Некоторые ударились в богомолье и езжали в дальние монастыри. В театре шли патриотические пьесы: «Наталья, боярская дочь», «Илья Богатырь», «Иван Сусанин», «Добрые солдаты». Простонародье веселилось по-своему: забиралось в Нескучный сад, где давались волшебные представления. Шло в Государев, ныне кадетский в Лефортове, сад, где постоянно гремела роговая музыка и пелось «Гром победы, раздавайся» с пушечными выстрелами. Степенные купцы облюбовали только что устроенный тогда первый московский бульвар, усаженный новыми березками, – Тверской. Более веселого характера купчики катали в Марьину рощу, где в красивой палатке, на их усладу, гикали и плясали цыгане.
О политике мало кто думал. Интересующиеся этим предметом усердно читали «Московские ведомости», но в них слишком осторожно и только вскользь писали о движении наполеоновских полчищ. Никто, по словам одного современника, в высшем московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны, тем более никто не мог предвидеть ее исхода. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этой войной, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после она ознаменовала себя. В обществе были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск во внутрь России, но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось на виду у всех. Мысль о том, что Наполеон будет в Москве или Москва будет ему сдана, никому и в голову не приходила. Простонародье, так то просто грозилось закидать французов шапками.
Все это было весьма естественно: ясное понятие о настоящем редко бывает уделом человечества. В таком случае прозорливости много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Пора действия и волнений не есть пора суда.
Собиралось ополчение, но покуда довольно вяло и как бы шутя. На народных гуляньях, у Новоспасского и Андроньева монастырей, устроены были красивые военные палатки, вокруг которых гремела музыка, а внутри их блестели разное оружие и военные доспехи, уставленные пирамидами. Вербовались охотники в военную службу: новобранцев из простолюдинов принимали унтер-офицерами. Посредине палатки стоял стол, покрытый красным сукном, обшитым золотым галуном с кистями, а на столе лежала книга в пунцовом бархатном переплете, с гербом Русской империи: охотники вписывали в эту книгу свои имена. Купечество на этот счет пожертвовало полтора миллиона рублей.
Граф Матвей Мамонов, богатый и честолюбивый юноша, вызвался сформировать на свой кошт целый конный полк, который бы состоял под его начальством. Ему дано было позволение, и вот сформировался полк в синих казакинах, с голубою выпушкою, в шапках с белым султаном и голубою, мешком свисшею, тульей. Эти сорванцы более занимались пирушкою по московским трактирам, чем подготовлением к предстоящей боевой жизни. О их удалых проделках ходило немало рассказов по Москве. Полк этот впоследствии ни в каком действии не был, отличался своеволием, сжег даже одно русское селение, за что главнокомандующий сделал Мамонову строгий выговор, а полк был расформирован.
Подобных ополченцев набралось тысяч до шести. Вместо знамен им дали хоругви из церкви Спаса во Спасской.
В Петербурге смотрели на вторжение Наполеона в Россию посерьезнее, и потому престарелый главнокомандующий Москвы, граф Гудович, заменен был графом Растопчиным. Все как-то сразу почуяли, что человек этот в данное время самый подходящий, необходимый. Страстный, пылкий, самолюбивый, всегда себе на уме, граф мог решиться на все, что и требовалось в то время от главнокомандующего такого города, как Москва.
Поздравляя Растопчина с назначением, Карамзин, в то время проживавший у графа, выразился:
– Граф, вы едва ли не Калиф на час.
– Точно, Калиф на час, милостивейший Николай Михайлович, но лучше быть Калифом на час, чем графом не у дел на всю жизнь.
– И вы назначением довольны?
– Весьма.
– Что ж вы будете делать, граф? Теперь обстоятельства сложны, на Москву будут смотреть, а то, быть может, уж и смотрят во все глаза российские. Вам трудно.
– Нисколько, – отвечал граф. – А что я буду делать, это я вам, как историку, скажу: я, Николай Михайлович, буду… как думаете, что я буду?..
– Скажите, граф.
– Буду… – засмеялся Растопчин. – Да ничего я не буду… Впрочем, чего нам надо ожидать от Бонапарта, я подавал записку еще покойному императору Павлу. Проще: Бонапарт будет у нас в Москве.
Историк даже испугался такой мысли.
– Граф, что вы говорите такое?
– Прошу, чтоб это было между нами, добрейший Николай Михайлович. С другими я не делюсь подобными мыслями. Вам это я сказал опять-таки как историку.
– Но это невозможно! – воскликнул, всегда сдержанный, Карамзин.
– Что такое невозможно! – шутил граф. – Невозможно, чтоб Бонапарт заглянул в нашу первопрестольную столицу? Хе, хе, Николай Михайлович. Вот и видно, что вы не военная косточка. Я еще покойному императору Павлу самолично докладывал, что Бонапарт заглянет-таки в нашу хату, да хорошенько заглянет – в самый наш наилучший уголок.
– Что ж император?
– А император сказал, что мы напустим на него нашего старичка Суворова. Я осмелился спросить у его величества: «А коли Суворова не будет?» Император рассмеялся. «Тогда, – говорит, – пущу в ход тебя».
– Стало быть, и ваше пророчество и пророчество покойного императора Павла несколько сбываются?
– Мое – пожалуй, а другое – не знаю. Покуда ждем спасения от Барклая. Может статься, и поможет чем. Говорят, Дрисский лагерь хорош. Может быть, Наполеон попьет в Двине водицы, да и повернет оглобли назад. А мы тут свою водицу замутим… русскую…
– Граф, вы шутите, – сказал Карамзин.
– Шучу, точно, да ведь с шуточкой-прибауточкой русский человек далеко идет. И покойный старичок Суворов шутил, а Измаилы брал-таки, Сен-Готарды перешагивал-таки! То-то, подите, шажок-то был у шутника!
Граф Растопчин, точно, начал шутить по-своему.
Какой-то немец, с пособием от правительства, начал надувать у Симонова монастыря шар. Работа производилась таинственно, за оградой, но народ бегал туда тысячами и хотя видел мало, зато говорил много. Про будущие действия шара рассказывали чудеса. Народ это забавляло.
Императорские манифесты из Вильно заставили москвичей взглянуть на дело с большим рассудком. Народ вдруг почуял что-то недоброе. Надвигавшаяся туча заставила всех креститься и оглянуться вокруг. Народ зашумел, заволновался. По Смоленской дороге в Москву начали день и ночь летать курьерские тройки, направляясь к главнокомандующему. Потихоньку, кое-что, начали из Москвы вывозить.
«Не к добру это, – пошел гул по Москве. – Не обмануло Божье знаменье: быть беде».
Кто побогаче, стали из Москвы потихоньку убираться.
– Пора! – сказал Растопчин, получая от главнокомандующего все более и более тревожные вести.
– Чево такова пора! – пристал к нему шут его, Махалов, услышав такую фразу за бильярдной игрой.
– А пока, братец, карамболь по всем!
– А ну-ка, попробуй, графинька! – понял шут графа по-своему.
Доиграв партию с шутом, довольно-таки преглуповатым малым, и заставив его за проигранную партию пролезть несколько раз под бильярд, граф отправился в свой кабинет и проработал всю ночь.
Наутро первого июля вся Москва читала невиданный доселе Листок.
Листок произвел эффект необыкновенный. Простонародье разбирало его нарасхват. Высшее общество, в котором граф по своему происхождению вращался, было о нем далеко не высокого мнения и назначение главнокомандующим встретило с недоверием. Бойкий, по-своему, Листок заставил некоторых изменить о графе свое мнение, в которых граф, впрочем, не нуждался.
В то же утро, с Листком в руках, Карамзин пришел к Растопчину.
– Граф, я читал ваш Листок.
– Ну?
– Вы уверяете, что неприятель в Москве не будет.
– Уверяю, – с легкой усмешкой проговорил Растопчин, открыто глядя на Карамзина.
Оба помолчали. Затем Карамзин, которому не понравился ни слог, ни приемы Летучего Листка, под предлогом, что граф обременен делами и заботами первой важности, предложил ему писать подобные Листки за него, как бы в благодарность за оказанное гостеприимство. Растопчин любезно отклонил это предложение, заметив:
– Николай Михайлович, русский народ не афиняне и – уверяю вас – не поймет плавной и звучной речи Демосфена.
– Да, вы правы, граф, – согласился, подумав, Карамзин. – У вас в Листке есть еще другая мысль: падение Наполеона. Точно, граф, я и сам верю этому: будучи обязан всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет.
XII. Царский клич
И Я стану посреди вас!
Изреч. императора Александра IПриезд императора Александра из армии в Москву был положительно сигналом того, что война с Наполеоном приняла характер войны народной. День приезда – двенадцатое июля – стал днем незабвенным и принадлежащим истории.
До того времени война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона.
Все колебания, все недоумения с приездом государя исчезли. Все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторгнувшегося неприятеля.
Народ массами собрался встречать государя на Смоленской дороге, но государь, желая избежать торжественной встречи, проехал в Кремль ночью, никем не замеченный. В то время государю было не до торжественных встреч. На другой день народ увидал своего монарха в Кремле, и совершилось шествие в Успенский собор. Были произнесены подобающие случаю речи.