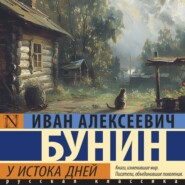По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник 1917–1918 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одиннадцать часов вечера, что-то не слышно.
4 ноября
Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов «Мирный договор». Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль – требовать оружие. Всем существом понял: что такое вступление скота и зверя победителя в город. «Вобче, безусловно!» Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости – страшное чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбиты стекла и т. д. Назад, по Поварской – автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.
Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венец всего! Разгромили людоеды Москву!
Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, пошли в книгоиздательство. Заперто. Богданов у Никитских ворот, нрзб. 1 сл. Цинизм!!
Вечером был у Пушешниковых. Купил «Новую жизнь» несколько номеров. Сейчас читал номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков. Луначарский мерзавец. Достигнуто «Соглашение» нрзб. Женский батальон в Петербурге насиловали. Из Москвы бегут юнкера, публика. И – «Соглашение»!
Командующий войсками Московского округа – солдат Муралов. Комиссар театров – Е. К. Малиновская. Старк тоже комиссар. О Боже! Вишневский из Малого театра говорил, как запаскудили Малый театр. Разгромлен, разграблен Зимний дворец. Из Москвы бегут – говорят о «Варфоломеевской ночи». Восемь месяцев!
11 ноября
Нынче опять нет газет – опять праздновали вчера. Вчера хоронили «борцов» большевиков. В «Известиях В. -Рев. Комит.»: «Не плачьте над трупами павших борцов». Часа в два эти борцы – солдаты и «красная гвардия» возвращались с похорон по Поварской, между прочим. Вид – пещерных людей. Среди Москвы зарыли чуть не тысячу трупов.
Вчера самое ошеломляющее: Ленин сместил Духонина, назначил верховным главнокомандующим Крыленко. Да… Троцкий за Россию заключает мир! Того хочет сам русский народ!
Дни грязные, со снегом, с таянием.
21 ноября. 12 ч. ночи
Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность – ощущение запахов и пр. – это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она теперь. О Боже, Боже. Нынче ужас, нрзб. 1 сл. Убит Духонин, взята ставка и т. д.
Возведен патриарх «всея Руси» на престол нынче – кому это нужно?!
18 января 1918
Мокрая погода. Заседание в книгоиздательстве – по обыкновению, мерзкое впечатление. Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников «Слово» и против авансов (значит, главное – против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда «авторам за их книги не платят полностью». Уникум сверхъестественный, такого…, как Шмелев, я не видывал.
С утра расстроила «Власть народа» – «Киев взят большевиками». В других газетах этого нет.
Была Маня Устинова – приглашала читать у Лосевой. Говорила про А. Толстого: «Хам, без мыла влезет где надо, прибивается к богатым» и т. д. Провожал ее. Москва так мерзка, что страшно смотреть. Вечером у Мити. Юлий рассказывал, какой ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где он чай вздумал пить.
Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен. Народ выходил из кинематографа, когда я нынче возвратился, – какой страшный плебей! Поварская темна. Теперь, местами, когда темно, город очень хорош, заграничный какой-то.
16/29 апреля
День серый, а то и все время чудесная погода. Был в сберегательной кассе, лучше все выбрать, в дикарских странах банки и кассы – нрзб, прежде умней были – в землю зарывали. Чиновник, жалкая нрзб, в очках, весь день пьет чай за своим барьером. Уверен – очень доволен жизнью, главное – служебными часами.
Лакей лет двадцати пяти, грек или полугрек, можно – одессит, можно – пароходный лакей. Довольно высок, длинные ноги, пиджачная черная парочка, волосы черные – на косой ряд, завитком, коком, как у какого-нибудь лаборанта, надо лбом, пенсне, большой кадык, служит очень молчаливо, вечная сдержанность, вечное мысленное пожимание плечом – «что ж, делать нечего, будем лакеем!». Может стать преступником.
Одесса, весна, часов двенадцать ночи, чистая, пустая уже улица – приятно идти. Свежая зелень каштанов, в ней – фонари. Еврей, небольшой, кругленький, довольно приятный даже, идет, снял шляпу. Превосходное расположение духа. Был в гостях, там в гостиной на четвертом этаже, с отворенной на балкон дверью, пела молодая женщина с большой грудью. Гостиная тесная, противная, мерзкие картины в тяжелых багетах, атласные пуфы и т. д. нрзб. В «Парус» (для альманаха) послал (уже недели две тому назад): «Золотыми цветут остриями…», «Стали дымом…», «Тает, сияет…», «Что впереди» и «Мы рядом шли…».
12 ч. ночи 17/30 апреля
Утром отвратительное ощущение – ходил в Лионский кредит, в сейф за чековой книжкой. Со зла взял из ящика все – черновики, письма, столовое серебро и т. д. – оставил только бумагу в 500 р. – кажется, военный заем. Скандал – у Глобы пропало кольцо бриллиантовое ценой тысяч в десять. Хам, который его, очевидно, украл, – начальство от большевиков, ужасно орал и все твердил одно: если бы оно тут было, то оно бы и было тут.
Москву украшают. Непередаваемое впечатление – какой цинизм, какое… издевательство над этим скотом – русским народом! Это этот-то народ, дикарь, свинья, грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать интернационалистический праздник! А это хамское, несказанно-нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик… И как раз нынче известие о взятии турками Карса! А завтра, в день предания Христа – торжество предателей России!
Вечером у Авиловых. Слава Богу, дождь! Если бы и завтра, да сколь возможно проливной! Вот уж поистине все чуда ждешь, – так страшно изболела душа! Хоть бы их гроза убила, потоп залил! Говорят, возмущенных этим стаскиванием памятников очень много. (Да какой там черт, это наше возмущение!) «Немцы (или турки) приказали стащить!» Домовой комитет наш трусит, – ищет красной материи на флаги, боится, что не исполнит приказания «праздновать» и пострадает. И во всей Москве так. Будь проклят день моего рождения в этой проклятой стране!
А Айхенвальд – да и не один он – всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, «нежный рыцарь Прекрасной Дамы», стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукиных сына, два набитых дурака!
1 мая, 12 ч. дня
С утра серо, холодно. Сейчас проглядывает и тает солнце. Чудовищно-скотские подробности поведения Дыбенко (началось его дело). Идиотски-риторические вопли Андрея Белого в «Жизни» по поводу 1-го мая. Вообще газета эта верх пошлости и бесстыдства. А меж тем в ней чуть не все наши знаменитости. Негодяи!
* * *
Везет им! День очень хороший, солнечный, хотя сильно прохладный. Выходил, был на Арбатской площади, на Никитской. Город довольно чист и очень довольно пуст. Оживления в толпе, на лицах нет. Был Цетлин (Мих. Осип. – 1-51-88), приглашает в эсеровскую газету (Бунаков, Вишняк и т. д.). Литературный отдел все тоже очень сплачивающаяся за последнее время… компания – Гершензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т. д. Дал согласие – что делать! Где же печататься, чем жить? Спрашиваю: «Отчего нет Бальмонта?» – «Да он, видите ли, настроен очень антисоциалистически».
2/19 мая, 11 ч. вечера
Воротился в десять от Юлия. Фонарей нет – зато вчера праздновали – горели до двенадцати, против всякого обыкновения. Темно на Арбате, на площади – на Поварской-то всегда с десяти темно. Противно бешенство хрюкающих автомобилей, на площади костерчик вдали, грохот телег ломовых – в темноте не тот, что при огне. Дома высоки.
День прохладный, но теплый, солнце, облака. В двенадцать был в книгоиздательстве – Клестов говорит, что они хотят отменить торговлю – всякую… Потом – к Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию, – моментально принял. Сперва хотел держаться официально – смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяческое содействие. Можно и в Японию, «можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию…».
Два раза был в «Новой жизни» на Знаменке. «Это помещение занято редакцией „Новой жизни“ по постановлению такого-то комиссариата» – это на дверях. Однако, когда я был там в пять часов, их, оказывается, хотят «вышибать» латыши. «Могут и стрелять – от латышей всего можно ждать». Когда выходил – бешеный автомобиль к их дверям, солдаты, винтовки. В редакции барышня-еврейка, потом Моисей Яковлевич (смесь кавказца с евреем), еще какой-то грязный тощий еврей (не Авилов ли?), Базаров – плебейского вида остолоп, Суханов. У Фриче все служащие тоже евреи.
В шестом часу был с Верой у Коган. Коган перековал язычок – уже ругает большевиков. Бессовестный!.. Лариса вышла за Альтрозера.
Надежда Алексеевна была в «Метрополе» у Рейснеров. Рейснеры будто бы все стараются держаться аристократами, старик будто бы барон и т. д.
Идя к Коганам, развернул «Вечернюю жизнь» – взята Феодосия! Севастополь «в критическом положении». Каково! Взят Карс, Батум, Ардаган, а по Поварской нынче автомобиль с турецким флагом! Что за адская чепуха! Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят!
Митя был на Красной площади. Народ, солдаты стреляют, разгоняют. Народ волнуется, толпится против башни, на которой вчера завесили кумачом икону, а кумач на месте иконы истлел, исчезал, вываливался. Чудо!
4 мая (21 апреля)
Великая суббота. Интеллигенты – даже из купцов – никогда не упускали случая похвастаться, что пострадал за студенческие беспорядки и т. п.
12 ч. 45 м. ночи
Вчера были с Колей против Никольских ворот. Народ смотрит на них с Никольской, кучка стоит на углу Музея. Мы стояли там. Одни – «чудо», другие его отрицают: гнусный солдат латыш, отвратительное животное еврей студент, технолог, что ли; в кучке этой еще несколько (безмолвствующих, видимо, желающих понять «как дело») евреев. Меня называли «чиновником старого режима» за то, что я сказал студенту, что нечего ему, нерусскому, тут быть. Потом суматоха – солдаты погнали в шею какого-то купца. Студент кричал на меня: «Николаевщиной пахнет!» – науськивал на меня. Злоба, боль. Чувства самые черносотенные.
В шесть у Ушаковой. Она рассказывала, что в Киеве офицерам прибивали гвоздями погоны.
Сегодня опять 37 – я почти всю зиму болел в этой яме. Боже, Господи, какая зима! И совершенно некуда деться!
Немцы мордуют раду. «Самостийность», кажется, им уже не нужна больше. Чувство острого злорадства.
Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке – «Никола на курьей ножке». Красота этого еще уцелевшего островка среди моря скотов и убийц, красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз – всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа и чем жива она – единственно этим! – так поразила, что я плакал – ужасно, горько и сладко!
Сейчас был с Верой там же. «Христос воскресе!» Никогда не встречал эту ночь с таким чувством! Прежде был холоден.
На улицах – полная тьма. Хоть бы один фонарь дали, мерзавцы! А 1-го мая велели жечь огонь до 12 ч. ночи.