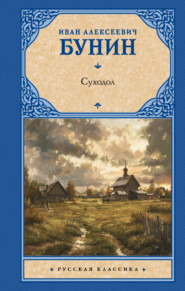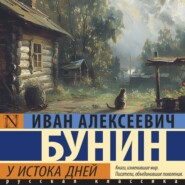По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чаша жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А помните, сударь, Анну Григорьевну?
– Помню, – сказал Капитон Иваныч.
– Умерла-с. Великим постом схоронили.
Целый день потом Капитон Иваныч неопределенно улыбался. А вечером… Вечер настал такой тихий и грустный!
Капитон Иваныч не стал ужинать, не лег спать рано, как ложился обыкновенно. Он свернул толстую папиросу из черного крепкого табаку и все сидел у окна, поджав под себя одну ногу.
Ему хотелось куда-то пойти. Как человек, привыкший все спокойно обдумывать, он спрашивал себя: «Куда?» Разве перепелов ловить? Но заря уже прошла, да и идти не с кем. Семен нынче в ночном… Да и что перепела!
Он вздыхал и почесывал свой давно не бритый подбородок.
Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь! Давно ли был он мальчиком, юношей? Школа кантонистов – хорошо, что теперь их нет более! – холод, голод, поездки к тетке… Вот был человек! Он отлично помнил ее, старую худую деву с растрепанными, сухими черными волосами, с безумными глазами, – говорили, от несчастной любви сошла с ума, – помнил, как она, по старой институтской привычке, твердила наизусть французские басни, закатывая глаза и делая блаженную, важную физиономию; помнил и «Полонез» Огинского… Страстно и необычно звучал он, потому что с безумной страстью играла его старая дева… Ах, этот полонез! И она играла его…
Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шепот-треск… В зале стоят старинные фортепианы. Там открыты окна… Если бы туда вошла теперь она, легкая, как привидение, и заиграла, тронула старые звонко-отзывчивые клавиши! А потом они вышли бы из дома и пошли рядом полевой дорогою, между ржами, прямо туда, где далеко-далеко брезжит свет запада…
Капитон Иваныч поймал себя и усмехнулся.
– Расфа-нта-зировался… – протянул он вслух.
Трещали кузнечики в тихом вечернем воздухе, и из сада пахло лопухами, бледной, высокой «зарей» и крапивой. И этот запах напоминал – вечера, когда он приезжал домой, из города, и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.
Ни одного огонька не светилось на деревне, когда он поднимался в гору. Все спало под открытым звездным небом. Темны и теплы были апрельские ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили в прудах дремотную, чуть звенящую музыку, которая так идет к ранней весне… И долго не спалось ему тогда на соломе, в садовом шалаше! По часам следил он за каждым огоньком, что мерцал и пропадал в мутно-молочном тумане дальних лощин; если оттуда с забытого пруда долетал иногда крик цапли – таинственным казался этот крик и таинственно стояла темнота в аллеях… А когда перед зарею, охваченный сочной свежестью сада, он открывал глаза – сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядели целомудренные предутренние звезды…
Капитон Иваныч встал и пошел по дому. Шаги его отдавались по комнатам, полы кое-где гнулись и скрипели.
«Восемьдесят лет домику! – думал Капитон Иваныч. – Вот осенью надо звать плотников, а то холод зимою будет ужасный!»
Шагая по зале, он чувствовал себя как-то неловко. Высокий, худой, немного сгорбленный, в длинных старых сапогах и расстегнутой тужурке, из-под которой виднелась ситцевая косоворотка, он бродил по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напевал «Полонез». Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы, человека, который бродит один-одинешенек, которому грустно и которого ему до боли жаль… Он взял картуз и вышел из дому.
На дворе было светлее. Свет зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.
– Михайла! – тихонько позвал Капитон Иваныч старого пастуха. Никто не откликнулся. Михайла ушел «ко двору, рубаху сменить».
Стараясь придумать себе дело, он направился по двору к варку: накосил ли Митька травы коровам? Но, думая совсем о другом, Капитон Иваныч только постоял у варка.
– Митька! – позвал он.
Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завозились и затрепыхали крыльями на насесте куры.
«Да и на что они мне нужны?» – подумал Капитон Иваныч и не спеша пошел за каретный сарай, туда, где начинались на косогоре ржи. Шурша, пробрался он по глухой крапиве на бугор, закурил и сел.
Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте. С косогора была далеко видна молчаливо утонувшая в сумраке окрестность.
«Сижу, как сыч на бугре, – подумал Капитон Иваныч. – Вот, скажет народ, делать нечего старику!»
«А ведь правда – старик я, – продолжал он размышлять. – Умирать скоро… Вот и Анна Григорьевна померла… Где же это все девалося, все прежнее?»
Он долго смотрел в далекое поле, долго прислушивался к вечерней тишине…
– Как же это так? – сказал он вслух. – Будет все по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля… будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу – меня совсем не будет! И хоть тысяча лет пройдет – я никогда не появлюсь на свете, никогда не приду и не сяду на этом бугре! Где же я буду?
Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая левою рукой черный, седеющий ус, он сидел, покачивался…
Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное… Был когда-то мальчиком, был молод… Потом… в жаркий день на выборы на дрожках ехал по большой дороге! И Капитон Иваныч сам усмехнулся на такой скачок своих мыслей…
Но и это уже давно было. И вот доходишь до такой поры, в которой, говорят, все кончается; семьдесят, восемьдесят лет… а дальше уже и считать не принято! Что же, наконец, долга или коротка жизнь?
«Долга! – подумал Капитон Иваныч. – Да, все-таки долга!»
В темном небе вспыхнула и прокатилась звезда. Он поднял кверху старческие грустные глаза и долго смотрел в небо. И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконечности ему стало легче. «Ну, так что же! Тихо прожил, тихо и умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот с этого кустика…» Очертания полей едва-едва обозначались теперь в ночном сумраке. Сумрак стал гуще, и звезды, казалось, сияли выше. Отчетливее слышался редкий крик перепелов. Свежее пахло травою… Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!
1892
Учитель
I
Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» – думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.
Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.
– Пусть будет так! – сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под простыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп, крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир…» – напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! – черт его побери, не ехать так не ехать… эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.
Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стынут ноги и кончик носа…
II
Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовиться то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было как на старинных иконах у схимников, – темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один – такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.
Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там… все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции – из-за одного содержания – у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя недельки на две. Но нужно было справить к зиме тулуп. Осенью он надеялся на Святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой… долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару», – думал Турбин.
Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок – о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.
III
Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа – косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабак Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения – очистные, подвальные – и домики на манер железнодорожных – для служащих.
С завода приходили к Грибакину гости – старый барский повар, всеми уважаемый за его поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ, лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стуколкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрываться. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не подал виду, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделываться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него – «это еще что за новости?», – а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:
Вот скоро, скоро я уеду,
Забудь мой рост, мои черты!
Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в поле. «Пойдут сплетни, – думал он, – различные неприятности… немыслимо!» И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.
«Ага, – думал Грибакин, – перековала язычок!»