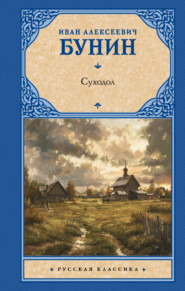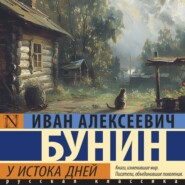По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У истока дней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да ну, слушай же… Я по дороге забрел в Новоселки – нужно было к мировому, – а они сказали, что проедут в Коровий Верх. Только, понимаешь, выхожу от мирового, глядь – лошадки мои стоят смирехонько около Ивана Михайлова, а они, голубчики, второе «горлышко откусывают». «Вы зачем сюда?» – «Дурак ты, – говорит Крутиков, – неужто ты не знаешь, что Толстой проповедует ?совершенствование?? Вот мы и совершенствуемся…»
Оба захохотали, закурили, и беседа снова потекла в том же духе.
– Однако, брат, мне вставать надо, – озабоченно сказал Капитон Николаевич.
– Ну и отлично, – согласился Иван Иванович, – я спать хочу. Только сперва надо… усовершенствоваться. Отперт?
– Отперт.
Иван Иванович пошел в коридор, отворил шкаф, взял графин с водкой и рюмку и появился на пороге спальни.
– Видишь ты это? – подымая графин, спросил он Капитона Николаевича, который надевал валенки.
– Вижу.
– Ну, так больше уж никогда не увидишь!..
И Иван Иванович налил себе рюмку, взял ее края в рот и, без помощи рук, ухарски мотнул головою назад.
– Здоров! – сказал Капитон Николаевич.
Иван Иванович сплюнул, опять налил рюмку и повторил тот же фокус.
– Задохнешься! – крикнул Капитон Николаевич.
– Жив не буду, если не выпью весь графин.
И опять та же операция…
А через десять минут он уже храпел на кровати, уткнувшись головою в подушку…
Иван Иванович был очень счастливый субъект. Он служил в Ельце у нотариуса, дело свое знал хорошо, так что, кроме тридцати пяти рублей жалованья, имел еще хороший посторонний заработок: брал на себя роли поверенного по судейским делам, принимал хлопоты по закладу в банк имений и так далее, чтобы не сказать более… От всего этого у него набиралось до ста рублей в месяц, а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Ивана Ивановича: в ранней юности он был ни более ни менее как мальчик на услугах при какой-то библиотеке в Орле и звался Ванькой. Теперь же он – секретарь нотариуса, имеет квартиру в три комнаты, с отоплением, с мебелью и даже с украшениями в виде олеографий, почти… женат, завел себе рабочий кабинет, в котором стоит письменный дубовый стол, а на столе – две фигуры гипсовых китайцев, прекрасная чернильница, две сотни визитных карточек и портфель с бумагами; купил себе ружье, длинные сапоги, достал даже громадного, кудрявого водолаза и зовет его Бисмарком. Что касается самого Ивана Ивановича, то он пополнел, стал откормленно-солидным мужчиной, носит на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку и – почти всегда – накрахмаленную рубашку со стоячим воротником и толстым широким галстухом. Правда, этот костюм не очень красив на плотной и здоровой фигуре Ивана Ивановича, но Иван Иванович разного мнения со мною в этом случае. Про себя вообще он думает как про красивого веселого мужчину («душа общества», «славный малый»); ему нравится свое полное, молодое, наглое лицо, под гребенку остриженная голова и даже манеры, походка; ходит он немного подаваясь вперед, постоянно заложив руки в карманы, то есть вообще небрежно и свободно двигаясь, как на лыжах, в своих модных штиблетах; везде хохочет, везде напевает «чудные девы, девы мои», друг-приятель со всеми офицерами в Ельце и более зажиточными мелкопоместными, охотится, разъезжает с ними по вечерам, после театра dahin, dahin[2 - Туда, туда (нем.).] (по его выражению), – словом, живет в свое удовольствие…
В том же роде и многие другие приятели и «просветители» Капитона Николаевича из «цивилизованной», городской компании.
Капитон Николаевич в глубине души жаждет завести знакомство с более солидными людьми, с богатыми помещиками, но елецкие богатые помещики – народ, понимающий о себе очень высоко. Поэтому-то и существуют в Елецком уезде два совершенно отдельные друг от друга типа помещиков: помещики мелкопоместные живут еще очень просто, сидят по целым месяцам в своих усадьбах, никогда не «гласят» в земстве, и только некоторые из них, вроде Капитона Николаевича, стремятся зажить по-новому, свесть знакомство с городом, и, к несчастью, это знакомство ограничивается господами вроде Ивана Ивановича. Другое дело помещики, имеющие от трехсот до тысячи десятин. Прежде всего – большинство из них народ картавый… Вы думаете, что я говорю глупости? Ничуть. Я передаю только факт, по-моему характерный: не выговаривать буквы «р» считается за особый шик! Иначе как же объяснить то, что я, бывши недавно на земском заседании, насчитал из двадцати четырех гласных восемнадцать человек картавых?
Затем они очень часто появляются в городе, состоят постоянными клиентами парикмахеров, тогда как мелкопоместные подстригаются дома; сидя у парикмахера Николаева, любят, чтобы мастер им рассказывал городские новости о театре, об актрисах и так далее; злоупотребляют в гостиницах питьем сельтерской воды; если и носят поддевки, то ради шику – с серебряным поясом, при лакированных сапогах; любят изображать из себя дельных образованных земледельцев; выписывают, кроме других газет, сельскохозяйственные, «держат охоту», верховых лошадей – словом, стараются всегда, хоть в мелочах, быть помещиками, любя и соединяя кое-что из прежней помещичьей жизни (увы, немногое, то есть «держать охоту», ездить в город на своих тройках и т. п.) с новыми обычаями – ездить на выставки, толковать о «порядочности», о Толстом, о модных политических новостях, о практичности американцев, о школах, о земских больницах, участвовать в любительских спектаклях, картавить, говорить: «вы дугак» лакеям – и т. д. и т. д.
Вот, скажете вы, «нагородил» человек мелочей. Что делать! Может быть, и сказал что-нибудь верное…
Пока Капитон Николаевич пошел по хозяйству, то есть покричать на работников, чтобы те скорее поили лошадей, и отодрать вихры пастушонку, очень похожему, по словам кухарки, на «лупоглазого дьяволенка», за долгое спанье, – Софья Ивановна страшно хлопотала: она уже сбегала и выдала на кухню мяса, поросят и даже жирного индюка (ждали, что приедет один из важных гостей – «картавый», то есть настоящий помещик), велела переставить по-новому мебель в гостиной и, наконец, села в кабинете, перед письменным столом, чтобы написать несколько записок, содержание которых наизусть знает еще с детства каждый прудковский помещик, потому что, чередуясь в справлении праздников, каждый из них писал соседям такие записки.
Поэтому Софья Ивановна недолго сидела в глубоком оцепенении, как это обыкновенно бывает с нею в затруднительных случаях сочинения писем. Она поискала бумаги, и так как таковой, по обыкновению, не оказалось, то она, тоже по обыкновению, взяла с этажерки первую попавшуюся книжку сельскохозяйственного содержания, выдрала из нее чистые листы, находящиеся непосредственно после переплета, и начала писать:
«Многоуважаимая Анны Ванна!
Я и все наше семейство прошу вас севодня к нам на пирох и обед и пришлите пожалуста тарелки пол дюжены ножей вилок и сковородочку для хворостиков, чем премного обяжете
уважающею вас С. Шахову».
Это письмо было адресовано к соседке, которая имела то преимущество пред прудковскими помещиками, что обладала громадным количеством различной посуды и кухонных принадлежностей.
Следующая записка была к потомку мещанина Дрыкина, о котором мы уже упоминали, – именно к содержателю винной лавки на большой дороге:
«Прашу отпустить
/
ведра вотки для людей и 5 селедок».
Подписи не было, ибо ее заменил каучуковый штемпель, на котором значилось: «Экономия Капитона Николаевича Шахова».
Подумав некоторое время, Софья Ивановна написала еще одну записку:
«Любезный брат Уля приезжай севодня со всеми вашими, привези гитару и немецкую гармонию, а также стихи Яков Савелича, а если есть коробку сардин, у вас осталось от Илина дня, а то у нас можит не хватить, чем премного обяжешь
любящую тибе С. Шахову».
Едва успела Софья Ивановна упомянуть имя Якова Савельевича, дальнего родственника Капитона Николаевича, как на дворе показался сам Яков Савельевич. Он шел по двору, неловко отбиваясь от собак палкою.
Это был человек очень странного вида. Он был уже стар, но трудно определить – скольких лет. Невысок ростом, худ, но не болезненно худ, а, что называется, жилист, немного сутуловат; физиономия – далеко не красивая: усики словно щипаные, жесткие, нос – как у Данте, над маленькими подслеповатыми глазками важно и недовольно сдвинуты редкие брови, такие же жесткие и неопределенные по цвету, как и усы… На голове у Якова Савельевича был измятый летний картуз, на теле – старая ватная поддевка и широкие, легкие шаровары, которые не были запрятаны в сапоги, а болтались над огромными старыми штиблетами, обутыми на босую ногу.
Софья Ивановна сама отворила ему дверь и, увидев его, посиневшего от холода, всплеснула руками:
– Яков Савельич! Откуда вы? Даже посинели все!
Яков Савельевич, хотевший было поздороваться с нею, остановился.
– Как это посинел? – спросил он своей обычной скороговоркой.
– Да как же – синий весь!
– Синий! синий! – передразнил он недовольным тоном. – Не понимаю, какое вам до этого дело: посинейте вы хоть с ног до головы, я и не подумаю на вас ахать и охать.
Софья Ивановна, давно знавшая характер Якова Савельевича, с улыбкой покачала головой:
– Господи! сердит-то как стал!
– Я, мать моя, родился таким, – бормотал Яков Савельевич, стаскивая с себя поддевку.
Софья Ивановна хотела было выразить ту мысль, что человек не может остаться навек таким же, каким родился, но Яков Савельевич перебил ее вопросом:
– Николай Матвеевич у себя?
И, не дожидаясь ответа, пошел к нему в спальню.
– Кто же эта личность? – спросите вы. – Босяк?
Оба захохотали, закурили, и беседа снова потекла в том же духе.
– Однако, брат, мне вставать надо, – озабоченно сказал Капитон Николаевич.
– Ну и отлично, – согласился Иван Иванович, – я спать хочу. Только сперва надо… усовершенствоваться. Отперт?
– Отперт.
Иван Иванович пошел в коридор, отворил шкаф, взял графин с водкой и рюмку и появился на пороге спальни.
– Видишь ты это? – подымая графин, спросил он Капитона Николаевича, который надевал валенки.
– Вижу.
– Ну, так больше уж никогда не увидишь!..
И Иван Иванович налил себе рюмку, взял ее края в рот и, без помощи рук, ухарски мотнул головою назад.
– Здоров! – сказал Капитон Николаевич.
Иван Иванович сплюнул, опять налил рюмку и повторил тот же фокус.
– Задохнешься! – крикнул Капитон Николаевич.
– Жив не буду, если не выпью весь графин.
И опять та же операция…
А через десять минут он уже храпел на кровати, уткнувшись головою в подушку…
Иван Иванович был очень счастливый субъект. Он служил в Ельце у нотариуса, дело свое знал хорошо, так что, кроме тридцати пяти рублей жалованья, имел еще хороший посторонний заработок: брал на себя роли поверенного по судейским делам, принимал хлопоты по закладу в банк имений и так далее, чтобы не сказать более… От всего этого у него набиралось до ста рублей в месяц, а это было очень недурно, если принять во внимание прежнее положение Ивана Ивановича: в ранней юности он был ни более ни менее как мальчик на услугах при какой-то библиотеке в Орле и звался Ванькой. Теперь же он – секретарь нотариуса, имеет квартиру в три комнаты, с отоплением, с мебелью и даже с украшениями в виде олеографий, почти… женат, завел себе рабочий кабинет, в котором стоит письменный дубовый стол, а на столе – две фигуры гипсовых китайцев, прекрасная чернильница, две сотни визитных карточек и портфель с бумагами; купил себе ружье, длинные сапоги, достал даже громадного, кудрявого водолаза и зовет его Бисмарком. Что касается самого Ивана Ивановича, то он пополнел, стал откормленно-солидным мужчиной, носит на своих больших ногах модные штиблеты и такие же брюки, куцую визитку и – почти всегда – накрахмаленную рубашку со стоячим воротником и толстым широким галстухом. Правда, этот костюм не очень красив на плотной и здоровой фигуре Ивана Ивановича, но Иван Иванович разного мнения со мною в этом случае. Про себя вообще он думает как про красивого веселого мужчину («душа общества», «славный малый»); ему нравится свое полное, молодое, наглое лицо, под гребенку остриженная голова и даже манеры, походка; ходит он немного подаваясь вперед, постоянно заложив руки в карманы, то есть вообще небрежно и свободно двигаясь, как на лыжах, в своих модных штиблетах; везде хохочет, везде напевает «чудные девы, девы мои», друг-приятель со всеми офицерами в Ельце и более зажиточными мелкопоместными, охотится, разъезжает с ними по вечерам, после театра dahin, dahin[2 - Туда, туда (нем.).] (по его выражению), – словом, живет в свое удовольствие…
В том же роде и многие другие приятели и «просветители» Капитона Николаевича из «цивилизованной», городской компании.
Капитон Николаевич в глубине души жаждет завести знакомство с более солидными людьми, с богатыми помещиками, но елецкие богатые помещики – народ, понимающий о себе очень высоко. Поэтому-то и существуют в Елецком уезде два совершенно отдельные друг от друга типа помещиков: помещики мелкопоместные живут еще очень просто, сидят по целым месяцам в своих усадьбах, никогда не «гласят» в земстве, и только некоторые из них, вроде Капитона Николаевича, стремятся зажить по-новому, свесть знакомство с городом, и, к несчастью, это знакомство ограничивается господами вроде Ивана Ивановича. Другое дело помещики, имеющие от трехсот до тысячи десятин. Прежде всего – большинство из них народ картавый… Вы думаете, что я говорю глупости? Ничуть. Я передаю только факт, по-моему характерный: не выговаривать буквы «р» считается за особый шик! Иначе как же объяснить то, что я, бывши недавно на земском заседании, насчитал из двадцати четырех гласных восемнадцать человек картавых?
Затем они очень часто появляются в городе, состоят постоянными клиентами парикмахеров, тогда как мелкопоместные подстригаются дома; сидя у парикмахера Николаева, любят, чтобы мастер им рассказывал городские новости о театре, об актрисах и так далее; злоупотребляют в гостиницах питьем сельтерской воды; если и носят поддевки, то ради шику – с серебряным поясом, при лакированных сапогах; любят изображать из себя дельных образованных земледельцев; выписывают, кроме других газет, сельскохозяйственные, «держат охоту», верховых лошадей – словом, стараются всегда, хоть в мелочах, быть помещиками, любя и соединяя кое-что из прежней помещичьей жизни (увы, немногое, то есть «держать охоту», ездить в город на своих тройках и т. п.) с новыми обычаями – ездить на выставки, толковать о «порядочности», о Толстом, о модных политических новостях, о практичности американцев, о школах, о земских больницах, участвовать в любительских спектаклях, картавить, говорить: «вы дугак» лакеям – и т. д. и т. д.
Вот, скажете вы, «нагородил» человек мелочей. Что делать! Может быть, и сказал что-нибудь верное…
Пока Капитон Николаевич пошел по хозяйству, то есть покричать на работников, чтобы те скорее поили лошадей, и отодрать вихры пастушонку, очень похожему, по словам кухарки, на «лупоглазого дьяволенка», за долгое спанье, – Софья Ивановна страшно хлопотала: она уже сбегала и выдала на кухню мяса, поросят и даже жирного индюка (ждали, что приедет один из важных гостей – «картавый», то есть настоящий помещик), велела переставить по-новому мебель в гостиной и, наконец, села в кабинете, перед письменным столом, чтобы написать несколько записок, содержание которых наизусть знает еще с детства каждый прудковский помещик, потому что, чередуясь в справлении праздников, каждый из них писал соседям такие записки.
Поэтому Софья Ивановна недолго сидела в глубоком оцепенении, как это обыкновенно бывает с нею в затруднительных случаях сочинения писем. Она поискала бумаги, и так как таковой, по обыкновению, не оказалось, то она, тоже по обыкновению, взяла с этажерки первую попавшуюся книжку сельскохозяйственного содержания, выдрала из нее чистые листы, находящиеся непосредственно после переплета, и начала писать:
«Многоуважаимая Анны Ванна!
Я и все наше семейство прошу вас севодня к нам на пирох и обед и пришлите пожалуста тарелки пол дюжены ножей вилок и сковородочку для хворостиков, чем премного обяжете
уважающею вас С. Шахову».
Это письмо было адресовано к соседке, которая имела то преимущество пред прудковскими помещиками, что обладала громадным количеством различной посуды и кухонных принадлежностей.
Следующая записка была к потомку мещанина Дрыкина, о котором мы уже упоминали, – именно к содержателю винной лавки на большой дороге:
«Прашу отпустить
/
ведра вотки для людей и 5 селедок».
Подписи не было, ибо ее заменил каучуковый штемпель, на котором значилось: «Экономия Капитона Николаевича Шахова».
Подумав некоторое время, Софья Ивановна написала еще одну записку:
«Любезный брат Уля приезжай севодня со всеми вашими, привези гитару и немецкую гармонию, а также стихи Яков Савелича, а если есть коробку сардин, у вас осталось от Илина дня, а то у нас можит не хватить, чем премного обяжешь
любящую тибе С. Шахову».
Едва успела Софья Ивановна упомянуть имя Якова Савельевича, дальнего родственника Капитона Николаевича, как на дворе показался сам Яков Савельевич. Он шел по двору, неловко отбиваясь от собак палкою.
Это был человек очень странного вида. Он был уже стар, но трудно определить – скольких лет. Невысок ростом, худ, но не болезненно худ, а, что называется, жилист, немного сутуловат; физиономия – далеко не красивая: усики словно щипаные, жесткие, нос – как у Данте, над маленькими подслеповатыми глазками важно и недовольно сдвинуты редкие брови, такие же жесткие и неопределенные по цвету, как и усы… На голове у Якова Савельевича был измятый летний картуз, на теле – старая ватная поддевка и широкие, легкие шаровары, которые не были запрятаны в сапоги, а болтались над огромными старыми штиблетами, обутыми на босую ногу.
Софья Ивановна сама отворила ему дверь и, увидев его, посиневшего от холода, всплеснула руками:
– Яков Савельич! Откуда вы? Даже посинели все!
Яков Савельевич, хотевший было поздороваться с нею, остановился.
– Как это посинел? – спросил он своей обычной скороговоркой.
– Да как же – синий весь!
– Синий! синий! – передразнил он недовольным тоном. – Не понимаю, какое вам до этого дело: посинейте вы хоть с ног до головы, я и не подумаю на вас ахать и охать.
Софья Ивановна, давно знавшая характер Якова Савельевича, с улыбкой покачала головой:
– Господи! сердит-то как стал!
– Я, мать моя, родился таким, – бормотал Яков Савельевич, стаскивая с себя поддевку.
Софья Ивановна хотела было выразить ту мысль, что человек не может остаться навек таким же, каким родился, но Яков Савельевич перебил ее вопросом:
– Николай Матвеевич у себя?
И, не дожидаясь ответа, пошел к нему в спальню.
– Кто же эта личность? – спросите вы. – Босяк?