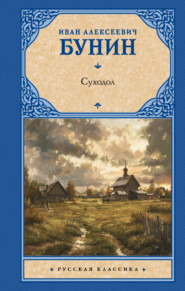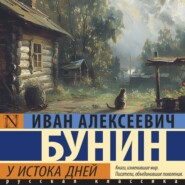По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание повестей и рассказов о любви в одном томе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да куда, – говорят, – его устраивать, у тебя и дома работы девать некуды.
И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здорово живешь, – Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:
– Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспременно велел проведать его.
Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:
– Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?
Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только кочаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.
– Эх ты, – говорит, – бесчувственная! Он, – говорит, – даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.
– Что ж, – говорю, – и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?
Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.
Две горницы в доме я под квартеру сдала, одну наш постовой городовой снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Холин, она у него на содержанье была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя – восемь рублей задолжала.
– Надо, – говорю, – барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.
– Я, – говорит, – постараюсь.
– Да вот, мол, чтой-то не видно вашего старанья. Вместо того чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.
– Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.
– А-ах, – говорю, – скажите пожалуйста, совесть какая!
Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну – все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.
– Ну, нет, – говорю, – перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.
– Я, – говорит, – хорош собою.
– Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?
Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить – и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю, – прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послышу, гудят, завтра гудят… Стала выговаривать.
– Да вам-то, – говорит, – что за дело? Может, я на ней жениться хочу.
– Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой, – говорю, – давно вижу, только не бывать тому во веки веков.
– Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.
– Любовь хорошая, – говорю, – от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней, – говорю, – дурная, все ноги в ранах.
Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, Господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело – врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером – домой. Подбегаю, толк в дверь – так и есть: заперто. Стучу – молчат. Я в другой, в третий – опять никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить – альни стекла зудят. Вдруг задвижка – стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы – и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая, – все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь.) Аян говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:
– Чтой-то у вас, – говорю, – ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?
Молчат.
– Что ж, – говорю, – молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!
Он было шерсть взбудоражил:
– Я сам в лета взошел!
– Та-ак, – говорю, – а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?
Как он на меня заорет!
– Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!
А Чайкин, услыхавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замок. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:
– Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!
(С волчьим билетом, значит.)
– Хотите вы, говорит, этого ай нет? Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!
Она – в слезы. А я еще поддала.
– Пусть, – говорю, – денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!
Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка – и ни гуту: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась, – да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а он-то и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку… Платок – платок, мыло – мыло, – что под руку попадет… Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того и совсем лавку забросил: дома и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку – и марш. Я мечусь как угорелая – из кабака в лавку, из лавки в кабак – и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был, – весь в меня, – лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие… А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал – и все молчит, в переносицу себе смотрит.
– Вы меня не тревожьте теперь, – говорит, – я могу каторжных дел натворить.
А захмеляет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей об его жизни – беды, вижу, никакой: надо решаться, надо поскорее знакомство завесть, – нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала, – надо, значит, предлог найтить, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иваныч, лавочник». – «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек, – ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно, бережной, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал… Потом и я к нему будто по делу затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь – до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то… Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать…
Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала – одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую, – мол, таки добилась своего, нашла свою партию! – а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать; из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых, – небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе, – грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука нехитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что – вдруг ктой-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог – Полканиха.
– Ты что?
– Никанор Матвеич приказал долго жить!
Брякнула, повернулась – и домой. А я сгоряча-то не сообразилась, – меня прямо как варом обварило со страху, – накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается – ня бегу… Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю – пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем Бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настежь, кто хочет, тот и лезет, – всем, понятно, любопытно. Я было, сдуру-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула – да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь, – да хоть та же Полканиха со зла, – вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить, – и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни сном ни духом, а его за хвост да в мешок… Не первый случай.
Ну, похоронили его – у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку – вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары, – жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особливо у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих, – вдруг еще новость – Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то, – лютая псовка была, небось сама же, востроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча, – передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает – дела будто есть – и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие благи не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас вчистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать – не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует, – ночь за день сходит… Что я тут горя вытерпела – сказать невозможно! До того добил – стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала…
Ну, получивши такое решенье от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать, – наконец того совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажить себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижное имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть…
Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.
– Что ж ты, – спрашиваю, – молчишь? Ты клеенку-то не дери, – наживи прежде свою, – ты отвечай мне.