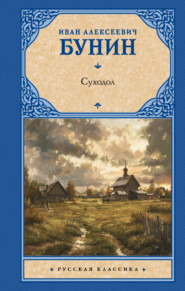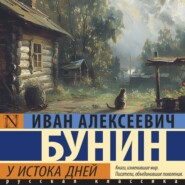По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чаша жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Митька? Ты? – крикнул Кондрат Семеныч.
– Ребята гнались, – молчи!
И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.
В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоники. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания…
Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно… Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаянные!» – кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:
– А это чей же будет?
– Свой, тетка! – ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги.
А через минуту он был опять в санях.
Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:
– К печнику!
– Попала шлея под хвост! – подхватил Турбин.
XX
От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаивали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.
– Ешьте, что ль, ветчину-то! – кричала хозяйка.
Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.
На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой лихо играли на двух гармониках «барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками.
Посылала меня мать
Караулить гусака, —
вычитывала хозяйка.
Уж я ее кнутом,
И кнутом, и прутом, —
бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бока.
– Делай! – повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?» – спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «барыни» стучать сапогами в пол.
А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, «Бубен», огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отворял дверь.
– Не пускай, ну его к черту! – говорил Кондрат Семеныч.
– Ну что ты? Кого тебе? – спрашивала хозяйка, загораживая порог.
Улыбаясь и качаясь, «Бубен» придерживался за притолку и говорил:
– Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.
– Никого тут нетути. Иди.
– Буде, буде толковать-то!
– Тури его в шею! – кричал Кондрат Семеныч.
У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других, и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.
Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо шептала:
– Что ты, что ты? Ай подеялось?.. Ай очумел?.. Ох, батюшки, пусти, пусти-и… Тут погребица!..
И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шепот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу… потом потерял всякое представление о том, где он…
Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон, и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шепотом:
– Пить… Бога ради, пить!..
Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями.
Холод плыл по ногам. Еле-еле светало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек; в печурках были какие-то сырые теплые перья; на грубке лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.
– Бога ради, напиться! – сказал он громко.
– Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!
Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.
– Пить нет ли? Душа запеклась!
– Посмотри в угле, в щербатом чугунчике.
Турбин с жадностью припал к чугунчику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка, и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, через Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.
Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина, и он заснул как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку по-черному, и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так проспал до самых завтраков.
В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя цигарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.
– Вот те и педагог! – сказал он с сожалением. – Пропал малый!
– Сирота небось! – задумчиво произнес печник.
1894
На даче
– Ребята гнались, – молчи!
И на повороте в село фигура выпрыгнула из саней и опять скрылась в темноте.
В избах светились огни, чернели кучки народа на улице, шум и гам покрывали горластые песни, толкотня, пляска, гармоники. Стоном стояла и разливалась протяжная «страдательная», ее заглушал азартный трепак, топот ног и взвизгивания…
Сперва попали в какую-то избу, битком набитую народом. С непривычки Турбину показалось даже страшно в ней: так было жарко, низко и людно… Шла игра в «короли». Неиграющие, ложась друг другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытого от черной топки словно черным густым лаком, теснились к столу. За столом сидели ребята в расстегнутых полушубках и чистых рубахах, девки в красных ситцах, сильно пахнущих краскою. У всех были сжаты корабликом карты в руках и напряженно веселы лица. Ребятишки шмыгали по ногам, лезли из сенец в избу. «Выстудили избу, окаянные!» – кричала на них хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:
– А это чей же будет?
– Свой, тетка! – ответил Турбин с хохотом и, севши на лавку, не удержался, завалился за сидящих и задрал ноги.
А через минуту он был опять в санях.
Кондрат Семеныч втащил в них какую-то хохочущую солдатку и, стоя, крикнул Ваське:
– К печнику!
– Попала шлея под хвост! – подхватил Турбин.
XX
От посещения печника более всего осталось в памяти его пение. И сам печник, волосатый, пожилой мужик, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свете любили водку и песни. Гости за посещение их избы напаивали их, и беспутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчас же в печке запылал огонь, зашипела и затрещала яичница с ветчиной, загудела труба на самоваре. Запьяневшая, раскрасневшаяся хозяйка поддувала пламя под таганчиком и с ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина. Затем начался пир. За каждым куском следовала водка; ошалевший Турбин не отставал от других, хотя уже чувствовал, что с великим трудом слышит говор и песни вокруг себя. Песни начал печник. Положив голову на руку, он что ни есть мочи разливался таким неистовым криком, что на шее у него вздувались синие жилы.
– Ешьте, что ль, ветчину-то! – кричала хозяйка.
Турбин машинально, кусок за куском, ел страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило от бесплодных усилий разжевать эти жареные брусочки.
На печника уже не обращал никто внимания. Перебивая его песни, Кондрат Семеныч с Васькой лихо играли на двух гармониках «барыню», а бабы, с прибаутками, с серьезными, неподвижными лицами выхаживали друг перед другом, постукивая каблуками.
Посылала меня мать
Караулить гусака, —
вычитывала хозяйка.
Уж я ее кнутом,
И кнутом, и прутом, —
бойко покрикивала в ответ солдатка, то прихлопывая в ладоши, то упирая руки в бока.
– Делай! – повторял Васька, потрясая гармоникой над головою и пускаясь в самые отчаянные варьяции «барыни». В чаду беспричинной напряженной веселости сознание учителя иногда прояснялось. «Где это я? Что такое?» – спрашивал он себя, но тотчас начинал хлопать в ладоши и в такт «барыни» стучать сапогами в пол.
А за окном, которое завесили попоной, галдел народ, порываясь в избу. Горький пьяница, рабочий с завода, «Бубен», огромный худой мужик, с лошадиным лицом, с растрепанными пьяными губами, несколько раз отворял дверь.
– Не пускай, ну его к черту! – говорил Кондрат Семеныч.
– Ну что ты? Кого тебе? – спрашивала хозяйка, загораживая порог.
Улыбаясь и качаясь, «Бубен» придерживался за притолку и говорил:
– Да чего? Да ничего! Зайтить закурить только.
– Никого тут нетути. Иди.
– Буде, буде толковать-то!
– Тури его в шею! – кричал Кондрат Семеныч.
У Турбина нестерпимо ломило в темени от жары и водки. Но он все еще не отставал от других, и, когда раздались крики, что с лошадей сняли вожжи и чересседельник, он даже выскочил вместе с Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. На морозе водка еще более разобрала его, и с этого момента воспоминания его совершенно путаются.
Запомнил он только то, что долго бродил по сенцам, а когда Кондрат Семеныч выпихнул к нему какую-то бабу, он потащил ее на скотный двор, и она вырывалась и торопливо шептала:
– Что ты, что ты? Ай подеялось?.. Ай очумел?.. Ох, батюшки, пусти, пусти-и… Тут погребица!..
И ошалевший Турбин опять с трудом отыскал дверь в избу и очутился в полном мраке, и эта темнота, шепот, возня на соломе еще более взбудоражили его кровь. Он долго шарил по соломе трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидел на полу и бормотал что-то, повалил кочергу… потом потерял всякое представление о том, где он…
Чувствовал только во сне, что откуда-то по ногам несет холодом. Он тщетно прятал их под солому. Потом началась страшная жажда. Все внутри у него горело, и он чувствовал это сквозь сон, и никак не мог проснуться, и все шептал горячечным шепотом:
– Пить… Бога ради, пить!..
Казалось, что какая-то толпа растет вокруг него, а он пляшет под «тарантеллу», пляшет, пляшет без конца и вдруг слышит над самой своей головой рукоплескания и крики, отчаянный крик. Он вскочил: петух еще раз крикнул на всю избу и затрепыхал крыльями.
Холод плыл по ногам. Еле-еле светало. В смутном сумраке было видно несколько человек, спящих на соломе. Шатаясь, Турбин начал шарить по печуркам спичек; в печурках были какие-то сырые теплые перья; на грубке лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбин задыхался от жажды.
– Бога ради, напиться! – сказал он громко.
– Ох, чтоб тебе совсем! Вот напужал-то!
Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать под платок сбитые волосы.
– Пить нет ли? Душа запеклась!
– Посмотри в угле, в щербатом чугунчике.
Турбин с жадностью припал к чугунчику. Но квас был так кисел и холоден, что Турбина с первых глотков подхватила лихорадка, и, не попадая зуб на зуб, он бросился по нарам, через Кондрата Семеныча, на печку; Кондрат Семеныч замычал и заскрипел во сне зубами.
Какой-то тяжелый запах и тепло охватили Турбина, и он заснул как убитый. Но и этот сон продолжался как будто мгновение. Затопили печку по-черному, и дым, пеленой потянувшийся под потолком в дверь, завешенную попоной, стал душить Турбина. Он зарывал голову в солому и сор, но ничто не помогало. Тогда он свесил голову с печки, кое-как приладил ее к кирпичам и так проспал до самых завтраков.
В завтраки Кондрат Семеныч, с опухшим лицом, но уже в спокойном, будничном настроении, сидел за столом против печника, похмелялся и, вертя цигарку, поглядывал на сонное лицо Турбина. Оно было как мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.
– Вот те и педагог! – сказал он с сожалением. – Пропал малый!
– Сирота небось! – задумчиво произнес печник.
1894
На даче