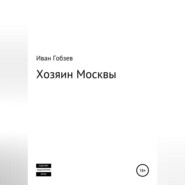По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Те, кого любят боги, умирают молодыми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так-так-так, – сказал я, вставая со стула. – Так-так-так. Будет вам хула, и будет вам полная чашка, – и вышел в сад. Я вспомнил всё.
В сарае я обнаружил свои розовые шорты, смятые в комок, расправил и надел их, там же взял полутораметровый топор и направился к забору. По пути я остановился у пня, оставшегося от берёзы. Сруб потемнел и ещё сочился влагой, и она скатывалась по чёрной густой коре, как слезы. Я присел на него “на дорожку”, прислушался – но ничего, тишина – и пошёл дальше. Калитка была заперта, а забор венчали острые пики. На миг я вообразил десятки волосатых голов, так бы кстати смотревшихся на этих остриях.
Мне не составило труда перелезть через забор, и я очутился на просеке, унылой от закрывших небо туч, во мраке черных теней сирени, акаций, боярышника и елей. На перекрёстке под светом фонарей с высоких столбов стояла большая клетка, и двое людей с автоматами сидели на стульях рядом с ней. Я тихо двинулся вдоль забора, вжимаясь в него и обдираясь о шипы ежевики. Под моими стопами скрипели стебли одуванчиков, разбегались маленькие лягушата, где-то рядом угрожающе зашипел ёж. Ветер размётывал вялые пряди берёз, с каждой секундой усиливаясь и неся аромат моря, – значит, сюда шла гроза, и где-то за полем уже сверкало.
Я двигался медленно и оказался у клетки за спинами охранников одновременно с первыми раскатами грома. Гул ветра, грохот с небес и тьма от грозовых туч были мне на руку: так я стал совсем невидим и неслышим. Но клетка в свете фонарей была хорошо различима, и в ней я разглядел Никиту. Он полулежал, как патриций, прислонившись к стенке, тощий и в разорванной одежде, и широкими зелёными глазами задумчиво, с выражением лёгкой грусти смотрел куда-то в небо.
Отведя за спину топор для удара, я тихо подкрался к ближайшему охраннику. Он в это время закуривал, затем бросил зажигалку второму, и тот поймал её, даже не оборачиваясь, а иначе он бы меня заметил. Он склонил голову над огоньком, обеими руками держа зажигалку, прикрывая пламя от ветра, и в этот момент я со всей силы обрушил топор на голову первого охранника. Второй вскочил, выронив зажигалку и выплюнув сигарету, и вскинул автомат, но я в один прыжок очутился возле него и нанёс удар не целясь, куда пришлось, и попал ему в шею.
Крови пролилось много, и хорошо, что мне не пришлось их добивать. Они были мертвы и нелепо лежали на земле, как поверженные враги в каком-нибудь компьютерном экшене. Я возложил топор на один из освободившихся стульев и подошёл к клетке. Она был заперта, но я не хотел в поисках ключей обшаривать окровавленные, ещё тёплые трупы и, взявшись обеими руками за прутья, с криком разогнул их. Никогда ещё я не чувствовал в себе такой силы. В ответ на мой крик по всему посёлку завыли собаки и хлынул ливень с громом и ветром. Я пролез в клетку и склонился над Никитой:
– Братик, вот я и пришёл.
Он ничего мне не ответил и даже не посмотрел на меня, а по-прежнему печально любовался небом – вот всегда так, на всё ему было наплевать. Я потряс Никиту за плечи, и его голова упала мне на грудь, так по-братски, и я взял его руки, но они были совсем холодные.
Я сел рядом с ним, обнял за плечи, а он держал голову на моей груди, и нам было так хорошо, и я сжимал его руку и говорил с ним ни о чём, просто болтал, мы же так давно не виделись. Конечно, он ничего мне не отвечал, всё ему было суета и тщета, он даже мёртвый ничуть не изменился и оставался самим собой.
Ливень совсем промочил нас, и багровые разводы расплывались по земле в свете фонарей, как реки, озера и моря. Наконец я встал, взял Никиту на руки и понёс домой, а топор зажал локтём. В конце просеки я увидел Машу, она осторожно выглянула из своей калитки и пошла нам навстречу. На расстоянии пары десятков метров она остановилась, видимо, разглядев, что за ноша у меня на груди, и глубоко вздохнула, как вздыхает, наверно, умирающий кит – а может, и нет, я не видел никогда ни живых китов, ни тем более умирающих.
– Ты опоздал, – сказала она мне очень тихо, и странно, что я вообще расслышал её в шуме дождя. Маша, ссутулившись, пошла обратно, и я не стал её задерживать, потому что ответить мне было нечего.
Я пришёл домой и положил брата на его кровать. Он разлёгся на ней, как олимпиец, и только привычной сигареты не хватало в его тонких пальцах.
– Те, кого любят боги, умирают молодыми, – сказал я ему, взял топор и снова вышел в ночь.
Ливень не переставал. Я стянул с себя прилипавшую к телу майку, оставшись в розовых шортах. Они обтягивали мои бедра, как лосины, и в другой ситуации я бы рассмеялся, представив себя со стороны.
Пробравшись сквозь заросли сирени, я обнаружил, что проход на участок Игоря – дыру в заборе – заделали, и мне пришлось лезть через него. Я зацепился плечом за какой-то гвоздь, получилась длинная и очень глубокая царапина, и кровь, смешиваясь со струями дождя, потекла по моей груди. В доме Игоря горело только одно окно – на втором этаже. Я зашёл на веранду и, стараясь не скрипеть расшатанными призраками ступеньками, поднялся наверх. Мне хотелось найти Игоря, я был уверен, что он где-то здесь. Откуда-то доносился негромкий голос, и из-под двери, где когда-то повесилась его мать, лился тусклый свет, но там вроде было тихо. Я легко толкнул дверь, она приоткрылась, и я скользнул внутрь. На стуле у окна горела свеча, и её пламя дрожало в нежных дуновениях из щелей, освещая Машу. Она стояла спиной ко мне, на её шее была стянутая в петлю верёвка, привязанная к крюку в потолке. На стене сбоку было нацарапано карандашом: “Мой любимый, иду к тебе”. Я не стал трогать Машу, вышел и плотно затворил дверь. Голос доносился из соседней комнаты, и я прислушался. Говорил Гадес, в этом не было сомнений.
– Сынок, – сказал он, и что-то звякнуло, – вот мы и остались одни. Как я тебя понимаю! В своё время твоя мать покончила с собой, потому что не могла быть достойной меня. Вот и ты сделал неправильный выбор. Ты понимаешь меня?
– Да, отец, – услышал я слабый и чистый голос в ответ. – Понимаю.
– Вот и ладно, сынок. Но теперь всё будет хорошо. Ты станешь другим, вернее, ты уже стал другим. Ты больше не будешь делать ошибок.
Я открыл дверь и обнаружил то, что и ожидал: Игоря на кровати и Гадеса на стуле рядом с ним. Игорь был лысым и совсем непохожим на себя, лицо худое и без обычной наглой ухмылки, он смотрел большими ясными глазами на Гадеса и тихо повторял не своим голосом: “Да, отец”.
Гадес обернулся и увидел меня.
– Ты что здесь делаешь, Мирослав? – его изумление вызвало у меня невольную улыбку. – И что это надето на тебе?
Я молчал.
– Почему ты весь в крови? И что это за топор? И убери эту идиотскую улыбку! Боюсь, мне придётся возобновить лечение!
Я бросил топор на пол и сделал шаг к нему, Гадес выронил шприц и поднялся со стула.
– Ну что же, сопляк, – сказал он, – я вижу, все мои усилия пропали даром. Бедная твоя мать! Придётся тебя отправить в АИД!
Он быстро сунул руку в карман и выхватил газовый баллончик, но я пнул его ногой в пах прежде, чем он успел направить струю на меня. Гадеса отшвырнуло в угол, он скорчился на полу, не в силах дышать. Я встал над ним и сказал так громко, чтобы слышали небеса:
– Ты будешь гореть в аду.
И повторил:
– Ты будешь гореть в аду.
Игорь поглядел на меня бессмысленно и тихо произнёс: “Понимаю, отец”.
– Отдыхай, – сказал я ему, – ты уже на Олимпе, в сонме богов, среди героев! А здесь тебя больше нет.
– Понимаю, отец, – снова сказал он.
– Да уж. Теперь я всем вам отец!
Я разорвал простыню, на которой лежал Игорь, и связал Гадесу руки и ноги. Затем я поволок его по лестнице вниз, во двор, держа за ступню.
Через забор, сирень и заросли мокрых цветов, поникших, как спящие лебеди, я протащил Гадеса в мой дом. По пути он что-то говорил мне, говорил много, но его жалкие слова терялись в буйстве природы, сбиваемые на лету громом и сжигаемые молниями. На крыльце мне стало тяжело, и я вскинул тяжёлую тушу на плечо. Я пронёс его в дом и положил напротив Никиты, на мою кровать.
– Опомнись, Мирослав, – теперь я слышал Гадеса и видел его глаза, полные ужаса, – что ты творишь? Ты же болен! Ты сумасшедший!
– Боги не терпят лжецов и предателей, – ответил я ему.
Я проверил, достаточно ли крепко связаны его руки и ноги, взял нож и вернулся за Машей. Удерживая её лёгкий стан, я срезал верёвку, и она поникла на мне, легко обхватив мою шею, как балерина. Я снял с неё петлю, подхватил поудобнее и понёс к брату.
– Всё хорошо, моя девочка, – говорил я, аккуратно ступая по лестнице,– всё хорошо.
Я возложил её рядом с Никитой, и Гадес задёргался на своём ложе, точно змея, видимо, учуяв недоброе, но ничего не сказал, потому что знал: если откроет рот, то я опять заговорю о богах.
Затем я направился в старый сарай, где хранились керосин, бензин, краски и прочий хлам, запасённый на тот случай, какой никогда не представится, как это обычно бывает в дачных сараях. Хотя нет, вот наконец случай появился, не зря всё это хозяйство ждало меня здесь столько лет. Мне удалось найти почти целую канистру бензина, жбан керосина и несколько банок с краской. Взяв всё, что в силах был унести, я вернулся в дом. Я переоделся в костюм и с чистой совестью забрал все деньги из Матушкиного ящика.
Под крики Гадеса я облил его керосином, а всем остальным горючим окропил храм моего детства, отрочества и юности – наш старинный дом, построенный ещё дедом. Что ж, подумал я, будет неплохой погребальный костёр для моего брата, не хуже, чем у древних! Его прах вместе с дымом взойдёт на небеса, туда, где за пиршественным столом его поджидают такие же, как он, где поднимаются и никогда не пустеют кубки, где всегда благородный смех и любовь!
С завистью размышляя о прекрасной участи, которая ждёт Никиту, я покурил на крыльце, затем чиркнул спичкой и бросил её на пол, в лужу бензина. Пламя занялось чуть ли не со взрывом, и я порадовался, что стоял не слишком близко ко входу.
Минут десять я в отдалении любовался костром. Дом разгорелся быстро, и вскоре искры с треском взлетали выше крон деревьев, и языки пламени окрасили небо чернотой. В посёлке нарастали суета и крики: люди тревожились за свои дома и вызывали пожарников, а потом, полуголые, с ночными лицами, в халатах и пеньюарах, стояли у калиток. Но некоторые – те, которые понимали – ликовали, узрев нашу победу.
Огонь перебросился на заборы и сараи, и я был доволен, видя, как радостно полыхает всё вокруг. Теперь можно было уйти. Я направился по задымленной просеке к перекрёстку и там выбрал четвертую дорогу, с которой слышен шум электричек. Мимо меня пробегали люди, а я был как будто невидимый и бестелесный и шёл легко против течения людского потока.
Я жалел о том, что больше никогда в сумерки не посижу за столом под берёзой в три моих обхвата, под листопадом и с чашкой горячего чая. Больше ни о чём я не жалел, только об этом.
Дождь перестал, и над посёлком взошла полная бордовая луна. Я шёл, и смотрел на неё как на равную, и радовался, что иду не один. Мне хотелось раствориться, исчезнуть в никому не известном направлении, и я знал, что смогу это сделать, потому что Матушка не сдаст меня: всё-таки она была моей матерью, пускай и в чёрном балахоне.
Глубокий душевный покой владел мной, и я чувствовал удовлетворение от того, как хорошо сумел устроить конец. Игорь с Никитой гордились бы мной, они сами не сделали бы лучше.
У платформы, у самых ступенек в навесе веток диких яблонь, меня окликнули из темноты:
– Орфей!