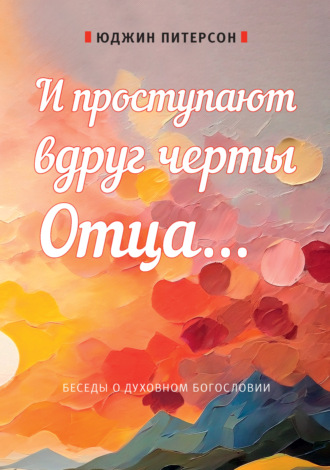
И проступают вдруг черты Отца… Беседы о духовном богословии
Христианское сообщество интересуется духовностью, поскольку интересуется жизнью. Мы относимся к духовности с пристальным вниманием, потому что по опыту давно знаем, как легко увлечься идеями о Боге и проектами ради Бога, но при этом постепенно терять интерес к Самому живому Богу, омертвляя свою жизнь этими самыми идеями и проектами. Такое происходит сплошь и рядом. Если на идеи и проекты наклеить имя Бога, легко подумать, что имеешь дело с Самим Богом. Дьявол как раз и стремится заставить нас ревностно трудиться ради Бога и думать о Боге, чтобы потом тихо и незаметно увести нас прочь от личного послушания и личного поклонения, заменив Бога нашим собственным «я», раздувшимся до сверхъестественных размеров.
Имя Иисуса помогает нам удерживать внимание на той жизни, которую открыл нам и определил для нас Сам Бог. Благодаря имени Иисуса у той бесформенной расплывчатости, с которой так часто ассоциируется духовность, появляется крепкий скелет, жилы, мышцы, форма и энергия. Иисус – это личное имя человека, жившего в конкретное время в конкретной стране, где есть горы, на которые можно взобраться, полевые цветы, которые можно сфотографировать, города, где и сейчас можно купить смоквы и гранаты, и вода, которую можно пить и в которой можно креститься. И это имя противостоит всякой неопределённости, от которой нередко страдает духовность.
Иисус – это центральная и определяющая фигура в духовной жизни. Его жизнь является не чем иным, как откровением. Он показывает нам то, о чём мы ни за что и никогда не смогли бы догадаться сами, даже за миллион лет. Он есть Бог среди нас: Бог говорящий, действующий, исцеляющий, помогающий. Всё это можно обозначить одним общим словом: «спасение». Имя «Иисус» означает «Бог спасает»: Бог присутствует и действует в нашем языке и в нашей истории.
Опираясь на обширный контекст, оставленный израильскими пророками и поэтами, четыре евангелиста рассказывают нам всё, что необходимо знать об Иисусе. А Иисус рассказывает нам всё, что необходимо знать о Боге. Когда мы читаем Евангелия, изучаем их, верим в них и молимся вместе с ними, перед нами открывается всё Писание и вся духовная жизнь, обретая фокус в притягательном и щедром присутствии Иисуса из Назарета – Божьего Слова, ставшего плотью.
Но хотя евангелисты показывают Иисуса в совершенно обычном, земном контексте, похожем на наши собственные города и сёла, и говорят о нём привычным нам языком, на каком мы разговариваем на работе, в магазине и дома, при этом они не спешат удовлетворять наше любопытство: есть очень много такого, чего они нам не рассказывают. Нам хотелось бы знать гораздо больше, и нашему воображению не терпится заполнить повествование конкретными подробностями. Как Иисус выглядел? Каким было Его детство? Как относились к Нему друзья? Что Он делал все те годы в плотницкой мастерской?
Неудивительно, что довольно быстро появились авторы, более чем готовые удовлетворить любопытство читателей и рассказать, каким Иисус был на самом деле. Таких авторов полно и сейчас. Однако на поверку любые «жизнеописания» Иисуса – попытки воссоздать жизнь Иисуса со всеми Его детскими взаимоотношениями, эмоциональным откликом на события, слухами и сплетнями со стороны соседей, а также социальными, культурными и политическими подробностями Его окружения – вызывают у нас только разочарование. Мы получаем не Иисуса, который являет нам Бога, а Иисуса, который воплощает собой некий идеал автора или оправдывает ту или иную его идею. Закрывая прочитанную книгу, мы понимаем, что в результате знаем Иисуса не лучше, а хуже.
Это нетерпеливое стремление узнать об Иисусе больше, чем о Нём написано в канонических Евангелиях, заявило о себе уже в начале второго века. Первые авторы, попытавшиеся заполнить «пробелы» в евангельских повествованиях, обладали ярким воображением, но не особо заботились о достоверности: они забыли сообщить нам, что все эти дополнительные и весьма занимательные подробности являются плодом их личного домысла. Некоторые из них писали под апостольскими псевдонимами, чтобы придать своим выдумкам авторитетность. Другие заявляли, что их писания вдохновлены Самим Святым Духом. Однако Церкви довольно быстро надоели все эти художественные домыслы и творческие дополнения жизни Иисуса, и она решила положить им конец. Было принято решение: последним и окончательным словом об Иисусе являются Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Эта тема была закрыта раз и навсегда.
Однако, вопреки утверждениям некоторых, этот запрет на изобретение новых историй о жизни и учении Иисуса не имел репрессивного характера. В результате воображению открылось иное, вполне законное и продуктивное русло: вместе с Марией, матерью Иисуса, мы начали учиться размышлять об Иисусе в своём сердце (Лк. 2:19, 51), размышлять о себе в присутствии Иисуса, каким Его представили нам евангелисты, или размышлять о других местах и контекстах, в которых мы встречаем Иисуса и либо снова распинаем Его, либо снова решаем в Него уверовать. С тех пор именно этим мы и занимаемся, когда проповедуем и изучаем вместе Библию, когда пишем рассказы и стихи, когда отправляемся в паломничества и уезжаем на ретриты молчания, когда поём гимны и молимся, когда совершаем дела послушания и служения во имя Иисуса.
Во всём нам важно с почтением относиться к сдержанности евангелистов. Духовность не становится лучше от фантазий, и христианская жизнь – не место для набожных грёз.
Принимая Иисуса как окончательное и авторитетное самооткровение Бога, христианская церковь не позволяет нам безнаказанно придумывать собственные версии духовной жизни – хотя, признаться, это не особенно нас останавливает. Но у нас не получится ни обойти Иисуса, ни уйти от Него: Иисус – это воплощение Бога, Бог среди нас и Бог с нами. В Иисусе собраны все слова Бога, которые Он когда-либо говорил Своему народу и через Свой народ и которые даны нам в Священном Писании. Иисус говорил их лично нам. Он совершал Божье дело исцеления и сострадания, прощения и спасения, любви и жертвенности среди нас, мужчин и женщин с конкретными именами и уникальными биографиями. Поскольку Иисус родился в Вифлееме, вырос в Назарете, собрал учеников в Галилее, поклонялся в местных синагогах, обедал в Вифании, был на свадьбе в Кане, рассказывал притчи в Иерихоне, молился в Гефсимании, возглавлял шествие по Масличной горе, учил в храме в Иерусалиме, был убит на Голгофском холме, а через три дня ужинал с Клеопой и его другом в Эммаусе, мы не вправе изобретать собственную приватную духовность: мы слишком много знаем о Его жизни, о Его духовности. Рассказ об Иисусе открывает перед нами сотни конкретных событий и слов, связанных с конкретными именами, местами и даже датами, и все они сплетены воедино и дополняют друг друга, образуя стройное, последовательное откровение того, какой Он, Бог, как Он действует и что говорит. Иисус не даёт нам думать, что главное в жизни – идеи и концепции для осмысления и обсуждения. Он не даёт нам отвлекаться на тривиальности и растрачивать жизнь в погоне за дешёвыми ощущениями. Он даёт нам возможность со всей серьёзностью отнестись к тому, кто мы такие и где находимся; побуждает нас не поддаваться на витающие в воздухе иллюзии и пугающую нас ложь и помнить, что нам вовсе не нужно быть кем-то другим и находиться в каком-то другом месте. Иисус не даёт нам утратить почву под ногами, призывает нас со вниманием относиться к детям, разговаривать с обычными людьми, преломлять хлеб с друзьями и незнакомцами, прислушиваться к ветру, присматриваться к полевым цветам, прикасаться к больным и раненым, молиться просто и естественно. Иисус настаивает на том, чтобы мы обращались к Богу здесь и сейчас, там, где мы есть, и посреди тех людей, которые находятся сейчас рядом с нами. Иисус и есть Бог, здесь и сейчас.
* * *Учение о том, что Иисус реально и фактически является Богом среди нас, лежит в самой основе христианской веры. Это трудно принять и трудно даже вообразить, но христиане действительно в это верят. Всё сложное и многогранное дело спасения «прежде создания мира» (Еф. 1:4) собрано и завершено в Его рождении, жизни, смерти и воскресении – чуде совершенно потрясающего, беспрецедентного масштаба. Мы принимаем всё это, когда вслед за апостолом Павлом добавляем титул «Христос» к имени Иисуса и называем его Христом Иисусом. Христос – это Божий помазанник; Бог среди нас, пришедший спасти нас от греха; Бог, говорящий с нами на языке, который мы усвоили с молоком матери; Бог, воскрешающий нас из мёртвых к реальной вечной жизни.
Можно подумать, что самое трудное – это поверить в то, что Иисус действительно есть Бог среди нас. Но это не так. Как выясняется, нам гораздо труднее поверить в то, что Божье дело – всё это ослепительное творение, невероятное спасение, нескончаемые потоки благословений – совершается в контексте и в условиях обычной человеческой жизни: во время пикников и за семейным ужином, в разговорах по дороге, в недоумённых вопросах и незамысловатых историях, на свадьбах и на похоронах, в слепых попрошайках и покрытых гнойными язвами прокажённых. Всё, что говорит и делает Иисус, происходит в рамках и ограничениях нашей человеческой природы. Никаких спецэффектов и фейерверков. Да, в этой истории есть чудеса и их немало, но большинство из них так тесно вплетены в ткань повседневной жизни, что их мало кто замечает. Чудесность чуда заслоняется привычностью обстановки и обычностью участвующих в нём людей.
* * *Таким Он остаётся и сейчас – Иисус, Бог среди нас. И нам до сих пор трудно в это поверить. Нам трудно поверить, что чудесное дело спасения прямо сейчас вершится в нашем районе, в наших семьях, в правительстве нашей страны, в наших школах, предприятиях и больницах, на городских улицах и в офисных коридорах, среди знакомых нам людей. Когда Иисус жил среди нас во плоти, Его обычность очень мешала людям верить в то, кто Он такой и что делает. Мешает она нам и сейчас.
Св. Иоанн рассказывает, как люди, оказавшиеся в капернаумской синагоге в тот день, когда Иисус обратился к ним с совершенно поразительным, невероятно мощным словом – предлагая им Своё тело и кровь в пищу и питие для вечной жизни, – не поверили Ему, потому что сочли Его слишком непримечательным: «Как может этот [αὐτοῦ] дать нам есть свою плоть?» (Ин. 6:52). Если вспомнить, как они возмутились в ответ на невероятные слова Иисуса («Я есмь хлеб, сшедший с небес», 6:41), указав ему, что Он всего лишь человек («не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем?», 6:42), их пренебрежительное «этот» явно означает «этот ничтожный выскочка». Как раз здесь многие из учеников Иисуса перестают Ему верить: в их голове чудеса и проповедь никак не совмещались с непримечательным «этим», стоящим перед ними. Их риторический вопрос: «Кто может это слушать?» – явно предполагал отрицательный ответ: «Никто».
Иисус озвучивает их невысказанные мысли: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует нимало» (Ин. 6:61–63). Иными словами: «Что вас смущает? Если бы вы здесь и сейчас увидели, как Я поднимаюсь в воздух, прямо на небеса, вы бы поверили Моим словам? Наверное, да. Но только жизнь вам даёт вовсе не плоть, не поразительные чудеса, а дух, похожий на невидимый ветер». Он снова говорит о духе. Это ключевое слово из историй о Никодиме и самарянке означает тихое, часто скрытое для глаз действие, посредством которого Бог совершает среди нас Своё спасение.
Но на слушателей Иисуса это не производит никакого впечатления. Они уходят прочь и больше не следуют за Ним: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (6:66). Почему? Потому что Иисус явно был человеком – совершенно обычным, нехаризматичным, неромантичным, обыденным. Обращаясь к двенадцати, Иисус спрашивает, не собираются ли они тоже оставить Его, и св. Иоанн записывает для нас замечательный ответ св. Петра: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни… Ты Христос, Сын Бога живого» (6:68–69). Пётр достиг такого состояния, к которому должны прийти мы все, если собираемся и дальше следовать за Иисусом: он не навязывает Иисусу свои амбиции или представления о том, как должен действовать Бог; он готов позволить Иисусу оставаться человеком и действовать так, как Тот считает нужным.
Постоянной угрозой для подлинной, честной и истинной жизни остаётся искушение увильнуть от «этого» Иисуса, обойти Его обычную человеческую природу, как-то избежать Его ничем не примечательных спутников и либо самонадеянно попробовать стать богом самим себе, либо состряпать себе куда более приличного, гламурного бога или богов, которые льстили бы нашему тщеславию[13]. Большинство из нас тратят очень много времени и сил на то, чтобы либо быть богами, либо творить себе богов. Но Иисус не даёт нам этого делать. Его Самого явно придумали не мы, и Он точно не из тех богов, которые будут пользоваться всеобщей популярностью.
ДушаКогда мы начинаем смотреть на себя и на тех, с кем работаем, «согласно Писанию», выясняется, что главное в нас – это то, что каждый из нас является человеком, состоящим во взаимоотношениях. Каждый человек – это уникальное создание, сотворённое «по образу Божьему». Помимо всего прочего, эта фраза означает, что каждый человек обладает невероятным достоинством и изначально предназначен для взаимоотношений.
Всё это мы будем описывать словом «душа»[14]. Это самый личный из всех имеющихся у нас терминов для обозначения того, кто мы такие. Слово «душа» утверждает целостность, совокупность всего, что значит быть человеком. Оно не даёт нам свести человеческую жизнь к биологии и гениталиям, к культуре и утилитарности, к расовой и этнической принадлежности. Оно указывает на глубинную сущность, которая пронизывает всё внешнее; на то невидимое, которое живёт во всём видимом. В слове «душа» мы слышим отголоски Божьего творения, Божьей поддержки и Божьего благословения. Это самый ёмкий термин для обозначения внутреннего ядра, глубинной сущности человека.
В древнееврейском языке слово «душа» (нефеш) является метафорой для шеи. Шея – это довольно узкая часть человеческого тела, которая соединяет голову (отвечающую за разум и нервную систему) со всем остальным; иными словами, она буквально «скрепляет» нас воедино. Физически голова находится выше тела (по крайней мере, когда мы стоим), и поэтому иногда мы говорим о так называемых «высших» функциях (способности мыслить, видеть, слышать и ощущать на вкус) по контрасту с так называемыми «низшими» функциями пищеварения и экскреции, потоотделения и совокупления. Но даже если в человеческой жизни и есть высокие и низкие аспекты (в чём я лично очень сомневаюсь), они всё равно не могут существовать независимо друг от друга. И соединяет их шея. Внутри шеи содержится узкий проход, по которому воздух проходит ото рта к лёгким и обратно, выходя из нас в виде речи – дыхания, духа, жизни, которую вдохнул в нас Бог. Через шею пролегает вся нервная система, разветвляющаяся от мозга. И именно на шее десять-двенадцать сантиметров самой крупной и могучей яремной вены, несущей кровь всему организму, оказываются в опасной близости к поверхности тела. Душа, нефеш, соединяет всё это в одно целое. Без души мы были бы нагромождением несоединимых частей, сгустками протоплазмы. Библии не свойственна страсть современных людей всё препарировать и изучать, чтобы понять, как мы устроены. Писание смотрит на нас иначе; в нём передаётся идея сознательно сотворённой цельности. Древние евреи прекрасно умели подбирать уместные метафоры, и «душа» остаётся одной из самых удачных их находок. У неё немало синонимов – это и сердце, и почки, и чресла, так что с каждой новой метафорой ощущение глубины, чего-то внутреннего, сокровенного только усиливается. Но «душа» остаётся среди них главной и основной.
Термин «душа», как магнит, стягивает все аспекты нашей жизни воедино, в одно целое. Человек – это одно громадное целое, и «душа» подразумевает именно это[15]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Элиот Т. С. Ист Кокер. Пер. В. Постникова. Стихи. ру [Электронный ресурс], 2011. – Режим доступа: https://stihi.ru/2011/10/08/8157, свободный. – Дата обращения: 26.08.2023.
2
Перевод Георгия Кружкова.
3
В труднопереводимом оригинале сонета Христос «играет в десятках тысяч мест, прекрасный в руках и глазах, не Своих, Отцу через черты людских лиц» (“Christ plays in ten thousand places, lovely in limbs, and lovely in eyes not his to the Father through the features of men’s faces”). То есть, по мысли поэта, Христос не только играет в нас и через нас, но и играет всё это и нас самих Отцу, как некое произведение, так что черты людских лиц становятся одновременно и отражением Отца (как это видно в русском переводе), и творческим высказыванием Христа, устремлённым к Отцу. – Примеч. пер.
4
Niebuhr R. Nature and Destiny of Man. New York: Charles Scribner’s Sons, 1941, vol. 2, p. 294.
5
Браунинг Р. Похороны грамматика / Пер. М. Гутнера. Библиотека электронной литературы в формате fb2 [Электронный ресурс], 2014. – Режим доступа: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%91/brauning-robert/stihotvoreniya/39, свободный. – Дата обращения: 09.09.2023.
6
Barrett W. The Faith to Will // The American Scholar (Autumn 1978), p. 526.
7
См. Steiner G. Grammars of Creation. New Haven: Yale University Press, 2001, p. 323.
8
Rosenstock-Huessy E. The Fruit of Lips: Or Why Four Gospels, ed. Marion Davis Battles. Pittsburgh: Pickwick Press, 1978, p. 85.
9
«Великая человеческая догма – это то, что ветер движет деревьями. Великая человеческая ересь – говорить, что деревья создают ветер» (Chesterton G. K. Tremendous Trifles. Beaconsfield, England: Darwen Finlayson, 1968 [first published, 1909], p. 92).
10
Не все учёные согласны, что здесь содержится намёк на что-то вроде парения птицы. Некоторые библеисты считают, что это словосочетание следует переводить как «жуткая буря» или «Божья буря» (von Rad G. Genesis, London: SCM Press, 1961, p. 47).
11
Наиболее авторитетную и исчерпывающую экзегезу этого термина представил Гордон Фи (Fee G. God’s Empowering Presence. Peabody, Mass.: Hendrickson, 1994, p. 28 и далее).
12
Хопкинс Дж. М. Божье величие. Пер. А. Парина. Живой журнал: Сообщество Божественной поэзии – ru-Lyrics [электронный ресурс], 2009. – Режим доступа: https://ru-lyrics.livejournal.com/1449365.html, свободный. – Дата обращения: 10.10.2023.
13
Об этом отрывке очень ёмко и точно писал Лесли Ньюбигин: «Источником неверия является желание иметь более „духовную“ религию. „Плоть“ Иисуса – конкретная, осязаемая человеческая природа Сына Человеческого – оказывается камнем преткновения, потому что запрещает всякую „духовность“, в которой каждый человек волен понимать „истину“ так, как представляет её себе в собственных мыслях. На библейском языке эта „духовная религия“ называется плотью. Это не что иное, как неверие, и именно оно проявляется сейчас среди учеников» (из книги «И пришёл свет»; Newbigin L. The Light Has Come. Grand Rapids: Eerdmans, 1982, p. 89).
14
К сожалению, в повседневной речи слово «душа» нередко обозначает некую «духовную» абстракцию, никак не связанную с реальной жизнью, нечто эфемерно-потустороннее, не имеющее отношения к нынешней повседневности. Но это слишком хорошее слово, чтобы оставлять его на милость варваров. Связанное с ним богатое наследие, накопленное благодаря многим столетиям чтения Писания и христианских размышлений, обязательно нужно сохранить.
15
Йоханнес Педерсен подробно исследует и излагает еврейские представления о том, что «человек, в своей совокупной сущности, является душой» (Pedersen J. Israel: Its Life and Culture. London: Oxford University Press, 1926, vol. 1, pp. 99–181).
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

