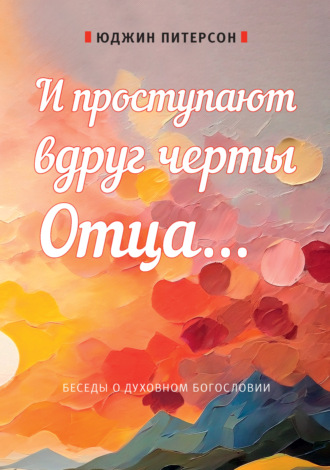
И проступают вдруг черты Отца… Беседы о духовном богословии
Бог дует или дышит над этими водами. Его дыхание есть жизнь и порождает жизнь. Мы видим, как ветер движется над этими неуправляемыми волнами, тёмными и смертельно опасными, как Бог вдыхает жизнь в эту не-жизнь, в эту анти-жизнь.
А затем это Божье дыхание, которое уже не является просто невнятным дуновением, начинает производить слова. То же дыхание/дух, благодаря которому появился ветер, теперь порождает язык. Сначала мы видим эффект Божьего дыхания над водами, а затем слышим, как это дыхание складывается в слова: «И сказал Бог…» В этом коротком отрывке Бог говорит восемь раз. Эти восемь предложений умещают в себя всё существующее, охватывают всю вселенную. «Творение» включает в себя всё, что есть на небе и на земле.
Но это ещё не всё. Божий Дух, витавший над бездной вод «в начале», продолжает двигаться, продолжает творить. Книга Бытие не только рассказывает о начале нашего мира, но и свидетельствует о том, что Божий Дух продолжает творить и сейчас. В Библии глагол «творить» используется исключительно по отношению к творящему Богу. Люди и ангелы ничего не творят. Творит только Бог. Однако чаще всего этот глагол встречается вовсе не в повествовании о том, как появились небо и земля, а в рассказе о пророческой и пасторской миссии во время Вавилонского пленения в VI веке до Р. Х. Тогда еврейский народ потерял буквально всё: свою государственность, свой храм, свои дома и хозяйство. Их насильно увели по пустыне за сотни километров, и теперь они были вынуждены кое-как выживать в чужой стране. У них не осталось ничего. У них отобрали не только имущество, но и главную их сущность: осознание себя как Божьего народа. Их лишили привычных корней и зашвырнули в незнакомую страну, кишащую идолопоклонством. Но именно здесь, в этих условиях, они услышали глагол «творить» из книги Бытие совершенно в неожиданном и новом контексте.
В Библии слово «творить» (и «Творец») чаще всего встречается в проповедях Исаии, звучавших во время Вавилонского пленения: если в рассказе о сотворении оно употребляется всего шесть раз, то у Исаии мы встречаем его целых семнадцать раз. В Вавилоне в VI веке до Р. Х. Божий Дух точно так же сотворил жизнь из ничего, как в тот первый раз, когда витал над бесформенными водами «тьмы над бездною». В пророчествах Исаии мы снова и снова видим, как Дух-Творец создает и пригодные для жизни структуры, и человеческие жизни, способные жить в этой структуре здесь и сейчас. Слово «творить» описывает не только былые деяния Духа; оно описывает то, чем Дух занят сейчас. Творение – не безликая среда, а дышащий личностью дом – дом, в котором мы живём. И во время Вавилонского пленения Исаии удалось перенести каждую подробность рассказа о сотворении в нынешнюю жизнь, когда мы чувствуем себя такими недосотворёнными, бесформенными, неприспособленными к жизни в этом мире. Думая о Духе и Его акте творения, мы уже не спрашиваем только о былых событиях: «Когда всё это было? Как всё это было?» Мы спрашиваем: «Как я могу принять в этом участие? Где моё место во всём этом?» И молимся: «Сотвори во мне…» (Пс. 50:10).
Евангелие от Марка 1:9–11«И было в те дни, пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Перед нами ещё одно, второе начало: Иисус принимает крещение, и Бог называет его Своим «возлюбленным Сыном».
В книге Бытие мы видим космологию, историю происхождения мира, когда Бог Своим дыханием придал водному хаосу форму, вдохнул в него полноту и свет, произведя из не-жизни всю жизнь, органическую и неорганическую. В Евангелии от Марка мы видим местную речку с конкретным названием, в которой Иисус принимает крещение: сначала Его погружают под воду, а потом поднимают из неё. Крещение – это повторение сотворения. Когда Иисус поднимается из воды, Бог вдыхает в Него Свою жизнь. На этот раз Божье дыхание даже принимает видимую форму – вид голубя, спускающегося с небес.
Спускающийся на Иисуса голубь визуально связывает этот эпизод с Быт. 1. Глагол, описывающий, как Дух Божий «носился (merachepheth) над водою», можно перевести также как «витать» или «парить». Он встречается во Втор. 32:11, где речь идёт об орле, заботливо «носящемся» над своими птенцами[10]. Этот образ птицы – парящего орла из книги Бытие и спускающегося с неба голубя у Марка – помогает нам представить себе Божьего Духа.
В книге Бытие мы сначала видим Божье дыхание, а потом слышим его в речи («Да будет…»); то же самое происходит и в Евангелии от Марка: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мк. 1:11).
Между событиями первой главы книги Бытие и приходом Иисуса много всего произошло. Творение, возникшее благодаря живоносному Божьему дыханию, успело довольно серьёзно поистрепаться. В нём прочно утвердилась смерть – смерть как анти-творение, как отрицание и уничтожение жизни, как враг жизни. В смерти нет энергии, нет движения, нет слов. Однако за смертью никогда не остаётся последнее слово. Жизнь – движимая и вдохновляемая Божьим дыханием и словом – всегда продолжает пробиваться наверх, выживать и временами даже процветать. С проникновением смерти в творение в языке появилось великое множество слов для обозначения всевозможных её форм: «грех», «бунт», «беззаконие», «нечестие» и так далее. Библия разворачивает перед нами подробный рассказ о том, как жизнь то и дело подвергается нападкам смерти, но неизменно выживает и преодолевает смерть благодаря тому, что Бог постоянно, как прежде и по-новому, вдыхает жизнь в это стенающее от смерти творение, в измученных смертью людей. И в этом рассказе постепенно проступает сложный сюжет о том, как Бог сотворил путь жизни из этого хаоса и несчастья, как Бог противостоит смерти, как Бог вдыхает жизнь в творение и во всех живущих, и как Его жизнетворное дыхание снова и снова обретает звук в языке. Словарь жизни противостоит словарю смерти и превозмогает его: «любовь» и «надежда», «послушание» и «вера», «спасение» и «обетование», «благодать» и «хвала». Слова, снова и снова восклицающие «аллилуйя» и «аминь».
И теперь тот же Божий Дух, Который столь щедро провозгласил к жизни всё существующее, придав форму бесформенности, бездне и тьме и сотворив «на небе и земле» все звёзды и растения, всех животных, рыб и птиц, мужчину и женщину, – тот же Божий Дух спускается на Иисуса, Которому поручено провозгласить спасение нашему несчастному миру, изъеденному грехом и искалеченному смертью.
С этого самого момента Иисус, исполненный Божьим дыханием жизни и благословенный Богом, начинает вершить окончательное спасение от смерти.
Деяния апостолов 2:1–4«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
Перед нами – ещё одно, третье начало: Бог дышит на собравшихся вместе учеников Иисуса и создаёт из этих ста двадцати человек святое сообщество, церковь.
В день Своего вознесения на небо Иисус сказал апостолам, что Бог вдохнёт в них жизнь – точно так же, как при сотворении Он вдохнул жизнь в небо и землю и как вдохнул благословение в Иисуса в момент Его крещения, подтверждая, что именно в Нём будет завершено дело спасения. И когда Бог таким образом вдохнёт в них жизнь – или, по словам Иисуса, когда они будут «крещены Святым Духом» (Деян. 1:5), – они обретут энергию и силу для того, чтобы продолжать боговдохновенное творение неба и земли и боговдохновенное крещение Иисуса. Иисус дал им новое наименование: «Мои свидетели».
Они поверили в Его обещание. Они рассказали об этом другим ученикам Иисуса, и вскоре их было уже сто двадцать: сто двадцать человек, ожидающих, что Бог вдохнёт в них боговдохновенное творение неба и земли и боговдохновенное крещение Иисуса. Они ждали десять дней. Когда же это наконец произошло (а это действительно произошло), их ожидали немалые сюрпризы. Тесная связь с тем, как Бог вдыхал жизнь в Своё творение и вдыхал благословение в Иисуса, была налицо, но одновременно всё как бы усилилось: святое дыхание превратилось в святой ветер, «несущийся сильный ветер» (Деян. 2:2), и наполнило всё то место, где они собрались (ст. 2). Вскоре этот ветер наполнил их самих (ст. 4). И как будто одного этого было недостаточно, добавилось третье знамение, огненные языки. Для собравшихся в тот день учеников огонь – обычно огонь жертвенника – был прочно связан с Божьим присутствием: со всесожжением, принесённым Авраамом в земле Мориа, с огнём на жертвеннике скинии при Аароне, с пламенем на горе Кармель при пророке Илии. Но здесь всё тоже было усилено: огонь был разделён и распределён на всех – каждый лично был запечатлен языком огня, каждый лично стал жертвенником, зримо и явственно пылающим огнём Божьего присутствия. Дыхание творения и крещения Иисуса переросло в сильный ветер, а прежнее пламя жертвенника разрослось в отделяющиеся языки огня, пылающие над каждым из ожидавших мужчин и женщин, так что каждый из них сам стал знамением живого и присутствующего среди нас Бога.
А затем, повторяя то, что уже произошло при сотворении и во время крещения Иисуса, это дыхание/ветер – то есть живое присутствие Бога, наполнившее их собою, – сформировалось в слова, которые произносил каждый из них. Огненные языки обрели звук в языках человеческой речи. Божье дыхание, оформившееся в речь, вырывалось из уст мужчин и женщин, говоривших на всех языках (в тексте их перечислено шестнадцать), представленных в тот день в Иерусалиме, и все они по большому счету говорили об одном и том же, «о великих делах Божьих» (ст. 11).
Конечно же, все были ошеломлены. И первым, что привлекло всеобщее внимание, было именно чудо языков – эта явно вдохновлённая Богом и свидетельствующая о Боге речь на (как минимум) шестнадцати языках, раздающаяся из уст обыкновенных мужчин и женщин («галилеян», то есть провинциалов, которые никак не могли знать больше одного-двух языков). Вавилонское смешение языков (Быт. 11) было преодолено и развёрнуто вспять. И это продолжающееся чудо, которое не переставало поражать людей, было тем самым Божьим дыханием (жизнью), что когда-то сотворило небо и землю, благословило Иисуса и наделило Его силой, а теперь наполняло обычных мужчин и женщин и превращалось в слова, свидетельствующие о великих делах Бога в творении и в спасении, совершённом через Иисуса.
* * *Эти три текста похожи на треножник, укореняющий все аспекты жизни – творение, спасение, сообщество – в живом (дышащем) Боге. Только живой Бог творит жизнь. Только Божий Дух наделяет духом. Божий Дух не играет второстепенную роль в основном действии; Он и есть это самое основное действие. Дух объемлет собой всё. Эти три текста также показывают, что в творении, спасении и продолжении жизни всегда участвует язык.
В христианской традиции Дух и Слово органически связаны друг с другом. Они не просто дополняют друг друга или родственны друг другу; они представляют собой разные грани одной и той же сущности. Время от времени люди пытаются сконструировать духовность без слов, где молчание является главной целью. Да, в большинстве религий или духовности действительно слишком много разговоров. Но эти три текста авторитетно утверждают: рано или поздно что-то всё равно обязательно говорится, и именно посредством произносимого слова реальность обретает бытие.
Четыре библейских термина
Для того чтобы качественно исследовать природу и динамику христианской жизни (а значит, христианской духовности), нам понадобится четыре термина. Они действуют не поодиночке, а вместе, как квартет, и все четыре нужны нам одновременно, даже если время от времени один из них будет выходить на первый план. Подлинная значимость каждого из них складывается не только из значения этого самого термина, но и из того, как он функционирует в связи со всеми остальными. Вот этот квартет: «духовность», «Иисус», «душа» и «страх Господень». «Духовность» подчёркивает всеобъемлющий характер происходящего и включает в себя всё, что имеют в виду люди, когда говорят или думают о значимости своей жизни, а также о Боге, о мире и о личном смысле своего существования. «Иисус» даёт нам конкретный фокус. «Душа» выражает нашу человеческую индивидуальность. «Страх Господень» задаёт настроение и ритм, благодаря которому все четыре термина могут действовать вместе и двигаться в одном темпе.
В этих четырёх терминах нет ничего эзотерического или непонятного; все они являются частью обычной речи, и их вполне можно услышать в ближайшем кафе, в парикмахерской или на семейном празднике. Правда, употребляют их по-разному, достаточно небрежно – и чаще всего совсем не в том смысле, какой они имеют изначально. Так что, поскольку эти термины лежат в основе этой книги, будет полезно сначала подумать о том, как они звучат и какие ассоциации связаны с ними в христианской жизни – то есть в том естественном контексте, откуда они родом.
ДуховностьЕсли забросить невод «духовности» в море современной культуры, в нём окажется великое множество духовных рыб – пожалуй, не меньше, чем во время чудесного улова «больших рыб» в Ин. 21:11. В наше время для предпринимателей «духовность» превратилась в крупный бизнес, для тех, кому скучно, – в ещё один способ развлечения, а для остальных (много их или мало, сказать трудно) – в серьёзное и дисциплинированное решение жить по-настоящему полноценной и глубокой жизнью по отношению к Богу.
Если раньше слово «духовность» использовалось исключительно в традиционных религиозных контекстах, сейчас его употребляют почти без разбора самые разные люди в самых разных обстоятельствах, придавая ему самые разные смыслы. Когда-то это слово было чистым и высоким, но теперь его притащили в грязноватый и грубый мир рынка и развлечений. Многих это огорчает, но мне кажется, причитать по этому поводу не стоит. Нам действительно нужно именно такое слово.
Все попытки застолбить это слово исключительно для христианского или другого религиозного употребления обычно начинаются с того, что ему дают определение. Но все подобные попытки определить «духовность» – а их, поверьте, немало – оказываются тщетными. Это слово не поддаётся жёсткой дисциплине словаря. Но его полезность и употребительность в современной культуре состоит как раз не в его точности, а в том, что им называется нечто такое, что трудно определить, но легко узнать: трансцендентность, которая одновременно так или иначе переплетена с близостью. Трансцендентность – это ощущение присутствия в жизни чего-то большего, чем я сам, чем моя зарплата, уровень холестерина в крови и то, что думают обо мне жена и дети. Близость – это ощущение, что глубоко внутри меня есть некая сердцевина, нечто такое, что недоступно ни врачам, ни психологам, ни социологическим опросам, ни рекламным стратегиям. И даже если слово «духовность» не обладает особой точностью, тем не менее оно обозначает всё, что усматривает и признаёт эту органическую связь с чем-то Запредельным и чем-то Внутренним, глубинным, которые являются частью опыта каждого человека. Нам действительно необходим такой общий термин, который собирал бы в один невод всё, что указывает на Запредельное и Внутреннее, и этим всеобъемлющим термином остаётся «духовность».
* * *Исторически слово «духовность» появилось в словарях сравнительно поздно и лишь недавно вошло в повседневную обиходную речь. Говоря о «духовном» (pneumatikos), апостол Павел имеет в виду поступки или настроения, связанные с действием Святого Духа во всех христианах[11]. Лишь много позднее, в средневековой церкви – и особенно в контексте монашества – это слово стало обозначать образ жизни некой христианской «элиты», стремящейся жить согласно вере на более высоком уровне, нежели обычные христиане. Жизнь «духовных» христиан (в основном, монахов и монахинь, давших обеты целомудрия, бедности и послушания) составляла резкий контраст с пёстрой и путаной жизнью обычных людей, которые женились и выходили замуж, рожали детей и не гнушались грязной работы в полях и на рынках в мире, где «торговли яд, труда тупого смрад и пот забот во всём»[12]. Тогда словом «духовность» стали обозначать науку и практику безупречной жизни перед Богом, исключительной и образцовой святости христианской жизни; оно превратилось в специализированный термин, относящийся лишь к очень небольшой группе людей и потому не употребляющийся в обиходной речи.
В повседневный язык оно вошло в каком-то смысле через чёрный ход. В семнадцатом веке во Франции среди католиков-мирян возникло движение, провозглашавшее радикальную по тем временам мысль: настоящей христианской жизнью можно жить не только в монастыре. Сторонники этого движения утверждали, что обычный христианин способен жить по-христиански точно так же, как любой монах или монахиня, – и ничуть не хуже! Мадам Жанну Гийон и Мигеля де Молиноса, выступавших от имени движения, официальная церковь объявила еретиками, назвав их верования «квиетизмом». Глядя на квиетистов свысока, религиозный истеблишмент стал употреблять термин la spiritualité как уничижительный по отношению к мирянам, слишком ревностно практикующим свою веру, высокомерно отмахиваясь от этих христиан-выскочек, которые не понимают, что делают, о чём пишут и что практикуют. Считалось, что некоторые вещи лучше оставлять в руках специалистов. Однако пытаться заставить этих мирян замолчать было уже поздно: их секрет успел стать всеобщим достоянием.
Надо сказать, что уничижительный оттенок слова «духовность» исчез довольно быстро. В протестантской среде серьёзное отношение к вере среди рядовых христиан называлось по-разному: пуритане называли его «благочестием», методисты – «совершенством», а лютеране – «пиетизмом». Сейчас «духовность», этот общий, несколько неопределённый, но всеобъемлющий термин, покрывает великое множество понятий и используется в общем и целом в одобрительном смысле. Сегодня духовным может быть любой.
Интересно отметить, что некоторые нынешние «специалисты» в сфере религии снова начали употреблять этот термин с пренебрежительным оттенком. Поскольку сейчас это модное слово используется в самом широком смысле и самыми разными людьми, некоторые авторитетные профессионалы считают этих людей невежественными и недисциплинированными и относятся к популярным формам духовности свысока, считая их досадными заблуждениями.
* * *В центре всей серьёзной духовности стоит жизнь, умение жить полноценной, качественной жизнью. В трёх основных библейских языках (древнееврейском, древнегреческом и латинском) слово «дух» имеет корневое значение «дыхание» и легко становится метафорой для всей жизни. Это слово является ключевым в тех двух историях (о Никодиме и самарянке) и трёх текстах (из книги Бытие, Евангелия от Марка и Деяний апостолов), которые задают тон нашему разговору. В каждом случае «дух» – это Божий Дух: Бог живой, Бог творящий, Бог спасающий, Бог благословляющий. Бог живёт и даёт жизнь. Бог живёт, и из Него изливается жизнь. Бог живёт и пронизывает Собой весь наш опыт – всё, что мы видим, слышим, осязаем и чувствуем на вкус.
В данный момент истории слово «духовность» стало основным термином для обозначения этой обширной и сложной сети жизни, этой «живости». Может быть, это не самый удачный термин, но другого у нас пока нет. Главный его минус состоит в том, что (по крайней мере, в английском языке) слово «духовность» превратилось в нечто абстрактное, хотя метафора «дыхания» в нём всё же угадывается. И эта абстракция нередко затемняет изначальный смысл, стоящий за словом «духовность»: живой Бог, присутствующий и действующий среди нас.
Проблема состоит в том, что в современной культуре это слово по большому счёту утратило религиозный смысл и в результате стало обозначать просто «жизненную силу», «сфокусированную энергию», «скрытые источники полноты жизни» или «бодрость, исходящую изнутри». Для большинства людей духовность никак не связана с жизнью с Богом, с Божьим Духом, с Христовым Духом, со Святым Духом. Чем более секуляризованным становится это слово, тем больше оно утрачивает свою полезность. Тем не менее другого у нас нет, и потому, как и другие обескровленные до неузнаваемости слова (например, «супружество», «любовь», «грех» и т. п.), оно нуждается в постоянной реабилитации. Я сам взял за правило использовать его как можно реже, следуя примеру Писания, которое всячески избегает любых абстракций, и предпочитаю обращаться к историям и метафорам, позволяющим нам погрузиться в реальность того, о чём идёт речь, стать её участниками.
Абстрактная неопределённость этого слова легко становится удобным прикрытием для идолопоклонства. Во всех нас живёт склонность к идолопоклонству – то есть к стремлению свести Бога к концепции или объекту, которые мы можем использовать в своих интересах. И поскольку сейчас слово «духовность» в общем и целом ассоциируется с искренностью и стремлением ко всему доброму, нередко оно быстро и незаметно обрастает идолопоклонническими, потребительскими мотивами и утягивает нас в весьма нездоровый и вредный образ жизни и мышления.
С поверхностными заблуждениями разобраться достаточно просто. Не надо думать, что духовность неважна, поскольку нематериальна; что она никак не проявляется внешне, раз носит внутренний характер; что у духовности нет видимых эффектов, раз она невидима. Всё ровно наоборот: духовность очень тесно связана с материальным, внешним, зримым миром. На самом деле суть духовности в том, чтобы обозначать живое по контрасту с мёртвым. Когда в ком-то или в чём-то, будь то человек, предмет, традиция или институт, не остаётся жизни, мы быстро это чувствуем и в конечном счёте начинаем замечать (даже если далеко не сразу). Вот почему мы ищем какое-то общее слово, какую-то универсальную категорию, куда можно запихать все открытия, образы и желания, для которых у нас нет точного названия. Для этих целей ярлык «духовности» подойдёт не хуже любого другого.
Такое повсеместное и неразборчивое употребление слова «духовность» вполне понятно в обществе, где человека постоянно обезличивают, психологизируют и низводят до уровня функции. Уникальность каждой конкретной жизни сводится к редукционистским абстракциям. Жизнь вытекает из нас, словно вода из прохудившейся трубы, когда в нас видят исключительно имидж, роли, объекты, товары, экономический потенциал, человеческий капитал или потребительский рынок. И хотя в результате этих многообразных редукций повседневная жизнь становится намного проще и легче, что-то внутри нас противится и восстаёт против них – пусть даже не всегда, а время от времени. Большинство из нас хотя бы иногда ощущает, что есть нечто большее, нечто гораздо большее, и мы ищем слово, любое слово, чтобы назвать то, чего нам не хватает.
Но если мы всё-таки будем использовать термин «духовность» (а я не вижу, как мы можем его избежать), нам придётся делать это со всей внимательностью, не теряя бдительности. Бдительность – это умение распознавать признаки того, что духовность теряет своё основное качество, обездуховляется; это умение вовремя видеть и называть то великое множество способов, с помощью которых дьявол соблазняет нас стать «как боги» (Быт. 3:5). Чтобы сохранять эту бдительность, нам нужно прежде всего постоянно и с усердием читать Священное Писание.
Внимательность же – это умение видеть многообразные и неимоверно щедрые проявления того, как Бог даёт жизнь, обновляет жизнь и благословляет жизнь; это умение замечать и настойчиво утверждать, что всё в этом творении может наполниться жизнью. Чтобы подпитывать эту внимательность, нам нужны совместное поклонение и личная молитва.
Я вполне готов трудиться на этом поле духовности, употребляя в дело всё, что мне предлагается, каким бы расплывчатым и смутным оно ни было. Но мне также хочется придать духовности как можно больше ясности и определённости, утверждая, что жизнь – вся жизнь! – всегда берёт своё начало в Боге, продолжается благодаря Богу и несёт в себе Божье благословение: «Буду ходить пред лицом Господним на земле живых» (Пс. 114:8).
ИисусЕсли полезность термина «духовность» состоит в том, что он, оставаясь неопределённым, указывает на всё, что Больше, Выше и Глубже нас самих, слово «Иисус» полезно потому, что собирает всю эту рассеянную расплывчатость в чёткий, ясный, исполненный света фокус, так как в христианском понимании жизни нет ничего неопределённого (хотя двойственности в ней хватает!). Здесь духовность никогда не рассматривается как нечто самостоятельное и отдельное. Это всегда действие Бога, благодаря которому все люди вовлекаются в жизнь Бога и участвуют в ней, либо становясь Его друзьями, либо восставая против Него.

