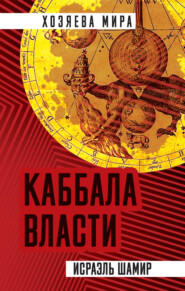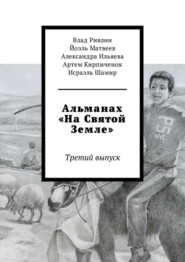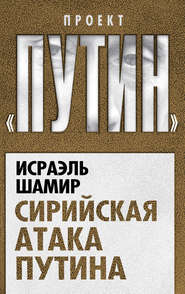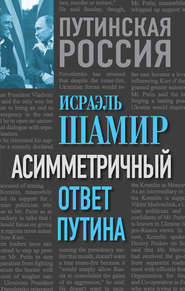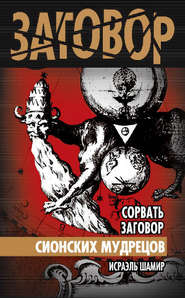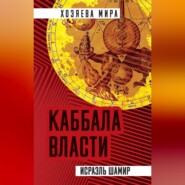По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сосна и олива. Израиль и его соседи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Олива – кормилица палестинцев. Она поставляет масло к хлебу. Симбиоз оливы, человека, ослика и козы – вот синопсис жизни в Святой Земле. Все свободное время крестьянин проводит вокруг своих олив, окапывает, окучивает, заботится. Олива приносит хороший урожай только раз в два года, что породило пословицу – «паам асал, паам басал» (когда густо, а когда и пусто) на смеси иврита и арабского. Олива сделала жизнь в Нагорье возможной и экономически сносной. В каждом селе – свои оливы и свое оливковое масло, знатоки запросто различают его на вкус. Стоит оно тоже по-разному – масло Бир-Зейта стоит дороже среднего, а еще дороже стоит масло Бет Джаллы и совсем маленького Шарафата. Маасера – оливковый пресс – раньше был в каждом селе, но сейчас крупные села завели промышленные установки.
Традиционный процесс выжимки масла состоит из двух этапов, динамического и статического давления. Сначала собранные оливки рассыпают по каменной поверхности горизонтального массивного жернова. Затем запрягают ослика в упряжку, притороченную к деревянной оси вертикального жернова, и ведут по кругу. Огромная тяжесть жернова крушит маслины и выжимает самый первый сок.
Наступает очередь второго этапа, он производится под давлением вертикального пресса, состоящего из деревянной рамы, похожей на раму гильотины, только вместо «национальной бритвы» на ней подвешены тяжелые жернова. Раздавленные в кашицу маслины кладут в джутовые мешки, и складывают штабелем под жернова. Здоровое бревно служит рычагом для передачи постоянно возрастающего давления на мешки. К концу бревна подвешивают груз, который можно перемещать от одного надреза к другому. В течение нескольких дней из мешков вытекает нежно-зеленый, мутноватый сок оливы. Он отстаивается и разлагается на воду и масло. И вот чудо – попробуйте, возьмите в рот маслину и убедитесь, какая она горькая, но масло совершенно не горчит!
Старинные, классические маасеры можно увидеть повсюду – перед церковью Хлебов и рыб в Табхе на берегу Галилейского моря, в пещерах Бет Джубрина, в любом крепком палестинском селе. Можно их увидеть и в действии, например в маленьком заповеднике Неот Кедумим, где показывают «традиционную древнееврейскую жизнь», а практически – традиционное палестинское хозяйство, только без палестинцев. Здесь можно увидеть маасеру в действии и съесть палестинский завтрак – свежее оливковое масло, теплые лепешки, мягкий козий сыр «лабане» и заатар, сушеный цвет горного иссопа.
Там же, да и повсюду можно увидеть второе изобретение, позволяющее жить в Палестине без источников. Например, в вади между Гило и Бет Джаллой стоит полуразрушенный дом, а рядом с ним – красивая, правильной сферической формы, яма-водосборник, ловящая воду дождей, текущую по руслу. Это – одна из красивых и обычных водосборных ям Нагорья, напоминающая о подлинной революции в хозяйстве Святой Земли, которая произошла более трех тысяч лет тому назад.
До этого жители Нагорья не умели хранить воду подолгу. Они с трудом перебивались от дождей до дождей – ведь с Пасхи до Кущей, с апреля по октябрь обычно не падает ни капли воды с раскаленных палестинских небес. Дожди производили траву, зимой трава питала и поила овец. Но сухим летом овцам нужна вода, не только трава, и источники и колодцы помогали пастухам. К концу лета многие источники пересыхают, а если выпадет подряд несколько засушливых лет, то и зимой вода в них не появится, и тогда овцы дохнут и страну поражает голод, вроде того, что вынудил Авраама, а затем и Иакова – уйти в Египет. Осадков в Нагорье достаточно – в Иерусалиме выпадает такое же количество дождей, что и в Лондоне. Но лондонский дождь размазывается на триста дней в году, а иерусалимский вкладывается в полтора месяца. Поэтому главное – научиться хранить и беречь дождевую воду.
Водосборные ямы древности недолго удерживали воду источников и дождей – вода просачивалась сквозь пористые стенки ям и исчезала. Три с лишним тысячи лет назад был изобретен раствор, позволивший цементировать водосборники. С тех пор скот и люди могли совладать с засухой и могли оставаться на своих пастбищах, не укочевывать к вечно бьющим источникам и рекам. Наряду с приручением верблюда, позволившим бедуину освоить просторы пустыни, изобретение цементирующего раствора было подлинно революционным: население страны перестало быть полукочевым, возникли оседлые крестьянские хозяйства. Города в богатых водой местах существовали и раньше, но за их стенами только цементирующий раствор решил проблему воды, причем решил, не ограничивая изначальной вольности Палестины.
В Палестине практически никогда не было сильной центральной власти, восточного деспотизма. Этим страна отличалась от своих мощных соседей – сверхдержав древности: Египта и Вавилона. Месопотамия и Египет были «речными цивилизациями», где, по словам Маркса, «климатические условия… сделали систему искусственного орошения при помощи каналов и ирригационных сооружений основой земледелия… для чего требовалась централизующая власть правительства»[1 - Т. 9, стр. 132.]. В Палестине не было рек и каналов, а многокилометровые водоводы возникли лишь в римскую эпоху для поддержания больших городов. Библия сравнивает Палестину с долиной Нила: «Земля эта не похожа на землю Египетскую, где ты, посеяв семена, поливал их, как масличный сад. Земля, в которую вы переходите, есть земля с горами и долинами и от дождя небесного напояется водой». Поэтому в Святой Земле не было нужды в сложном хозяйстве и в центральной власти: каждое село было полностью автономным и не нуждалось в мощных плотинах и каналах для своего существования.
Когда Голда Меир, последний пат— (мат?)риархальный лидер Израиля, сказала, что палестинцев не бывает, она была права в одном смысле – в Святой Земле никогда не было одного, единого, однородного народа, населявшего страну. (Впрочем, где есть однородный народ? Во Франции? Меж бретонцев, лангедокцев, гасконцев, провансальцев? В России? Будто там нет новгородцев, казаков, сибиряков, рязанцев? Может, однородный народ – лишь идеал мультинациональных корпораций, желающих увеличить доходы и уменьшить расходы гомогенизацией населения?) Не были единым народом и племена Израиля, к которым возводят свою родословную евреи, да и сегодня коренное население страны ощущает свое единство только перед лицом военных властей – что является производным от местных источников воды и трудности передвижения. «Святая Земля разделена на крошечные провинции— горами и пустынями, как швейцарские кантоны разделены Альпами. Страна населена расой, состоящей из малых и независимых племен, что соответствует и усиливает характер рельефа. Колена и кланы из Аравии заполнили уголки страны, сохранившей свой дважды племенной характер – и по форме, и по характеру населения»[2 - Дж. А. Смит, 31.].
Святая Земля абсолютно локальна, неоднородна, и мечты ее совершенно анархичны: «Каждый под своей смоковницей, каждый под своей лозой». Для достижения независимости селам и племенам было нужно только одно – разработать источник воды и удержать дождевые потоки. И бедуины, приходившие из пустыни сплоченными племенами и племенными союзами, как легендарные сыны Израиля, немедленно рассыпались на крошечные группы и семьи по достижении Земли Обетованной. «Единство было нужно воинам для господства над народами, а спокойные кочевники могли пасти свой скот порознь», – писал Лев Гумилев[3 - «Хунну».].
Для сохранения воды местные жители были готовы закатать рукава и сотворить чудеса. На юге Иудеи, к востоку от большого села Ятта лежит маленькая деревня Кармил, шейх которой, Набал, спорил однажды с вождем окрестных разбойников, будущим царем Давидом, и лишился добра, жены и жизни – именно в таком порядке[4 - I Царей, 25.]. В деревне – два древних кургана, с руинами всех времен, остатками двух церквей и крепости крестоносцев. Между двумя курганами бьет крошечный источник, практически пересыхающий к середине лета. Но на всякий случай у этого источника сооружен огромный водоем, в котором хватило бы места для всех вод всех источников Восточной Иудеи. Нынешний водосборник сооружен, собственно, англичанами – но на древнем фундаменте. Овцы Кармила по сей день благодарят строителей водоема своим блеянием. Без водоема им пришлось бы укочевывать летом к другим источникам и колодцам.
Водоем Кармила спасает лишь отчасти. Израильские поселения, устроившиеся неподалеку, качают воду из аквифера горы, и хилые естественные источники иссякают. В Кармиле люди редко видят воду. Зажиточные семьи покупают цистерну с водой, как в других местах покупают горючее. Вода из крана течет раз в неделю – две. Палестинцы не имеют права вырыть колодцы – вода принадлежит только израильтянам. Аквифер горы снабжает не только Нагорье, но и Побережье. В Кесарии на трех человек (не на три дома, а на трех человек) приходится один плавательный бассейн. В Кармиле на трех человек приходится один литр воды в день.
Когда посторонний, турист или неопытный человек проезжает по нашим местам, он отмечает роскошную зелень вокруг еврейских поселений и выжженную пустыню – вокруг палестинских сел, и скоропалительно бормочет: «Араб – отец пустыни». Он не понимает, чья рука лежит на водораспределительном кране. Так мот, проматывающий кредиты и займы, может показаться богатым. Пополнение подземных резервуаров Палестины происходит медленно. Традиционное палестинское хозяйство бережно использует эти резервуары. Вчерашние советские люди, не знакомые с кредитными картами и банкоматами, были уверены, что иностранцы просто берут деньги из стенки, как при коммунизме. Так же отнеслись израильтяне к воде палестинского аквифера. В банке празднество кончается, когда автомат съедает кредитную карту и предлагает обратиться к менеджеру вашего отделения. В Палестине израильские хозяйства выпили всю воду, потом перекрыли кран – палестинцам. Палестинцы, веками берегшие аквифер, остались без воды.
Возможно, израильтяне не сразу поняли, что уничтожение водных запасов и гибель природы играют им на руку. Ведь местные жители обречены на гибель, если уничтожен породивший их ландшафт. Но со временем до этой простой истины дошли многие: ведь каждая артезианская скважина губила естественный родник неподалеку. Родник был – палестинцев, скважина – евреев. Когда палестинцы пробовали бурить скважины, израильтяне вводили танки и уничтожали колодцы. Чем меньше воды, тем прочнее израильская власть.
Второй способ добычи воды – создание длинных и сверхдлинных туннелей для воды. Для того, чтобы сосредоточить все капельные прорывы, нужно глубоко врезаться в гору. Хотя обычные туннели не превосходят десяти метров, есть и куда более длинные туннели – рядом с обычными селами. Источник Эн-Хиндак, совсем недалеко от иерусалимского пригорода Кириат-Менахем и от больницы «Гадасса», врезается на 65 метров в толщу горы. Туда легко подойти и зайти в чистую воду, с фонарем уйти подальше, и так провести жаркое время дня.
Чудовищно длинен тоннель маленького источника Эн-Джавиза в русле Рефаим – его общая длина 2150 метров (частью крытой канавки и частью настоящего прорубленного в скале тоннеля).
Третий прием – сооружение дамб и плотин, перекрывающих русло речки. Чтобы остановить дождевую воду, идущую лавиной, палестинцы применяют эту технику – в основном к востоку от гор, в пустыне. Над руинами Кумрана, где сегодня туристы отовариваются мазями Мертвого моря и заглядывают в пещеры, скрывавшие тайны рукописей, крутое ущелье обрушивается лавиной сухих водопадов на рыхлую почву лиссанской породы. Оттуда ведет хорошо сохранившийся акведук, проходя туннелями и мостами по извилинам ущелья, и несет воду к множеству водосборников Кумрана. Ирод Великий, решивший обеспечить Масаду водой на все случаи жизни, перекрыл ущелье и погнал воду по акведуку в огромные резервуары в западной стене скалы. Они вмещали 40.000 кубометров воды – чего хватало на бассейны, фонтаны и души.
Благодаря этим приемам, жизнь стала возможной повсюду в горах Палестины.
Глава III. Свято место не бывает пусто
«Если хочешь, Господи, можешь удалить Свое Присутствие, нас Иерусалим и так устраивает», – полушутя говорят иерусалимцы. Попробуем исполнить это пожелание. Представим себе, что исторический, богатый традицией Иерусалим исчез, и мы увидим то, что увидел Авраам 3800 лет назад – маленькая деревня возле источника, орошающего узкую долину, а напротив – красивая некрутая гора, на вершину которой хочется подняться, чтобы уйти от мирских дел и обратиться к Богу. На горе с ее плоской вершиной – ровная скала, на которой молотят и веют зерно, старинное дерево, большой камень, вокруг – горы, голые к востоку и облесенные к западу. Тут бы и мы – как Авраам – поняли, что на этой горе суждено стоять алтарю Господа. Но единственному ли алтарю? Ведь на самом деле, мы описали то, что видит путник сегодня в деревне Дура-эль-Кари меж Рамаллой и Наблусом.
Напротив села, с другой стороны узкой долины – плоская вершина горы. На ней растут древние дубы и оливы – священная роща. В пещере бьет родничок – в жаркие дни лета он, не вытекая из высеченной в скале пещеры, образует крошечное озерко живой воды и его хватает только для утоления жажды путника, готового напиться из горсти. У самого старого дуба – небольшое строение с куполом – вали, гробница святого шейха Абдаллы. В нем две комнаты – в большей стоит внушительный покрытый многими покрывалами, зелеными и белыми, сенотаф – надгробие, в меньшей, в нише в стене, лежат свечи, которые зажигают крестьяне из Дуры и из ближнего Эн-Ябруда, с другой стороны маленькой долины, когда они приходят сюда с просьбами и обетами.
Нынешней гробнице около пяти веков, но она сложена из камней, тесаных две тысячи лет назад. Рядом с гробницей руины, Хирбет-Рарейтис, в которых специалисты видят остатки римского или эллинистического сооружения – эти камни и пошли на сооружение вали.
(Стоит поспешить посмотреть на эти места, потому что власти собираются проложить шоссе через долину Дуры. Если этот план будет выполнен, погибнет долина с ее посадками и со сладким источником).
Могилы и святость связаны у всех народов. И хотя св. Августин называл поклонение святым мощам язычеством, практика решила по-иному – и евреи, и христиане, и мусульмане поклоняются у гробниц святых.
Но не от могил святость. Даже в селе Дура никто не знает, кем был шейх Абдалла. Святость высот – изначальна, повелась с седой древности, с первого расцвета Святой Земли без малого пять тысяч лет назад, хотя объяснения этой святости менялись много раз. Источник святости – рельеф, выбор места, где человеку легко ощутить близость к Господу. Говоря современным языком – там, где хороший прием у мобильных телефонов наших душ.
Как и японцы, жители Палестины поклоняются Богу у скал и деревьев, зачастую на вершинах холмов. Когда-то в этих святых местах почитали Эля и Ашеру, Ваала и Ашторет, затем ваалы и астарты стали маскироваться под библейских патриархов и пророков, мусульманских и христианских святых. Имена предположительно погребенных святых менялись время от времени, и, как правило, к ним не стоит относиться всерьез – «что в имени тебе моем», как сказал поэт. Места эти были выбраны тысячи лет назад, по наитию или откровению – потому что в них человеку легче всего искать благодати.
Издревле в Палестине сложилась, как и в Японии, двойная религия, – высшая, официальная, монотеистическая, и низшая, локальная, сельская. Высшие религии менялись: палестинцы официально исповедовали различные формы древнего иудаизма, затем – христианство, и наконец – ислам. Низшая религия, палестинское шинто (синтоизм), также несколько менялась – имена, обычаи, жертвоприношения изменились, но суть и просьбы остались теми же. Женщины просят – суженого, мужней любви, легких родов, здоровых сыновей. Мужчины просят – хороший урожай, победу в битве. Те и другие просят благодати.
Священнослужители высших религий относятся к местным святыням – «джинджам», пользуясь японской терминологией шинто – с легкой подозрительностью. Библейские цари и священники то боролись с поклонением на высотах, то сами поклонялись «под каждым тенистым деревом и на каждой высокой горе». Мусульмане – как до этого христиане – дали святым местам мусульманские имена, связали с традицией ислама – в одной погребен спутник Мухаммада, в другой – полководец Салах-ад-Дина. В наши дни даже в глухих селах, вроде Дуры, в мечетях все чаще проповедуют, что не следует ходить молиться на высоты. Восточные евреи поклоняются в некоторых местных святынях, христиане – во многих, мусульмане Палестины – почти во всех.
Каприз истории превратил некоторые местные святыни в величайшие святыни человечества. Вали Иевуса стал иерусалимским храмом, а потом – мечетью эль-Акса. Пещера, где жители Вифлеема поклонялись Дионису, стала гротом Рождества. Так одни молодые солдаты становятся старыми солдатами, а другие – генералами. Но все святые места Святой Земли одинаково святы, и приобщиться благодати можно в любом месте. Могилы и святость основана на неповторимом рельефе гор. Предпочтение же одного места другому – дело случая. Вали Дуры – а не Иевуса – мог бы стать одной из главных святынь Нагорья, но не стал. Здесь мог бы отдать своего сына на заклание Авраам, здесь мог бы взывать к Господу Иисус, отсюда мог бы совершить путешествие в небеса на эль-Бураке Мухаммад. Основатель новой религии может выбрать для себя любое из тысячи святых мест, куда приходят крестьяне из ближнего села с приношениями, обетами и просьбами.
Почему Палестина называется Святой Землей? На первый взгляд – потому что это земля Христа, земля Библии. Но есть и более глубокое объяснение – ведь не случайно здесь воплотился Иисус и была написана Библия. Вера для Палестины, как «Калашников» для Тулы и уголь для Донбасса. Ее рельеф располагает к мыслям о Боге. Ведь человек, бесконечно гибкое и податливое существо – ведет себя по-разному в разных рельефах. Если идешь по густым зарослям тростника в русле Иордана, ощущаешь себя тигром, опасным хищником. Выходишь на простор долины, и превращаешься в кроткого теленка. Сядешь под дерево на одном из холмов Нагорья – и придут мысли о вечном, захочется слиться с деревом, с почвой, с ее грунтовыми водами, и вечно смотреть вдаль, туда, где плавные склоны соскальзывают в синеву небес. Нагорье – бедная страна, ее обитатели – пастухи и феллахи, разводят овец и окапывают оливы, к деньгам и власти не стремятся. В свободное время думают о Боге и об Его сложных отношениях с человеком. А это хорошо делать на вершине холма.
Например, на холме возле села Луббан-эль-Шаркие, в долине Левоны. Дорога Рамалла – Наблус круто спускается в эту долину, известную своей красотой. На спуске находится несколько кафе, где можно остановиться и полюбоваться ее видом. Внизу руины постоялого двора и среди них – маленький источник, напротив – кафе с приветливым хозяином. Луббан – небольшое и небогатое, тесно застроенное село на склоне холма, на краю долины. По нему к западу идет узкая, но проезжая дорога на село Амурие. Дорога огибает холм, на котором стоит местный вали, не то Шейх-Зейд (по картам), не то Шейх-Мухмад (по словам жителей). Человек поленивее может подняться не прямо из села, но от дороги, там, где она забирается на максимальную высоту, на плоскую срезанную вершину холма. И этот вали похож на вали Иевуса по своему расположению – плоский холм, проплешины гумна, сверкающие, как обнаженная эс-Сахра, священная роща, домик с куполом и рядом с ним – надгробье; руины старой крепости, вокруг – горы со всех сторон, вид потрясающий.
Вали не всегда находится на вершине холма – особенно если речь идет о большом дереве, пещере, скале или источнике, дух которого почитается в вали:
Не знаю, чей дух тут почитают, но у меня
текут слезы осенившей благодати, —
как сказал поэт. Один такой вали стоит за селом Эн-Кинья, к западу от Рамаллы. Туда можно прийти по узкому вади Дильб, довольно типичному для этой части Нагорья. Осенью в нем полно смокв и винограда, весной много воды. Начинается вади Дильб около радиостанции Рамаллы, там, где бьет маленький источник Эн-Саман. На самом дне вади – источник Эн-Луза, то есть Миндальный ключ, затем маленький источник Эн-Дильб, развалины дома, а вокруг крошечный оазис, счастливая пастораль со смоковницами и пастухами. Источник бьет под арочным сводом. И далее по пути можно найти несколько мелких источников – в ямах, в пещерах, в подвалах развалившихся домов.
Тропинка становится дорогой и ведет к большому источнику и водосборнику. Раньше здесь стояли мельницы, потом была свиноферма христиан Рамаллы – подальше от мусульманских глаз, а теперь здесь фабрика апельсинового сока. Водой источника вади Дильб разбавляют, надо думать, слишком густой апельсиновый сок. От фабрики асфальтированная дорога идет наверх, в село Эн-Кинья (куда, впрочем, можно приехать прямиком из Рамаллы). Эн-Кинья – дикое пыльное место, жители его не привыкли к чужакам, деревенский источник залит бетоном, но за ним, в получасе ходьбы, находится святыня Абу-эль-Уюн, которая высоко котируется в моем списке недостопримечательностей.
После пыли и нищеты села тропа к святыне потрясает. Вдоль нее растут лимоны, баклажаны, гранаты, стоят несколько домов. Сама святыня – огромный розовый кталаб, странное дерево с гладкой корой, похожее на голого спрута. Рядом с ним— гробница шейха, где дают обеты, но источником святости, конечно, является сам кталаб.
Еще одно священное дерево находится в центре Самарии, в селе Кифл Харис, неподалеку от еврейского поселения Ариэль, куда ведет новая «еврейская» дорога «поперек Самарии». Кифл-Харис построен на крутой горе, дома его бедны, улочки узки и грязны, население волнуется при появлении странника, и сбегается толпами. Они боятся поселенцев с ермолкой на голове и автоматом за плечами, израильских солдат, землемеров и сборщиков налогов. В самом центре села – три гробницы: Неби Иоша, Неби Нун и Неби Тул Кифл. Их идентифицируют с легендарными библейскими персонажами Иисусом Навином, Нуном и Калебом бен-Иефуне. Огромное, древнее, узловатое фисташковое дерево растет в ограде гробницы Неби Иоша, а неподалеку – слива не меньших размеров. Эта святыня стоит на вершине холма, а вокруг – дома феллахов, то есть современное село сформировалось уже вокруг святыни.
Я предпочитаю другую «гробницу Иисуса Навина» у Хирбет Тибне, на развилке Абуд-Зарка-УмСафа, где руины древнего поселения стоят к северу от дороги, а в глубоком вади за ними тропинка ведет к красивому источнику, осененному смоковницей. Неподалеку – древний некрополь, где указывали на «шейх Теим» (его идентифицировали с Иисусом Навином), и на самый большой в стране дуб. У источника Тибне я как-то повстречал крестьянина, поившего своего коня. Я обратился к своему сыну по-русски, и крестьянин заговорил со мной по-русски. Оказалось, что он в юности служил у русского врача в Яффе, а в 1948 году вместе с ним бежал в Рамаллу, с годами похоронил его, как лев – преподобного Герасима, и вернулся в деревню Тибне.
Замечательное священное дерево стоит у источника Тиры на Кармиле. Оно растет прямо в русле вади, и толщина его – пять обхватов. Это шикма, по-русски – сикомора, палестинский фикус. Сикомора – бедная сестра смоковницы, ее плоды съедобны, но не так замечательны, и бедняки укалывали их, чтобы налились сладостью. Сикомора Тиры упомянута еще в Талмуде, как одна из трех священных древних ашер. Местные жители почитали ее и приносили у нее жертвы вплоть до 1948 года. Рядом с ней – черная керамика эллинистического водовода, несшего воду источника в Тиру. Во времена британского мандата рядом был построен бетонный водосборник, и пещера источника, вырубленная тысячи лет назад, запечатана бетонной стенкой. В пещеру нетрудно влезть через одно из отверстий в стенке. Она похожа на изображение зуба на красочном плакате в кабинете дантиста – сначала широкие пещеры превращаются в каналы и уходят далеко в глубь горы-десны. По ним можно бродить в полный рост и плескаться в чистой воде. Один из каналов уходит довольно далеко, и завершается маленьким бассейном.
Три огромные сикоморы растут у дороги из Яффы в Газу, и у них – Сабил Абу Набута. Эти дерева почитаются местными жителями и путниками. Много сикомор растет и в Тель Авиве, развесистые красавицы, но там им не поклоняются.
Еще одно замечательное священное дерево – Дуб Авраама в русском Троицком монастыре возле Хеврона, к западу от дороги на Беер-Шеву, около поворота на село Тапух. У этого дуба Аврааму явилась Святая Троица (или ангелы, возвестившие о рождении Исаака). У этого дуба остановилось Святое семейство по пути в Египет, убегая из Вифлеема. Иногда говорят, что этот дуб посадил Авраам после того, как заключил договор с Авимелехом (Быт. 21:33).
Троицкий монастырь на протяжении многих лет практически пустовал – он был в ведении «белой» Зарубежной русской церкви, у которой не было сил поддерживать святое место, но сейчас он передан Русской православной церкви. Его стоит посетить – огромная территория сохранила всю прелесть патриархальной Палестины, местные пастушки гоняют овец, дома построены из белого хевронского камня. Бородатый смуглый чуваш о. Гурий занимается восстановлением монастыря. Два святых дерева, «Авраам» и «Сарра», окружены забором, чтобы паломники не разобрали на сувениры. «Авраам», которому примерно 850 лет, засох, несмотря на железные опоры и бетонированные дупла, но «Сарра» зеленеет, хотя и она не намного моложе. На Троицу возле дуба служат большой молебен, и сюда съезжаются многие русские и местные православные люди.
Раньше считалось, что дуб Авраама растет в эр-Рамат эль-Халил, к востоку от дороги, на повороте на еврейское поселение Кирьят-Арба. Там сохранились огромные камни иродовой кладки, следы церквей, в том числе одной из древнейших в стране. Там также рос дуб, но он зачах еще до Крестовых походов, и тогда прекратилось паломничество к этому месту.
Засохшая древняя сикомора стоит в православном монастыре Иерихона. По традиции, на нее залез малорослый Закхей, чтобы увидеть Иисуса. А на распутье дорог, в трехстах метрах от монастыря, растет и зеленеет красавица-сикомора, другая претендентка на звание «дерева Закхея». Она относится к типу придорожных святынь, из которых самое известное – гробница Рахили в Вифлееме. Эта гробница выглядела, как и прочие «гробницы шейхов» – дом с куполом, внутри огромный сенотаф, покрытый шитой тканью; мощи покоятся, по традиции, в крипте внизу. Гробница Рахили окружена могилами мусульман, которые чтят ее, как и прочие святые места страны, что вызывает недоумение, смешанное с ужасом, у евреев попроще. Любимый вопрос русского еврея: почему это Рахиль погребена на мусульманском кладбище? – и так чувствуется за этим вопросом мысль: почему бы нам это кладбище не… того? Сталин чеченцев мог, а мы уж и мертвых мусульман не можем… пошевелить? Ответим мифологемой: погребенные рядом – ее дети.
Гробница Рахили – одна из самых древних и известных в Святой Земле, хотя нынешнее здание построено не раньше XVIII века. Утверждают, что это могила тетрарха Архелая, сына Ирода Великого и старшего современника Иисуса. Народ, мол, спутал – по звуковому сходству – Рахиль и Архелая. (В это трудно поверить, потому что Архелай, пытавшийся быть круче своего крутого отца, умер в изгнании в Виенне). В таком случае подлинная гробница Рахили – то есть место, считавшееся гробницей Рахили в эллинистический период – находится к северу от Иерусалима, где-то в окрестностях Рамы, нынешнего городка ар-Рам по пути в Рамаллу, ибо сказано: «Голос слышится в Раме». Рахиль оплакивает уходящих в вавилонский плен после падения Иерусалима, а значит, следовало б ее могиле быть при дороге из Иерусалима в Вавилон, на север.
Некоторые считают, что древняя гробница Рахили – это Кубур Бану Исраиль, великолепная недостопримечательность на северо-востоке от Иерусалима. Туда можно спуститься от Неве-Яакова, русско-грузинского пригорода Иерусалима по вади эль-Хафи почти до дороги Хизма – Джаба, и там вы увидите три огромных мегалитических сооружения, пятьдесят метров в длину и пять метров в ширину, воздвигнутые предположительно в пятом тысячелетии до н. э. Это – тоже святое место, потому что люди мегалитической культуры строили такие структуры для богослужения. Сторонники этой версии говорят, что близлежащий Эн-Фара, а не Вифлеем, и есть Евфрат, по пути к которому была погребена Рахиль[5 - Быт. 35.].
Гробница Рахили в Вифлееме была очаровательной. Ее, к сожалению, практически ликвидировала израильская армия: окружили огромной стеной, напрочь скрывшей трогательный белый купол, приставили вооруженный караул, который превратил эту, почитаемую местными крестьянами гробницу, в одно из учреждений оккупационного режима – видимо, у армейского начальства ума не больше, чем у спрашивающего про мусульманское кладбище. Сейчас ни одной женщине Вифлеема и в голову не придет придти и попросить помощи при родах, а если придет, то солдаты живо ее разубедят.
Большинство библейских идентификаций – позднего происхождения, зачастую недавнего. Они основаны на законе спроса и предложения – паломники хотят увидеть места, связанные со знакомыми именами, проводники и торговцы хотят на этом заработать. Поэтому в Иерусалиме есть «башня Давида», построенная Сулейманом Великолепным в XVI веке, поэтому гробницы шейхов стали памятниками легендарных героев. Когда выяснилось, что израильтяне шуток не понимают, и вполне способны конфисковать гробницу вашего дедушки и пять гектаров вокруг, если вы назовете ее «гробницей Моисея», палестинцы прекратили играть в эту игру. Прибыль легко оборачивается большими убытками, пусть уж лучше гробница останется дедушкиной, зато и земля останется твоей.
Мой любимый придорожный вали – Неби-Даньяль. Это такая недостопримечательность, что там и гробницы не построено, только небольшая площадка, выложенная древними камнями, в тени дерева, а на краю ее стоит сложенный из грубых камней михраб – молитвенная ниша – с метр в высоту. Когда я впервые увидел ее, то сразу подумал, что более подходящее место для молитвы при дороге трудно найти. Здесь, в Неби-Даньяль, можно понять, что такое святое место без украшений, позолоты и пилигримов.