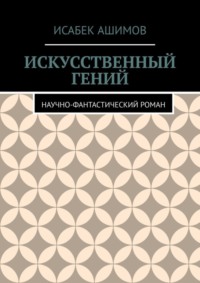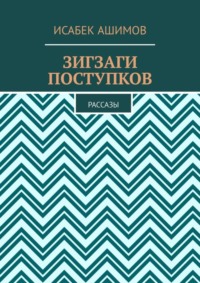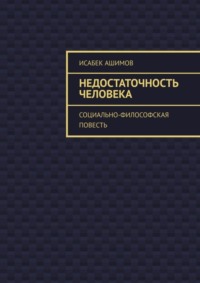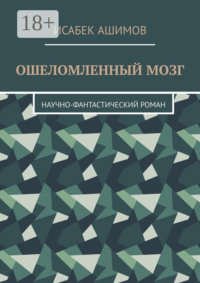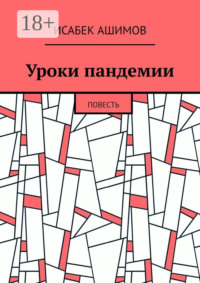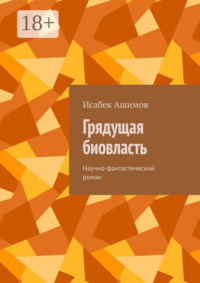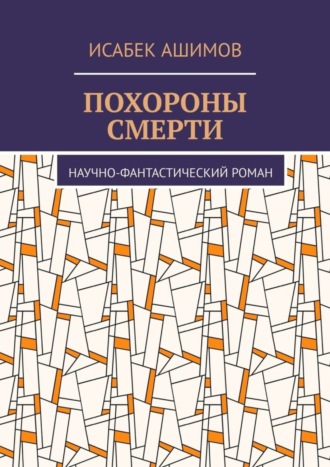
Похороны смерти. Научно-фантастический роман
– Мозг – это последняя надежда тех, кто хочет локализовать сознание на каком-то очень и очень надежном материальном носителе, – отвечал Джозеф. – Это ныне главная метафора для человеческого эго. В этих условиях мозг оказывается, как бы внешним, мы проводим некоторую границу между нами и нашим мозгом.
– Мы говорим: наш мозг влияет на нас. Но если мозг влияет на нас, значит, мы – это что-то другое? – с иронией спросил Билл.
– Мой мозг – это «Я». Мозг служит идентификационным признаком «Я». Об этом вы все знаете, – сказал Джозеф и сделав небольшую паузу продолжил: – Вот мы мечтаем о создании интерфейса «мозг плюс суперкомпьютер». Однако, к сожалению, пока еще с трудом понимаем не только, где будет «мозг в контейнере», то есть «я» «аватара» и где будет искусственный интеллект, но и какими будут результаты такого интерфейса – «мозг плюс искусственный интеллект»?
– Ну, в этом случае, однозначно, при «мозге в контейнере» физическое тело отсутствует, а это полная свобода для мыслительной деятельности мозга, – сказал Хасан. – Но здесь есть над чем задуматься: мозг человека, интегрированный в общемировую компьютерную сеть искусственного интеллекта, станет уязвим для потенциальных вирусов, которые смогут превратить «мозг в компьютере» в психопата. Если искусственный интеллект будет у него обучаться, то прогнозы будут плачевными.
Заключая прозвучавшие мысли Джозеф высказался о том, что интеллектуальное развитие человечества достигло своего апогея, что стать умнее у человека уже не получится, что носителем мыслительной деятельности могут быть оцифрованные устройства:
– Так вот, по мнению профессора Александра Фролова, процесс развития человечества идет не в сторону изменения и улучшений качеств каждого отдельного человека, а в сторону увеличения объема памяти и новых способов изучения информации из памяти. В этом аспекте, мы все же на правильном пути, – сказал он. – Наша цель – создать надежный интерфейс искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере». Речь идет не о рядовом нейропротезировании, не о поиске надежных носителей оцифрованных мыслей, а о создании или иначе генерации «нового сознания».
Джозеф уже хотел встать, дав понять всем, что пора приступать к работе, но Билл вновь задал ему несколько вопросов скептического характера:
– А что лучше? Развитие человека по пути генетических изменений или же по пути соединения человека с техникой? Что, если на самом деле вы сейчас находитесь совсем не там, где нам кажется?
– Да, кто знает. Первый путь опасен и непредсказуем. Что касается второго пути, может быть мы с вами также являемся ничем иным, как подопытными в эксперименте злого гения, и мозги наши сейчас плавают в питательной жидкости. Никто не может сказать, что нервные окончания нашего мозга связаны с суперкомпьютером, который и симулирует все ощущения повседневной нашей жизни, – задумчиво произнес Джозеф, так же как и Билл, заразившись декартовским скептицизмом.
– Существуем ли мы в таком случае? Являемся ли мы все еще собой? Что если мир, каким мы его знаем – плод наших фантазий или иллюзия, созданная злым ученым? Это все, конечно, похоже на сценарий какого-то психологического триллера, но можем ли мы с абсолютной уверенностью сказать, что это не так? – сомневался Тархан, показывая всем, что продолжает стоять на том самом декартовском и ницщеанском скептицизме.
Естественно никто из членов научной группы не решился ответить на такие скептические вопросы. Между тем, было видно, что многие уходили из кабинета в раздумьях об эволюции природы человека в лучших традициях скептицизма Платона, Р. Декарта, Д. Юма, Ф. Ницще.
Наверняка, каждый из членов научной компании, утром любуясь зарождением нового дня, днем, любуясь из окна лаборатории океаническими волнами или же вечером, любуясь красивым закатом солнца, наверняка думал о том, что человеческий мир уникален, уникален сам человек, каждый из них снова и снова переживает яркие чувства сопричастности к миру, к людям. – Не дай Бог оказаться в плену иллюзии, о котором говорил Джозеф! – так, наверняка, повторяли они в себя.
К обсуждению проблемы нового человека – человека будущего, научная группа вернулась уже на следующий день, когда собрались на виртуальный семинар «Векторы эволюции природы человека». Вчерашнее обсуждение обусловило необходимость такого семинара, нужен был своеобразный «ликбез». Главный тезис семинара озвучила модератор собрания Ирен Уорнок – директор техасского «Brain Institute», что в переводе «Институт мозга»:
– Идея заключается в том, что с изменением мира изменяется и природа человека. Один вектор развития природы человека, его сознания может привести человечество к новым «темным» векам, тогда как другой вектор – к многообещающему и цивилизованному будущему. При этом цивилизованное будущее – это, конечно, будущее не под гуманистическими, а трансгуманистическими знаменами.
Такая мысль, конечно же, вмиг заинтересовало участников семинара, так как посыпались комментарии и вопросы. Однако, как и в прошлый раз обсуждение пошло совсем в другом направлении. Если в предыдущей дискуссии больше обсуждали технократические последствия интерфейса искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере», то на этот раз обсуждение пошло на поводу Хасана, который высказался на счет некоторых эскизов научно-образовательной стратегии будущего, в частности, по поводу нашумевшего «эскиза Юнга – Тоффлера – Урсула»:
– Так-вот, Р. Юнг призывал к созданию образовательных прогностических ячеек, Э. Тоффлер выступал за организацию в учебных заведениях «советов будущего», А. Урсул ввел понятие «футуризация» – внедрение в образовательную систему дисциплин и тем, связанных с будущим. В совокупности авторские предложения в какой-то степени характеризуют вектор научно-образовательной стратегии, – подчеркнул он. – Между тем, известно, что такая стратегия лежит в основе формирования и развития адекватной научно-мировоззренческой культуры.
Хасан вскользь упомянул о научном открытии одного ученого из далекой Средней Азии – профессора Каракулова, сделавшего научное открытие в области философии и научного мировоззрения. Так-вот, одним из положений открытия является акцентуация не только на методологии и формы футуризации образования, но и вскрытие фазной закономерности формирования и развития научно-мировоззренческой культуры: «популяризация» – «концептуализация» – «философизация» знаний.
Однако, когда Хасан упомянул о векторах эволюции человека, в частности, о появлении сверхчеловека, как венца развития человечества, репрезентирующая идею освобождения жизни в самом человеке – существом, преодолевшим черты человеческой природы, из зала посыпались вопросы: сверхчеловек? Что это означает? Что еще за существо? Как? Каким образом? Зачем?
Интерес членов научной дискуссии качнулся совсем в другую сторону. Хасан, сделав небольшую паузу продолжил:
– Как мне кажется, смутный образ сверхчеловека как-то и в чем-то контрастирует с уродливым образом человека, попирающим «слишком человеческих» ценностей. В частности, нужно рвать наиболее «прочный мост» – связь мозга и тела, как предлагал Ф. Ницще. Это он считал, что человеку нужна высота, ступени и противоречия ступеней и поднимающихся по ним, – сказал он. – Об этих феноменах и тематиках в своих исследованиях и трудах касается тот самый профессор из Средней Азии.
Это была попытка вновь обратить внимание участников дискуссии на личности азиатского ученого. Лишь теперь члены научной группы за интересовались: кто он? Откуда он?
– Профессор Каракулов является специалистом в области биомедицины, социобиологии, биофилософии. Он в свое время учредил и является руководителем «Virtual Institute of Man». Речь идет о создании интернет-площадки для солидаризации ученых, целенаправленно исследующих проблему человеческой природы. Кстати, как я заметил, он сейчас и здесь принимает участие в работе Всемирного Конгресса, – сказал Хасан. – Вы можете посетить сайт упомянутого мною Института. Кстати, там же можно ознакомится не только с его капитальными трудами в области биомедицины, социобиологии, биофилософии, но и с его серией научной фантастики, включающая десяток переведенных книг. К примеру, «Recreat human», «Biohack», «Fiasco», «Tegerek», «Biocomputer», «Curse of the circle of evil», «The Edge of Despair», «Patient Zero», «Clone dervish», «Search for truth», «Х-parasite».
В дискуссию включился Алихан, который известил о том, что по совету Хасана он ознакомился с указанным сайтом. – Действительно, в каждой книге автора фигурирует тот самый постчеловек или трансчеловек. Естественно, рассуждения героев этих произведений завязываются вокруг проблемы трансгуманизма, карианства, неочеловека, – сказал он.
– Действительно, в этих книгах красной лентой проходит идея о том, что человек не является концом нашей эволюции. Если даже биологическая эволюция человека остановилась, однако, заметно активизировалась проблема эволюции его сознания. В частности, автор дискутирует необходимость преодоления фундаментальных пределов возможностей человека за счет протезирования, включая даже его мозга, – рассказывал Хасан. – Все эти попытки, есть, не что иное, как продвижение идей трансгуманизма, подчеркивая не только возможность, но и желательность фундаментальных изменений человеческой природы.
Члены научной группы, включая Джозефа, вначале неоднозначно отнеслись к восторженным отзывам Хасана и Алихана об этом азиатском ученом. Наверняка, у него и у членов научной группы мелькали в головах мысли о том, что Хасан и Алихан все же выдают субъективные свои суждения о значимости работ этого неизвестного им азиатского ученого. Тем временем Хасан продолжал говорить о нем, как об уникуме.
– Этот ученый, как сторонник постнеклассической науки в какой-то мере способствует появлению на горизонте нашего человеческого сословия, так называемого «постчеловека», – подчеркивал он. – Имплантат «сцепляется» с телом, а точнее, входит в границы тела и воплощает все обозначенные функции тела, причем, в более совершенствованном виде. В своем романе «Biocomputer» автор предлагает протезирование человеческого мозга за счет использования компьютерного интерфейса.
– Отсюда по подробнее, – попросила Ирен.
– Хорошо! Человечество волнует то, что же останется от человека? Каким будет потомок человека? Размышления Каракулова идет куда дальше идеи о человеко-машинном интерфейсе. Он предполагает, что такая эволюция сознания человека может увести природу человека в неясные дали. Сохранится ли материнство? Каковы последствия клонирования человека? – вот какие вопросы затрагивает философ Каракулов, – отмечает Хасан. – Сейчас правовая культура пока запрещает клонирование человека, полагая, что человечество еще не готова принять ответственности за тех, кого мы хотим создать. А если найдутся смельчаки и решатся клонировать человека? Рассуждения профессора над этими вопросами отражены в его романе «Clone dervish».
В разговор вновь включился Алихан, который сказал: – Есть данные о том, что существо будущего, как элемент Сети будет размножаться в цифрах, а также предполагается, что загруженное сознание будет существовать автономно в Сети. Но каковы последствия? Что ожидает человека в сетевом мире? Каракулов в своей книге «Biohack» размышляет над проблемой сетевого человека, делая вывод о том, что возможно тотальный сетевой контроль, означающий появление в мире тотальной биовласти.
Хасан заострил внимание коллег на проблему трансфера сознания.
– Кстати, профессор Каракулов в своем романе «Recreat human» делается парадоксальное резюме по поводу того, что на каком-то промежутке времени наиболее результативном способе эволюции сознания человека является не пересадка головного мозга, а пересадка тела к головному мозгу. Автор обращает наше внимание на то, что уже сегодня среди нас живут транслюди.
Посыпались вопросы: прямо сейчас? Среди нас? И как они выглядят?
– Да-да! Вот их критерии: во-первых, тело включает имплантаты, трансплантаты, умные конечности, электронные мониторы; во-вторых, тело содержит кардиостимулятор, электроды и прочие периферийные элементы; в-третьих, тело подвергалось реконструкции в виде омоложения лица, биопротезирования; в-четвертых, физиологические параметры тела – настроение, циклы, температура – постоянно отображаются и регулируются; в-пятых, имеются нательные устройства для электронного взаимодействия с людьми; в-шестых, практика бесполового размножения в виде донорства половых клеток, «суррогатного материнства», экстракорпорального оплодотворения, телегенезиса, иновуляции, имплантации эмбриона; в-седьмых, участие в миссиях за пределами планеты; в-восьмых, клиническая смерть.
– Ну, действительно, такие люди есть среди нас. Но, что-то должно отражать принадлежность людей с такими признаками к транслюдям. Как их распознавать? Можно ли их узнать в толпе?
– При пяти из восьми положительных ответа, на наличие вышеприведенных признаков, человека можно признать трансчеловеком. То есть считать их уже продвинутым, чем обычные люди, предком постчеловека. Об этом профессор Каракулов пишет в своей книге «Search for truth». Кстати, там же он пишет о появлении такого феномена, как «E-существо».
– Это еще, что за существо? Значит он уже и не человек, а нечто существо? Чем они отличаются от транслюдей? – спросил Билл.
– Принципиально важными чертами «Е-существ» являются: во-первых, независимость от среды, а, во-вторых, межсредовой номадизм, – сказал Хасан. – Существуют следующие тезисы бытия «Е-существ»: во-первых, человек не должен быть узником Земли, а, во вторых, человек не должен быть узником окружающей среды.
– Извините, что прерываю. А знаете Билл, в работе Каракулова говорится о таком побеге человека из плена нашей планеты и среды осуществляется, как о сидерическом. В своем романе «Biohack» он говорит о Сетмене, который уже появляется среди нас и которым можно свободно управлять извне, – сказал Алихан.
Джозеф лучше других понимал, что Сетмены – это не столько всемогущие существа за спиной которых стоит Его Величество Интернет – Глобальная информационная паутина, но он сам является винтиком этой глобальной системы, представляя собой не что иное, как айтматовский манкурт. Тем не менее, он, как модератор семинара был в каком-то замешательстве от того, что ему предстоит еще подытожит прозвучавшие мнения. По сути. Он боялся посеять панику и сомнения в душах своих коллег.
– Создается впечатление, что в своих романах Каракулов в той или иной мере вполне определенно способствует внедрению в наше сознание трансгуманистические концепции, – сказала Ирен. – Я поняла и то, что он также часто касается «мозговых проблем» человека, то есть вопросов эволюции сознания и самого мозга.
– Ирен. Извините, что прерываю вас, но в этот ученый в своем романе «Х-parasite» приводит провокационную версию эволюции человека, резко отличающейся от всех других версий, включая дарвинскую, – сказал Хасан и продолжил: – Но самое интересное то, что автор считает, что следующим типом человека будущего, несомненно, будет «неочеловек».
– Это, что еще за существо? И кто такой неочеловек? – спросил Билл.
– Согласно определения философа Д. Ицкова, неочеловек – это «бескорыстный служитель будущего», который возьмет на себя ответственность за то, что станет защитником и наставником человечества, – ответил Хасан. Однако, этот пафосное определение похоже никого не удовлетворило.
При таких словах в голову членов научной группы, наверняка, пришла аналогия неочеловека и Пророка – наставника человека в нашем мире, ниспосланного Богом с определенной миссией – ориентировать человека на достижение богочеловеческого состояния. В таком случае, не идет ли речь о появлении богочеловека? В чем заключается миссия этого богочеловека? Вероятно, в головах ученых возникали во многом расплывчатые образы неочеловека. Наверняка, каждый из них думал о том, что, таким образом, в душах человека закладываются отголоски культуры прошлого, что, таким образом, вездесущая религия «искусно» вплетется в судьбу человека будущего. Неужели технологии не объявляются самодостаточными? Обязательно ли они должны быть фундированы духом? Неужели религии должны быть «прочтены» заново, «под новым углом зрения»? Вот такие вопросы обуревали членов научной группы. Тем временем Хасан информировал научную группу о триаде ценностей неочеловека.
– Речь идет уже о бессмертии, о господстве над космосом, о сингулярность, – сказал он.
Члены научной группы, наверняка, представили себе фантастические кинофильмы о межзвездных перелетах, войнах, о межгалактических цивилизациях, о порабощении планет и галактик. Но почему неочеловек должен обожествлять древние цивилизации? Может быть, потому, что они шли «истинным путем»? Как истинные приверженцы искусственного интеллекта члены научной группы еще долго обсуждали проблему глобальной цифровизации, «аватаризации» человека, о «преодолении» генетики, означающую замещение генетики цифровой загрузкой и созданием тела-голограмм.
– В будущем у человечества будет лишь одна болезнь – это кремниевая зависимость, – думалось Джозефу. Изредка проскакивала у его, а возможно и у других членов научной групп, острожная мысль о том, что нечто подобное они могут сами создать – «аватара» – бессмертного, вездесущего, универсального. Подобные мысли членов научной группы вновь вспыхнули, когда Тархан Вазир упомянул о феномене «преодоления психологии». Что будет в будущем, если у человека отнимут и эмоции? А как это будет обстоять у «аватара»? Что тогда получится? Землю населять бездушные, безжалостные гуманоиды? – читалось в глазах членов научной группы.
– Безусловно, Каракулов – это неутомимый и разносторонний исследователь, но вместе с тем и с немалою степенью ученого тщеславия и нетерпимости в вопросах эволюции сознания человека, – продолжал рассказывать Хасан. – При этом, безусловно, у него разносторонний интерес, широкий кругозор, нестандартность мышления. Действительно, его научные и литературные труды весьма разнообразны – начиная с познания микромира насекомых, завершая глобальной философией. Практически все проблемные вопросы в этой сфере познания освещены ими в его многочисленных монографиях.
После семинара Джозеф, уже зная, что Каракулов в сию минуту принимает участие в работе Всемирного Конгресса, непременно захотел его навестить, чтобы поговорить с ним, поделится мнениями, идеями. Возможно, именно в тот день у него появилось намерение обязательно попытаться сделать сводный анализ и прогноз, объединяющие многие научные частные в вопросе апробации «F-Ash-53» – интерфейса искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере».
Вот так, вероятно, постепенно зарождалась новая идея, гипотеза. Оставшись наедине с сами собой он глубоко задумался и выглядел исключительно потерянным. Кто знает? Возможно, у него, как страстного исследователя, возникла жажда познания мыслимого предмета, которая держала в напряжении все его мысли и суждения многие года. В какой-то момент Джозефа осенила мысль:
– Завтра же найду и приглашу профессора Каракулова в свой Центр. Он, как никто другой понимал, что обычному человеку или ученому, воспринять такой парадокс, как совмещение деятельности искусственного интеллекта и «мозга в контейнере», трудно и даже почти невозможно. То есть так или иначе психический аппарат человека, далекого от этой проблемы, не был адаптирован к тому, чтобы заглядывать в такие скрытые от него аспекты науки, сознания, мышления, то незачем и выстраивать контакты. Но, если психический аппарат какой-либо личности, в частности профессора Каракулова, настроенный на то, чтобы осмыслить, понять самые, что ни есть парадоксальные научные идеи, гипотезы и теории, то будет толк пообщаться, поделится мнениями, – мыслилось в голове у Джозефа.
«CR». Фешенебельное здание из стекла и бетона калифорнийской кардиологической клиники «Rhythm of life», что в переводе «Ритм жизни», располагалось почти рядом с «Белым аистом» также на первой прибрежной линии. Накануне служба 911 доставила сюда старого пациента с коронарным кризисом. Доставившая бригада предупредила врачей приемного блока о том, что этот пациент входит в состав научной делегации из Центральной Азии.
Почти сутки врачи боролись за его жизнь. Однако, несмотря на интенсивное лечение только, что у него наступила клиническая смерть в результате обширного инфаркта миокарда. К сожалению, запустить сердце не удалось и врачи констатировали у больного наступление биологической смерти.
– Неужели это конец и ничего нельзя сделать? – огорчались реаниматологи. Было видно, что они находятся в состоянии отчаяния и нерешительности. – Неужели ничего нельзя предпринять? Внешне было видно, что их душит жалость к пациенту и одновременно бессилие спасти ему жизнь, предприняв нечто спасительное чудо. – Жаль! Летел сюда через океаны и континенты, принял участие в работе Конгресса. И тут такой исход. Видимо сердце не выдержало нагрузки. – Интересно о чем думал и мечтал, пока не попал к нам в реанимацию? – думалось врачам-реаниматологам, глядя на труп. Старику явно за семьдесят, седовласый, аккуратная внешность, коротко подстриженный, лицо, обрамленное ухоженной бородкой, говорили о том, что перед ним явно одухотворенная личность.
В это время в реанимационный зал почти вбежал Джозеф. Он специально пришел в кардиологическую клинику, чтобы поговорить с ученым из далекой Средней Азии, который накануне оказывается пожелал встретится с ним. Узнав, что он в реанимации заглянул в зал. И тут, узнав, что ученый скончался, конечно же сильно огорчился. Ему непременно захотелось хоть мельком взглянуть на него.
Джозефа пропустили в зал. Он молча стоял рядом с койкой, на котором лежал покойник – тот самый профессор, о котором так подробно и возвышенно рассказывали Хасан и Алихан, знавших его заочно по научным и художественным трудам. Спокойное одухотворенное лицо, глаза еще открыты и взгляд, направленный куда-то вдаль, в бесконечность. Ожидал ли он смерть, которая всегда приходит к человеку внезапно? О чем он думал в последние минуты жизни? Какие мысли его обуревали в момент наступления клинической смерти? Жаль, что невозможно прочесть его мысли. Жаль! Жаль! – сокрушался Джозеф мотая головой.
Уже уходя из зала, он внезапно обернулся и вновь бросил взгляд на труп пациента, остановился, вернулся к нему. Было видно, что Джозеф в эти минуты явно находился в смятении, на его лице отражалась не только жалость, но и какое-то необъяснимое замешательство. Врачи, зная взрывной характер Джозефа, который годами и десятилетиями околачивался здесь в реанимационном зале, проводя свои нейроисследования у тяжелых больных, застыли в ожидании, теряясь в догадках – что бы это значило, чего ждать от него в следующий миг?
Наверняка Юлий Цезарь находился в таком же состоянии и ожидании, когда он стоял у моста через Рубикон, долго не решаясь стоит ли его армии переходить реку или лучше отступить? Так и Джозеф – стоял молча и о чем-то размышлял. Кто знает эту историю, наверняка, никогда не думали, что Великий Юлий Цезарь, которого все считала образцом решительности, на грани сумасбродства и отчаяния. Оказывается, иногда он также проявлял нерешительность. Точно также, в эти секунды и минуты Джозеф, также как Юлий Цезарь, оставался в раздумье. Скрестив руки на груди, он молчал. Во всей его позе чувствовалось внутренняя напряженность и смятение. Сотрудники знали, что это у него предвестник какого-либо неординарного решения, внезапного порыва. Бригада не ошиблась. Внезапно, как будто бы он возвратился из небытия Джозеф скомандовал:
– Коллеги! Посмотрите, – сказал он, – а что если мы используем головной мозг этого ученого? Однако, вовсе не дожидаясь ответа он с лихорадочным блеском в глазах сказал: – Решено! Пришло время решающего эксперимента!
В это время в соседнем операционном зале, под яркой бестеневой лампой работала бригада нейрохирургов, которую возглавлял профессор Мишель Кэйт. В операционную практически врывается профессор Джозеф Олсон – его друг и сокурсник по Кембриджу и с ходу заявляет:
– Мишель! Дорогой!
– Что случилось? В чем дело? – забеспокоился Кэйт, остановив операцию и обернувшись к нему. – Успокойся! Говори с толком!
– Выручай! Сейчас мы положим на соседний операционный стол умершего совсем недавно старика, ты должен достать нам его головной мозг. Другого шанса у нас не будет.
– Постой, постой! Как? Зачем? Почему? – Кэйт был ошарашен. – В конце концов, как видишь, я занят.
– Вижу, понимаю, но и ты меня пойми. Другого шанса у нас не будет, – повторял Джозеф, а в следующую минуту безаппеляционно скомандовал. – Мишель! Передай операцию своему ассистенту и переходи в соседний зал!
В соседнем зале на операционный стол уже укладывали тело старика, погибшего от сердечного приступа. С момента наступления смерти прошли минут десять. Пока операционная сестра обкладывала операционное поле, готовила инструменты, Джозеф рассказал всю ситуацию Кэйту, который сразу же понял, что речь идет о решающем эксперименте, что именно сейчас Джозефу и его команде нужно разрешить две конкурирующих в их сознании научных концепций «А» и «В», окончательно сказать «да» одной из них.