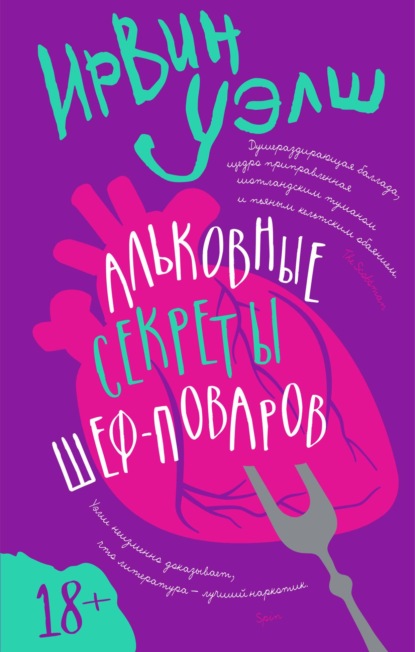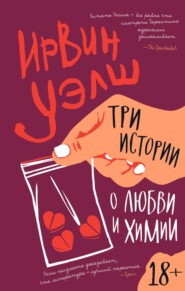По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Альковные секреты шеф-поваров
Автор
Жанр
Год написания книги
2006
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Трейнор и Скиннер переглянулись, изумившись неожиданной сентиментальности Малютки Роба. Осторожный Макгриллен, во избежание неприятностей, сохранял невозмутимость. Чтобы невзначай не засмеяться, Трейнор поспешил развить тему:
– Да ну, чушь! Пила из «Сумасшедших гонок» гораздо круче.
– Какая еще Пила? – Маккензи недоверчиво нахмурился. – Что-то я не помню никакой Пилы в «Сумасшедших гонках».
– О том и речь! Ты не помнишь, потому что она теневой персонаж. Это подружка Чурбана Руфуса. У нее деревянная машина, вместо колес циркулярные пилы. Ты прикинь: каждая собака знает Дика Дастардли, Матли, Пенелопу Питстоп, Питера Перфекта, профессора Пата Пендинга и Муравьиную Банду. Но никто не помнит Чурбана Руфуса и Пилу.
– Слушай, точно! – воскликнул Маккензи. – Чурбан Руфус – это такой здоровенный лесоруб, а Пила – это мандавошка типа белочки.
– Какая, блядь, белочка! – Трейнор покачал головой. – Пила не белочка, а бобриха. Скиннер, подтверди!
– Угу, самая лучшая из рисованных американских бобрих, – осклабился Скиннер. – На втором месте после Памелы Андерсон.
Потом они вышли из бара, и Макгриллен толкнул какого-то мужика: мгновенно вспыхнула драка, закружился вихрь ударов. Трейнор и Маккензи, конечно, бросились в гущу, но Скиннер остался в стороне и наблюдал, как трое его приятелей мочат пятерых. Помощь им не требовалась. Да он и не собирался встревать. Еще чего, за Макгриллена заступаться!
Позже пришлось лепить маловразумительные оправдания: якобы он в дверях сцепился с шестым и т. п. По осуждающему молчанию, однако, было ясно, что его малодушие не осталось незамеченным. Один такой момент может стоить репутации, думал Скиннер со стыдом. Почему же он не вмешался? Конечно, драку начал Макгриллен, которого он с детства не любил. И все же…
У меня в голове сразу завертелось: Кей, работа, мать, Рождество… Вся моя гребаная жизнь – что, если я ее потеряю? Тьфу… Ведь мы для того и деремся! Бунтуем, чтобы не потонуть в бытовом болоте, чтобы серая суета не захлестнула наши мозги. Какого же черта я стоял?!
Кей дома не оказалось. Почти всю ночь Скиннер просидел на диване, потягивая пиво; потом незаметно погрузился в тревожный сон – но скоро проснулся по нужде и перебрался на кровать. Казалось, не прошло и пятнадцати минут, но, когда он открыл глаза, было уже утро. Тело ломило и зудело: он давеча не удосужился раздеться. Телефон Кей по-прежнему не отвечал. Скиннер послал ей эсэмэску, чертыхаясь и путаясь в кнопках:
К, позвони мне. Д.
Он принял душ, оделся и вышел из дому – сначала по Дюк-стрит, потом свернул на Джанкшн.
– С Рождеством, сынок! – окликнула седая старушка, которую он обогнал.
Скиннер узнал ее: миссис Каррутерс, соседка матери. Он чувствовал себя как зомби в микроволновке и тем не менее бравурно ответил:
– И вас тоже, красавица!
Скиннер подошел к подъезду матери – и в дверях столкнулся со страховым агентом Басби, пожилым отвратительным прохвостом.
Подлейшее существо с расхлябанной походкой и тошнотворной улыбочкой. Что он делал в доме матери? В подъезде шесть квартир, но я-то знаю, из какой он вышел, старый хорек! Какого черта ему нужно?
Угнездившись на диване в маленькой уютной гостиной матери, Скиннер думал, что презирает Басби по причинам, не поддающимся четкой формулировке. Беверли внесла две тарелки, нагруженные индейкой, зеленью и разнообразными гарнирами. Столик тоже был украшен ради особого случая. Со смеху умереть.
Мать тщательно готовилась к визиту Кей и теперь, конечно, была на взводе. Она шваркнула тарелки на стол – мелькнули распухшие руки, розовые пальцы, похожие на сардельки… Беверли до сорока лет оставалась щуплой женщиной, а потом ее здорово разнесло – вследствие ранней гистерэктомии, как она утверждала. Скиннер, впрочем, был уверен, что виноваты бессчетные пиццы и жирные ужины перед телевизором: мать всегда заказывала еду, полагая, что кулинарить для себя одной бессмысленно.
Время, потраченное на уборку и на приготовление индейки; новое парадное платье, черное, как обычно, но тем не менее… все впустую: Кей не пришла. Напряжение звенело в душном воздухе. Мать прекрасно знала, кто виноват, объяснять было бесполезно.
Она вернулась на кухню, чтобы выключить духовку. По пути указала на кота:
– Не пускай Кискиса на диван. Линяет.
Как только хозяйка удалилась, голубой перс поднялся, выгнул спину и мягко прыгнул на диван. Перешагнув ноги Скиннера, он развернулся и повторил маневр. Скиннер достал из кармана зажигалку и подпалил зверю брюхо. Раздался треск, запахло жженым мехом, кот мявкнул и отлетел в угол. Привстав, Скиннер повалил свечку. По столу растеклась лужица воска.
Беверли показалась в дверях с тарелкой брюссельской капусты, ее нос подозрительно морщился.
– Что это было?
– Дурацкий кот свечку свалил. – Скиннер указал на столик.
– Ах, Кискис, негодник, как ты мог?! – воскликнула Беверли, ставя тарелку.
Мать и сын проделали дежурный ритуал: разломили по рождественскому крекеру, извлекли бумажные короны и напялили на головы. Нелепость действия и дурацкий вид головных уборов несколько разрядили обстановку, сняли копившееся с утра напряжение. Скиннер вяло ковырялся в тарелке, вполглаза следя за похождениями телевизионного Джеймса Бонда и готовясь к неизбежной трепке.
Мать начала спокойно, как обычно.
– Ишь, перегаром-то… – заметила она, выгнув бровь. – Неудивительно, что девушка сбежала.
– Ничего не сбежала, – выдал Скиннер заранее приготовленную отмазку. – Я же говорю – у нее мать заболела. Рождественский ужин приготовить некому. Она сейчас дома помогает. И вообще, ей нельзя обжираться. Даже на праздники. Диета, важные пробы… э-э… «Отверженные». А перегар – это после вчерашнего. Сегодня я только кружку пива. Праздник же, мам, Рождество! Я весь год пахал как лошадь.
Беверли гневно сверкнула глазами:
– Да тебе что праздники, что будни – один черт… Опять выходные псу под хвост!
Скиннер промолчал: если мать решила выпустить пар, то ее уже не остановишь.
– Девушку только пожалеть! – продолжала она. – Кто ж ее упрекнет, что не захотела отмечать Рождество с алкоголиком!
Скиннер ухмыльнулся, чувствуя в груди огненный мячик ярости:
– А я и не ропщу. Семейная традиция.
Мать ответила ледяным взглядом, от которого заныло в затылке. Скиннер тут же пожалел о своих словах. Это все похмелье виновато. Он терпеть не мог приходить сюда с бодуна. Когда тебя колбасит после вчерашнего, невозможно общаться с трезвыми людьми, они кажутся представителями иной, враждебной расы, инфернальными хищниками, выгрызающими тебе душу. Они чуют запах твоей слабости, твоего пота, видят в тебе чужака. А мать пуще остальных. Ее и в хорошие-то минуты лучше не цеплять…
– Это в каком же смысле – традиция? – Беверли подбоченилась, ее слова ввинчивались в череп, как стальные шурупы.
Скиннер понимал, что надо притормозить, пойти на попятную, но непослушный язык гнул свое:
– А в таком, что мой отец тоже долго не вытерпел.
Лицо Беверли побагровело, образовав контрастную цветовую пару с зеленой гофрированной короной. Казалось, ее попытки выровнять дыхание извели в комнате весь кислород.
– Я тебя сколько раз просила не упоминать при мне…
– Я имею право знать, в конце концов! – взорвался Скиннер. – Ты же знаешь, кто такая Кей? А почему я не знаю…
Беверли оборвала его взглядом, исполненным брезгливого презрения.
– Хочешь знать, кто твой отец? – прошипела она, склонив голову набок.
Скиннер смотрел на исказившиеся черты матери и думал, что за все эти годы ее жалкая, истеричная, мучительная ненависть к отцу, кем бы тот ни был, не утихла ни на йоту. Более того, он чувствовал, что и сам может сделаться объектом подобной ненависти, если не оставит попыток добиться правды. Ему захотелось сказать: ладно, забудем, извини, давай лучше ужинать, – но слова не шли с языка.
– Я! – Беверли яростно ткнула себя пальцем в грудь. – Я твой отец! Я тебя вырастила и выкормила, и на стадион с тобой ходила, и в мяч во дворе играла. И шарфик тебе вязала фанатский. И на родительских собраниях сидела краснела. И бизнес собственный подняла, перестригла весь Лит, каждой здешней старухе плешь пощупала – чтобы тебя одеть, обуть, выучить как следует, чтобы ты работу приличную нашел. И на каникулы тебя в Испанию возила каждый год. И из кутузки на Хай-стрит тебя выкупила, когда ты вляпался. Все одна, никто не помогал!
Скиннер скрипел зубами, в груди бурлили горькие слова. Но все, что говорила мать, было правдой. Он глядел на эту сильную, циничную, любящую, замечательную женщину, положившую жизнь на алтарь его благополучия, и вспоминал детство, проведенное в этом доме, и своих суррогатных панк-тетушек Трину и Вэл, которые за ним присматривали, и уважали его, и общались с ним как с равным, хотя он был всего лишь ребенком. Правда, они пытались приобщить его к своей музыке, заставляли слушать Rezillos, Skids, Bad Boys – единственное, что он мог бы поставить им в упрек. Но это мелочи, а главное в другом: Беверли сделала все возможное, чтобы у ее сына условия были не хуже, а то и лучше, чем у детей из полных семей… Скиннер посмотрел на свою тарелку, на индейку, что приготовила ему мать, – и прикусил язык. И начал есть.
– Да ну, чушь! Пила из «Сумасшедших гонок» гораздо круче.
– Какая еще Пила? – Маккензи недоверчиво нахмурился. – Что-то я не помню никакой Пилы в «Сумасшедших гонках».
– О том и речь! Ты не помнишь, потому что она теневой персонаж. Это подружка Чурбана Руфуса. У нее деревянная машина, вместо колес циркулярные пилы. Ты прикинь: каждая собака знает Дика Дастардли, Матли, Пенелопу Питстоп, Питера Перфекта, профессора Пата Пендинга и Муравьиную Банду. Но никто не помнит Чурбана Руфуса и Пилу.
– Слушай, точно! – воскликнул Маккензи. – Чурбан Руфус – это такой здоровенный лесоруб, а Пила – это мандавошка типа белочки.
– Какая, блядь, белочка! – Трейнор покачал головой. – Пила не белочка, а бобриха. Скиннер, подтверди!
– Угу, самая лучшая из рисованных американских бобрих, – осклабился Скиннер. – На втором месте после Памелы Андерсон.
Потом они вышли из бара, и Макгриллен толкнул какого-то мужика: мгновенно вспыхнула драка, закружился вихрь ударов. Трейнор и Маккензи, конечно, бросились в гущу, но Скиннер остался в стороне и наблюдал, как трое его приятелей мочат пятерых. Помощь им не требовалась. Да он и не собирался встревать. Еще чего, за Макгриллена заступаться!
Позже пришлось лепить маловразумительные оправдания: якобы он в дверях сцепился с шестым и т. п. По осуждающему молчанию, однако, было ясно, что его малодушие не осталось незамеченным. Один такой момент может стоить репутации, думал Скиннер со стыдом. Почему же он не вмешался? Конечно, драку начал Макгриллен, которого он с детства не любил. И все же…
У меня в голове сразу завертелось: Кей, работа, мать, Рождество… Вся моя гребаная жизнь – что, если я ее потеряю? Тьфу… Ведь мы для того и деремся! Бунтуем, чтобы не потонуть в бытовом болоте, чтобы серая суета не захлестнула наши мозги. Какого же черта я стоял?!
Кей дома не оказалось. Почти всю ночь Скиннер просидел на диване, потягивая пиво; потом незаметно погрузился в тревожный сон – но скоро проснулся по нужде и перебрался на кровать. Казалось, не прошло и пятнадцати минут, но, когда он открыл глаза, было уже утро. Тело ломило и зудело: он давеча не удосужился раздеться. Телефон Кей по-прежнему не отвечал. Скиннер послал ей эсэмэску, чертыхаясь и путаясь в кнопках:
К, позвони мне. Д.
Он принял душ, оделся и вышел из дому – сначала по Дюк-стрит, потом свернул на Джанкшн.
– С Рождеством, сынок! – окликнула седая старушка, которую он обогнал.
Скиннер узнал ее: миссис Каррутерс, соседка матери. Он чувствовал себя как зомби в микроволновке и тем не менее бравурно ответил:
– И вас тоже, красавица!
Скиннер подошел к подъезду матери – и в дверях столкнулся со страховым агентом Басби, пожилым отвратительным прохвостом.
Подлейшее существо с расхлябанной походкой и тошнотворной улыбочкой. Что он делал в доме матери? В подъезде шесть квартир, но я-то знаю, из какой он вышел, старый хорек! Какого черта ему нужно?
Угнездившись на диване в маленькой уютной гостиной матери, Скиннер думал, что презирает Басби по причинам, не поддающимся четкой формулировке. Беверли внесла две тарелки, нагруженные индейкой, зеленью и разнообразными гарнирами. Столик тоже был украшен ради особого случая. Со смеху умереть.
Мать тщательно готовилась к визиту Кей и теперь, конечно, была на взводе. Она шваркнула тарелки на стол – мелькнули распухшие руки, розовые пальцы, похожие на сардельки… Беверли до сорока лет оставалась щуплой женщиной, а потом ее здорово разнесло – вследствие ранней гистерэктомии, как она утверждала. Скиннер, впрочем, был уверен, что виноваты бессчетные пиццы и жирные ужины перед телевизором: мать всегда заказывала еду, полагая, что кулинарить для себя одной бессмысленно.
Время, потраченное на уборку и на приготовление индейки; новое парадное платье, черное, как обычно, но тем не менее… все впустую: Кей не пришла. Напряжение звенело в душном воздухе. Мать прекрасно знала, кто виноват, объяснять было бесполезно.
Она вернулась на кухню, чтобы выключить духовку. По пути указала на кота:
– Не пускай Кискиса на диван. Линяет.
Как только хозяйка удалилась, голубой перс поднялся, выгнул спину и мягко прыгнул на диван. Перешагнув ноги Скиннера, он развернулся и повторил маневр. Скиннер достал из кармана зажигалку и подпалил зверю брюхо. Раздался треск, запахло жженым мехом, кот мявкнул и отлетел в угол. Привстав, Скиннер повалил свечку. По столу растеклась лужица воска.
Беверли показалась в дверях с тарелкой брюссельской капусты, ее нос подозрительно морщился.
– Что это было?
– Дурацкий кот свечку свалил. – Скиннер указал на столик.
– Ах, Кискис, негодник, как ты мог?! – воскликнула Беверли, ставя тарелку.
Мать и сын проделали дежурный ритуал: разломили по рождественскому крекеру, извлекли бумажные короны и напялили на головы. Нелепость действия и дурацкий вид головных уборов несколько разрядили обстановку, сняли копившееся с утра напряжение. Скиннер вяло ковырялся в тарелке, вполглаза следя за похождениями телевизионного Джеймса Бонда и готовясь к неизбежной трепке.
Мать начала спокойно, как обычно.
– Ишь, перегаром-то… – заметила она, выгнув бровь. – Неудивительно, что девушка сбежала.
– Ничего не сбежала, – выдал Скиннер заранее приготовленную отмазку. – Я же говорю – у нее мать заболела. Рождественский ужин приготовить некому. Она сейчас дома помогает. И вообще, ей нельзя обжираться. Даже на праздники. Диета, важные пробы… э-э… «Отверженные». А перегар – это после вчерашнего. Сегодня я только кружку пива. Праздник же, мам, Рождество! Я весь год пахал как лошадь.
Беверли гневно сверкнула глазами:
– Да тебе что праздники, что будни – один черт… Опять выходные псу под хвост!
Скиннер промолчал: если мать решила выпустить пар, то ее уже не остановишь.
– Девушку только пожалеть! – продолжала она. – Кто ж ее упрекнет, что не захотела отмечать Рождество с алкоголиком!
Скиннер ухмыльнулся, чувствуя в груди огненный мячик ярости:
– А я и не ропщу. Семейная традиция.
Мать ответила ледяным взглядом, от которого заныло в затылке. Скиннер тут же пожалел о своих словах. Это все похмелье виновато. Он терпеть не мог приходить сюда с бодуна. Когда тебя колбасит после вчерашнего, невозможно общаться с трезвыми людьми, они кажутся представителями иной, враждебной расы, инфернальными хищниками, выгрызающими тебе душу. Они чуют запах твоей слабости, твоего пота, видят в тебе чужака. А мать пуще остальных. Ее и в хорошие-то минуты лучше не цеплять…
– Это в каком же смысле – традиция? – Беверли подбоченилась, ее слова ввинчивались в череп, как стальные шурупы.
Скиннер понимал, что надо притормозить, пойти на попятную, но непослушный язык гнул свое:
– А в таком, что мой отец тоже долго не вытерпел.
Лицо Беверли побагровело, образовав контрастную цветовую пару с зеленой гофрированной короной. Казалось, ее попытки выровнять дыхание извели в комнате весь кислород.
– Я тебя сколько раз просила не упоминать при мне…
– Я имею право знать, в конце концов! – взорвался Скиннер. – Ты же знаешь, кто такая Кей? А почему я не знаю…
Беверли оборвала его взглядом, исполненным брезгливого презрения.
– Хочешь знать, кто твой отец? – прошипела она, склонив голову набок.
Скиннер смотрел на исказившиеся черты матери и думал, что за все эти годы ее жалкая, истеричная, мучительная ненависть к отцу, кем бы тот ни был, не утихла ни на йоту. Более того, он чувствовал, что и сам может сделаться объектом подобной ненависти, если не оставит попыток добиться правды. Ему захотелось сказать: ладно, забудем, извини, давай лучше ужинать, – но слова не шли с языка.
– Я! – Беверли яростно ткнула себя пальцем в грудь. – Я твой отец! Я тебя вырастила и выкормила, и на стадион с тобой ходила, и в мяч во дворе играла. И шарфик тебе вязала фанатский. И на родительских собраниях сидела краснела. И бизнес собственный подняла, перестригла весь Лит, каждой здешней старухе плешь пощупала – чтобы тебя одеть, обуть, выучить как следует, чтобы ты работу приличную нашел. И на каникулы тебя в Испанию возила каждый год. И из кутузки на Хай-стрит тебя выкупила, когда ты вляпался. Все одна, никто не помогал!
Скиннер скрипел зубами, в груди бурлили горькие слова. Но все, что говорила мать, было правдой. Он глядел на эту сильную, циничную, любящую, замечательную женщину, положившую жизнь на алтарь его благополучия, и вспоминал детство, проведенное в этом доме, и своих суррогатных панк-тетушек Трину и Вэл, которые за ним присматривали, и уважали его, и общались с ним как с равным, хотя он был всего лишь ребенком. Правда, они пытались приобщить его к своей музыке, заставляли слушать Rezillos, Skids, Bad Boys – единственное, что он мог бы поставить им в упрек. Но это мелочи, а главное в другом: Беверли сделала все возможное, чтобы у ее сына условия были не хуже, а то и лучше, чем у детей из полных семей… Скиннер посмотрел на свою тарелку, на индейку, что приготовила ему мать, – и прикусил язык. И начал есть.