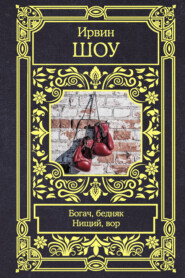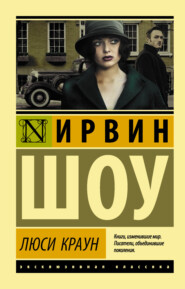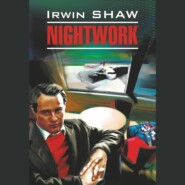По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса летнего дня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что происходит, Кон? – спросил он. – Разве губернатор не доводится тебе одним из дядюшек? – То было, пожалуй, самое язвительное из замечаний, которое он произнес за все свои тринадцать лет. И Кон удивленно поднял на него глаза. Только сейчас до него дошло – и сам этот факт потрясал до глубины души, – что есть, оказывается, на земле люди, которые могут не одобрять его действий, которых он не в силах обаять. И которым, возможно, даже доставляет удовольствие видеть, как он страдает.
Утром 23 августа сорок три мальчика и четыре воспитателя заняли свои места в грузовиках «Рео», где сиденьями служили длинные скамьи, поставленные в два ряда вдоль бортов. От дождя пассажиров защищал кусок брезента на деревянных опорах. День выдался сырой и ветреный, на всех мальчиках были свитеры. Судя по последним слухам из Бостона, губернатор еще не решил, стоит ли проявлять милосердие к двум осужденным. Брайант, назначенный ответственным за экспедицию, должен был позвонить директору лагеря ровно в час дня – для получения окончательных инструкций. Если к этому времени казнь отменят, грузовики продолжат путь в Бостон. Если же Сакко и Ванцетти окажутся на электрических стульях, им следовало изменить маршрут и ехать в лагерь Кейнога, где мальчики сыграют в бейсбол, переночуют, а наутро сыграют еще один матч, баскетбольный. После этого им предстояло отправляться в лагерь Беркли, повторить ту же программу и на следующий день вернуться в свой лагерь.
У двух-трех мальчиков постарше оказались с собой газеты; исходя из написанного там, можно было заключить, что губернатор все же должен отменить приговор. Бенджамин, жадный до любого чтива, читать газеты пока не начал, а потому не имел собственного мнения о деталях этого дела, справедливости или несправедливости приговора. И еще совершенно не понимал, почему вокруг двух людей, о которых он прежде никогда не слышал, поднято столько шума. Каждый год в Соединенных Штатах вешали или сажали на электрический стул сотни людей, это он знал. Но казни никогда не мешали чьим-либо планам, и смысл именно этой казни и особое ее значение были еще недоступны его пониманию.
Он все же пробежал глазами газетную колонку, где дело двух рабочих сравнивалось с делом Дрейфуса, но поскольку Бенджамин и о Дрейфусе никогда не слышал, это не помогло.
Он устроился поближе к заднему, открытому краю кузова, трясся на жесткой скамье, вдыхал запах пропыленного брезента и надеялся, что его не укачает. Он не смеялся шуткам мальчиков, сидел молчаливый и мрачный с закрытыми глазами, изо всех сил стараясь подавить тошноту, подкатывающую к горлу из-за вони выхлопных газов и тряской дороги. Нет, не то чтобы он желал смерти Сакко и Ванцетти, но если бы точно знал, что их не казнят, то остался бы в лагере. Его ничуть не привлекал Бостон: театрами он не интересовался, от хваленого пунша дядюшки Кона его наверняка будет тошнить, а уж насчет того, что ему удастся привлечь внимание какой-нибудь из семнадцатилетних блондинок или брюнеток из Вассара или Рэдклиффа, не было никаких иллюзий. Оставшись в лагере, он всегда мог послушать радиопередачу о матчах промежуточной лиги или взять пару книжек, забраться в каноэ и спокойненько в свое удовольствие почитать. Так что на деле его присутствие в грузовике было своего рода залогом того, что тех двоих все же казнят и что на протяжении двух ближайших дней он получит возможность отличиться в двух своих самых любимых играх.
Итак, грузовики «Рео» катили по узким ухабистым дорогам Новой Англии, вздымая тучи пыли и припудривая ею тянущиеся вдоль обочин молоденькие сосновые посадки. А мальчики в машине, где ехал Бенджамин, начали петь. Поскольку среди них оказался и Кон, то пели они, естественно, «Аллилуйю» и «Порой я весел, порой едва не плачу». Сам Бенджамин молчал, не пел. Ему были ненавистны эти мелодии (видимо, тут сказывалась неприязнь к Кону). Он чувствовал, что волосы и одежда пропитались пылью, пыль хрустела даже на зубах, желудок выворачивало наизнанку, во рту было кисло от подступающей тошноты.
Много лет спустя он, сержант-пехотинец, сидел, пристроившись у борта бронетранспортера, битком набитого людьми, который катил по равнинам Франции после высадки в Сен-Ло[5 - Департамент во Франции, неподалеку от пролива Ла-Манш, где в июле 1944 г. состоялась высадка американского корпуса на нормандское побережье.]. Часть его лица прикрывал платок цвета хаки, чтобы хоть немного защититься от пыли. И тогда вдруг у него возникло странное ощущение, что все это уже было прежде, что он чувствовал, испытывал то же самое другим давним летом. Впечатление это лишь усилилось, когда на дороге неподалеку от Авранша нестройный хор беззащитных молодых голосов вдруг грянул: «Так споем же аллилуйя, прочь печаль и прочь тоску». А потом: «Так споем же аллилуйя, так споем ее сейчас, только это, аллилуйя, нам поможет в трудный час!»
Кон стоял между двумя рядами скамей, ловко балансируя и удерживая равновесие – грузовик так и ходил ходуном из стороны в сторону – и дирижировал хором. Он размахивал руками, строил смешные и грозные гримасы, изображая, что дирижер недоволен тем, что кто-то из мальчиков фальшивит. Пение завершилось громким смехом. Кон же, продолжая кривляться, воздел обе руки, призывая свой оркестр: «Встать, джентльмены, встать!»
И все, кроме Бенджамина, встали, даже Брайант поднялся вместе с остальными, видимо, решив подыграть своему любимчику. Кон вопросительно поглядывал на Бенджамина, и тот вдруг испугался: что, если Кон собирается как-то особенно гадко над ним подшутить? Но Кон лишь улыбнулся, затем принялся импровизировать – сперва, когда мальчики уже сели, замурлыкал под нос какую-то мелодию, затем уже во весь голос запел на мотив «Порой я весел», но только с другими словами.
– Порой я весел, – пел Кон, – порой едва не плачу! А Сакко и Ванцетти постигла неудача! Добрый мистер губернатор, проявите снисхожденье! И, пожалуйста, мы просим, отмените представленье!
Хоть и не слишком складная выходила у него песенка, Кон все же умудрялся придерживаться ритма и даже зарифмовал несколько слов. И взрыв смеха приветствовал его сметливость.
– А теперь, – крикнул он, – все вместе!
– Порой я весел… – затянули юношеские голоса, перекрывая рев мотора. – А Сакко и Ванцетти постигла неудача!..
Только Бенджамин по-прежнему молчал. «Этот сукин сын умудряется все превратить в шутку», – с горечью думал он, понимая, что остальные ребята, узнав об этой его мысли, непременно прозвали бы его чокнутым.
– Добрый мистер губернатор, проявите снисхожденье! И, пожалуйста, мы просим, отмените представленье!..
Голоса звучали все громче и громче, мальчики выучили новые слова, и хор гремел, когда ровно в час дня грузовик резко притормозил и остановился у почтового отделения в маленькой деревушке. Брайант пошел звонить директору лагеря.
Деревня была хоть и маленькая, но в центре имелась зеленая лужайка с летней эстрадой для оркестра, а рядом с почтой находился универсальный магазин. Мальчики вышли и стали разминать ноги, а потом расселись – кто прямо на траве, кто на ступеньках эстрады – и принялись жевать сандвичи и апельсины, пить теплое, попахивающее металлом молоко из термосов, которыми снабдили их лагерные повара.
Брайанта не было очень долго, и Кон успел научить новой песне ребят из других грузовиков. Деревушка выглядела почти вымершей, поскольку было время ленча. И лишь какой-то фермер да двое прохожих с недоумением прислушивались к странной песенке, которую распевал хор из сорока мальчишек в лагерной униформе, причем голоса в этом хоре варьировались от совсем детского сопрано до неуверенного баска. «А Сакко и Ванцетти постигла неудача…»
Когда наконец из дверей универмага вышел Брайант, на лице у него застыло скучное и надменное выражение – именно с таким выражением направляется тренер бейсбольной команды к своим игрокам, чтобы послать их в душ. И все, прежде чем он заговорил, уже поняли: новости плохие.
– Ребята, – сказал Брайант, – боюсь, что Бостон отменяется. Ровно час назад этих двух парней казнили на электрическом стуле. Так что давайте-ка побыстрее забудем обо всем этом, поедем в лагерь Кейнога и покажем тамошним слабакам, каким должен быть настоящий бейсбольный клуб! И что этот сезон не прошел для наших игроков даром.
– Черт побери! – воскликнул Кон. – Лучше б я вообще дома остался.
Правила запрещали воспитанникам непристойно выражаться в лагере. Но Брайант утешительным жестом обнял Кона за плечи и сказал:
– Я разделяю твои чувства, Борис.
И вот все они снова полезли в грузовики и покатили в лагерь Кейнога. Бенджамин снова пристроился на самом краю, у открытого заднего борта, опасаясь, что его непременно вырвет после толстых и сытных сандвичей и целого термоса молока. Мысль о том, что примерно через час он уже будет играть в бейсбол, мысль, от которой прежде он пришел бы в радостное возбуждение, сейчас ничуть не грела. Потому что он знал: все остальные ребята будут играть с отвращением, кое-как. Ведь он был среди них единственным, кто так ждал и жаждал игры! И еще Бенджамин понимал, что, как бы себя ни вел, что бы ни делал, что бы там ни говорили о нем остальные, часть этого отвращения будет направлена на него. «Черт, – подумал он, – да у меня нет ни одного друга в этом паршивом лагере! Нет, следующим летом надо будет поехать куда-нибудь в другое место».
В тот день они проиграли. Годы спустя, когда Бенджамин уже учился в колледже, ему попался какой-то необыкновенно образованный тренер. И вот однажды этот тренер сказал ему: «Лично мне все равно, насколько ты натренирован, насколько хорош, насколько талантлив. Я хочу одного: чтобы ребята играли со страстью! Если нет в тебе этой страсти, нечего даже и на поле выходить. Лучше уж проторчать все воскресенье в библиотеке, хоть чему-то научишься. Ты ведь не для меня это делаешь и не для кого-то еще. И нечего выпендриваться. Толку от тебя сегодня все равно ноль!» Тогда Бенджамину было девятнадцать и в те времена он был куда более blase[6 - пресыщенный (фр.).], нежели теперь, под пятьдесят. И он с трудом подавил усмешку, услышав от тренера это слово, «страсть», – оно казалось таким неуместным, когда речь шла о бейсболе. Лишь гораздо позднее он понял, что имел в виду тренер.
Как бы то ни было, но никто из ребят, в том числе и сам Бенджамин, не играли в тот августовский день 1927 года со страстью. Игроки двигались по полю лениво, вяло, точно во сне. Да и он за всю игру не сделал ни одной приличной передачи. На восьмом иннинге[7 - Иннинг – один игровой период в бейсболе, каждая игра состоит из девяти иннингов.] вдруг пошел дождь, Бенджамин поскользнулся и пропустил мяч, который пролетел прямо над его головой и закатился куда-то в кусты. Короче, команда лагеря Кейнога сделала еще две перебежки и победила. Первый раз за весь сезон он так позорно играл. Правда, никто из ребят не попрекнул его и словом, когда они уходили с поля. Лишь Брайант заметил:
– Тоже мне Трис Спикер.
Он пробормотал это с горечью. Трис Спикер был гениальным центровым филдером того времени, и ирония была вполне уместна.
– Мне стыдно за тебя. Придется найти тебе замену, толку от тебя все равно никакого. Да, и завтра с «Беркли» ты не играешь. Ты просто человек, приносящий неудачу, Федров.
«Ну и дурак же, – подумал Бенджамин. – Я и не знал, что ему так хочется в Бостон. Неудивительно, что он в «Сиракузах» лишь на вторых ролях. Наверное, слишком туп, чтоб запомнить сигналы».
Замену Бенджамину нашли в лице толстого пятнадцатилетнего коротышки по фамилии Сторч, который бросился отбивать короткие прямые удары, даже не сняв биты с плеча. Мало того, умудрился целых два раза выронить пойманный мяч, что позволило ребятам из лагеря Кейнога выиграть две лишние перебежки.
Бенджамин был тогда еще слишком молод и слишком нацелен на победу той команды, за которую выступал, чтобы получить хоть толику удовлетворения от позорного провала Сторча. И весь остаток дня и вечер пробыл один, стараясь держаться в стороне от ребят. Несчастный и мрачный, он мечтал о том, чтобы лето поскорее закончилось, и был готов хоть сегодня же вечером уехать домой.
На следующий день на игру он не пошел. Взял каноэ, столкнул его в озеро и греб долго и усердно до тех пор, пока не стихли вдалеке крики болельщиков. Потом лег на спину и смотрел в небо, испещренное легкими мелкими облачками, и слушал, как журчит вода, омывающая борта его лодки. А потом развернул и стал читать «Сэдерди ивнинг пост». На обложке красовался портрет старого ковбоя, слушающего «Викторолу»[8 - Товарный знак граммофонов и патефонов, пластинок и проигрывателей.] с рупором. В руках старый ковбой держал пластинку с надписью: «Сны о давно ушедшем». И плакал. В журнале был напечатан рассказ, который Бенджамин прочел с неподдельным интересом. Что мне теперь делать? Так спрашивала сама себя Эмили, и голос ее звучал как-то странно. Что, к примеру, может остановить меня сейчас, не дать спуститься с холма в долину?.. Туда, где раскинул свои шатры цыганский табор, туда, откуда доносится в сумерках призывный зов скрипки?..
И баскетбольный матч выиграли ребята из лагеря Кейнога. Брайант срывал свой гнев и раздражение на всех подряд. На всем долгом пути к лагерю Беркли мальчики сидели с удрученными лицами. И никакого пения из грузовиков больше не доносилось.
1964 год
Федров передвинулся на другой край скамейки – солнце слепило глаза. Энди Робертс был все еще в игре, но третьего игрока базы заменили Джоем Серрацци, отец которого был владельцем местного винного магазина. Несколько лет назад Серрацци играл за «Западную Виргинию» и считался лучшим игроком в городе, что заставило Федрова вновь сосредоточиться на игре. Серрацци был все время в движении, перед каждой подачей привставал на цыпочки, а руки при этом висели свободно и ниже колен. Подобная поза предполагала готовность к чему угодно. Во время иннинга он спикировал на противника, точно хищная птица, поймал отбитый головой мяч голой рукой, неуловимым глазу движением тут же перекинул его низом – из-под руки. И, обогнав игрока противника, достиг первой базы. Он отличился и в следующем иннинге, сделав ложный выпад. Отвлек внимание противника и не дал ему возможности добежать первым. И наконец обвел вокруг пальца бэттера, заставив его покинуть зону. После чего был страйк, в него попали мячом.
– Эй, Джой! – окликнул его Федров. – На что ты только время тратишь? А в «Метс» тебя явно не хватает.
– Да я лучше буду выпивкой торговать, – ответил Серрацци. – Я ведь как-никак интеллектуал.
В следующем иннинге он уже в качестве бэттера первым отбил мяч и устремился к базе. Казалось, он не бежит, а летит на крыльях. Федров отыскал глазами Майкла, увидел, как тот развернулся и тоже побежал, понимая всю отчаянность и безнадежность этого рывка, рванулся к изгороди, отмечавшей границу поля. В самый последний миг Майкл высоко подпрыгнул, налетел на изгородь – даже проволока зазвенела от удара, – упал на колени, но мяч все-таки взял. Потом медленно поднялся, не выпуская его из рук. Со скамей, где сидели немногочисленные зрители, послышались одобрительные свистки. Серрацци подошел и сел рядом с Федровым.
– Вот кого ждет «Метс», – сказал он. – Ваш малыш, ему очень нравится побеждать, верно?
– Похоже, что да, – согласился Федров. И вдруг вспомнил свою реакцию на слова тренера о «страсти». Тогда ему было девятнадцать. Интересно, поймет ли Майк, если он скажет ему нечто подобное?
– Он что, намерен заняться игрой всерьез? – спросил Серрацци. – Могу дать ему пару добрых советов.
– Да нет, – ответил Федров, – вообще-то он предпочитает теннис.
– И прав. Теннис – такая игра, в которую можно играть всю жизнь, – заметил Серрацци с присущим каждому спортсмену отсутствием неловкости от сознания того, что говорит штампами.
Федров не стал объяснять Серрацци, что единственная причина, по которой Майкл сегодня играет в бейсбол, кроется в том, что его не приняли в местный теннисный клуб. А не приняли потому, что он был евреем, вернее, только наполовину евреем. К тому же в городе было совсем немного частных кортов, где разрешалось играть евреям, приехавшим на каникулы, – да и то только взрослым и лишь по выходным. Жена Федрова Пегги, не будучи еврейкой, пребывала из-за этого в постоянном раздражении, и старалась убедить Федрова не принимать в доме знакомых, являвшихся членами этого клуба. Но сам Федров уже давно-давно перестал обращать внимание на эти малоприятные, но мелкие противоречия американской жизни…
Как-то нелепо после Аушвица всерьез расстраиваться из-за того, что твой сын не может пару часов поиграть на корте в субботу. В спорах с Пегги он даже защищал своих более «родовитых» друзей, оправдывая их пассивность в этом вопросе и напоминая Пегги, что во многие заведения, куда они ходили, не пускали негров. Они с женой спокойно мирились с этим фактом, хоть и считали себя людьми без предрассудков. «Я уже не молод, – написал он однажды жене, отвечая на одно из писем, где Пегги сетовала на так называемое лицемерие его друзей из клуба. – И мне уже просто не хватает гнева как-то реагировать на это. Я должен расходовать свой гнев экономно и с умом».
Кстати, Джой Серрацци тоже не мог вступить в теннисный клуб. И религия здесь была совершенно ни при чем. Он не мог стать членом клуба потому, что его отец был хозяином винной лавки. «Интересно, – подумал вдруг Федров, – что больше возмутило бы Пегги? Что в теннис ей не дают играть потому, что муж еврей, или из-за того, что она замужем за торговцем спиртным?.. Надо будет обязательно спросить ее в следующий раз, когда она снова заведет свою песню».
Теперь приходилось щуриться – укрыться от солнца было негде. Близился сентябрь, и солнце с каждым днем стояло над горизонтом все ниже. Сентябрь, низкое солнце, шиповки заброшены за шкаф, каникулы кончились, старые игроки доигрывают последние матчи…
1927 год
И вот утром 1 сентября все они снова оказались на площадке под навесом, на причале, от которого начиналась Фултон-стрит. Дети с радостными возгласами воссоединялись с родителями, воспитатели с важным видом принимали подношения, тетушки восклицали, как замечательно выглядит маленький Ирвин или Патрик. Ребята постарше обменивались рукопожатиями, обещая друг другу непременно встретиться снова. В центре этого водоворота находился директор лагеря, он лучезарно улыбался, поскольку еще одно лето обошлось без неприятных происшествий – никто не утонул, не было ни эпидемий, ни полиомиелита, все счета оплачены полностью. Площадка опустела быстро, все спешили домой. И вскоре там остались лишь Бенджамин с Луисом – за ними родители еще не приехали. Директор распорядился, чтобы Брайант побыл с ними и обязательно дождался мистера и миссис Федровых.
Утром 23 августа сорок три мальчика и четыре воспитателя заняли свои места в грузовиках «Рео», где сиденьями служили длинные скамьи, поставленные в два ряда вдоль бортов. От дождя пассажиров защищал кусок брезента на деревянных опорах. День выдался сырой и ветреный, на всех мальчиках были свитеры. Судя по последним слухам из Бостона, губернатор еще не решил, стоит ли проявлять милосердие к двум осужденным. Брайант, назначенный ответственным за экспедицию, должен был позвонить директору лагеря ровно в час дня – для получения окончательных инструкций. Если к этому времени казнь отменят, грузовики продолжат путь в Бостон. Если же Сакко и Ванцетти окажутся на электрических стульях, им следовало изменить маршрут и ехать в лагерь Кейнога, где мальчики сыграют в бейсбол, переночуют, а наутро сыграют еще один матч, баскетбольный. После этого им предстояло отправляться в лагерь Беркли, повторить ту же программу и на следующий день вернуться в свой лагерь.
У двух-трех мальчиков постарше оказались с собой газеты; исходя из написанного там, можно было заключить, что губернатор все же должен отменить приговор. Бенджамин, жадный до любого чтива, читать газеты пока не начал, а потому не имел собственного мнения о деталях этого дела, справедливости или несправедливости приговора. И еще совершенно не понимал, почему вокруг двух людей, о которых он прежде никогда не слышал, поднято столько шума. Каждый год в Соединенных Штатах вешали или сажали на электрический стул сотни людей, это он знал. Но казни никогда не мешали чьим-либо планам, и смысл именно этой казни и особое ее значение были еще недоступны его пониманию.
Он все же пробежал глазами газетную колонку, где дело двух рабочих сравнивалось с делом Дрейфуса, но поскольку Бенджамин и о Дрейфусе никогда не слышал, это не помогло.
Он устроился поближе к заднему, открытому краю кузова, трясся на жесткой скамье, вдыхал запах пропыленного брезента и надеялся, что его не укачает. Он не смеялся шуткам мальчиков, сидел молчаливый и мрачный с закрытыми глазами, изо всех сил стараясь подавить тошноту, подкатывающую к горлу из-за вони выхлопных газов и тряской дороги. Нет, не то чтобы он желал смерти Сакко и Ванцетти, но если бы точно знал, что их не казнят, то остался бы в лагере. Его ничуть не привлекал Бостон: театрами он не интересовался, от хваленого пунша дядюшки Кона его наверняка будет тошнить, а уж насчет того, что ему удастся привлечь внимание какой-нибудь из семнадцатилетних блондинок или брюнеток из Вассара или Рэдклиффа, не было никаких иллюзий. Оставшись в лагере, он всегда мог послушать радиопередачу о матчах промежуточной лиги или взять пару книжек, забраться в каноэ и спокойненько в свое удовольствие почитать. Так что на деле его присутствие в грузовике было своего рода залогом того, что тех двоих все же казнят и что на протяжении двух ближайших дней он получит возможность отличиться в двух своих самых любимых играх.
Итак, грузовики «Рео» катили по узким ухабистым дорогам Новой Англии, вздымая тучи пыли и припудривая ею тянущиеся вдоль обочин молоденькие сосновые посадки. А мальчики в машине, где ехал Бенджамин, начали петь. Поскольку среди них оказался и Кон, то пели они, естественно, «Аллилуйю» и «Порой я весел, порой едва не плачу». Сам Бенджамин молчал, не пел. Ему были ненавистны эти мелодии (видимо, тут сказывалась неприязнь к Кону). Он чувствовал, что волосы и одежда пропитались пылью, пыль хрустела даже на зубах, желудок выворачивало наизнанку, во рту было кисло от подступающей тошноты.
Много лет спустя он, сержант-пехотинец, сидел, пристроившись у борта бронетранспортера, битком набитого людьми, который катил по равнинам Франции после высадки в Сен-Ло[5 - Департамент во Франции, неподалеку от пролива Ла-Манш, где в июле 1944 г. состоялась высадка американского корпуса на нормандское побережье.]. Часть его лица прикрывал платок цвета хаки, чтобы хоть немного защититься от пыли. И тогда вдруг у него возникло странное ощущение, что все это уже было прежде, что он чувствовал, испытывал то же самое другим давним летом. Впечатление это лишь усилилось, когда на дороге неподалеку от Авранша нестройный хор беззащитных молодых голосов вдруг грянул: «Так споем же аллилуйя, прочь печаль и прочь тоску». А потом: «Так споем же аллилуйя, так споем ее сейчас, только это, аллилуйя, нам поможет в трудный час!»
Кон стоял между двумя рядами скамей, ловко балансируя и удерживая равновесие – грузовик так и ходил ходуном из стороны в сторону – и дирижировал хором. Он размахивал руками, строил смешные и грозные гримасы, изображая, что дирижер недоволен тем, что кто-то из мальчиков фальшивит. Пение завершилось громким смехом. Кон же, продолжая кривляться, воздел обе руки, призывая свой оркестр: «Встать, джентльмены, встать!»
И все, кроме Бенджамина, встали, даже Брайант поднялся вместе с остальными, видимо, решив подыграть своему любимчику. Кон вопросительно поглядывал на Бенджамина, и тот вдруг испугался: что, если Кон собирается как-то особенно гадко над ним подшутить? Но Кон лишь улыбнулся, затем принялся импровизировать – сперва, когда мальчики уже сели, замурлыкал под нос какую-то мелодию, затем уже во весь голос запел на мотив «Порой я весел», но только с другими словами.
– Порой я весел, – пел Кон, – порой едва не плачу! А Сакко и Ванцетти постигла неудача! Добрый мистер губернатор, проявите снисхожденье! И, пожалуйста, мы просим, отмените представленье!
Хоть и не слишком складная выходила у него песенка, Кон все же умудрялся придерживаться ритма и даже зарифмовал несколько слов. И взрыв смеха приветствовал его сметливость.
– А теперь, – крикнул он, – все вместе!
– Порой я весел… – затянули юношеские голоса, перекрывая рев мотора. – А Сакко и Ванцетти постигла неудача!..
Только Бенджамин по-прежнему молчал. «Этот сукин сын умудряется все превратить в шутку», – с горечью думал он, понимая, что остальные ребята, узнав об этой его мысли, непременно прозвали бы его чокнутым.
– Добрый мистер губернатор, проявите снисхожденье! И, пожалуйста, мы просим, отмените представленье!..
Голоса звучали все громче и громче, мальчики выучили новые слова, и хор гремел, когда ровно в час дня грузовик резко притормозил и остановился у почтового отделения в маленькой деревушке. Брайант пошел звонить директору лагеря.
Деревня была хоть и маленькая, но в центре имелась зеленая лужайка с летней эстрадой для оркестра, а рядом с почтой находился универсальный магазин. Мальчики вышли и стали разминать ноги, а потом расселись – кто прямо на траве, кто на ступеньках эстрады – и принялись жевать сандвичи и апельсины, пить теплое, попахивающее металлом молоко из термосов, которыми снабдили их лагерные повара.
Брайанта не было очень долго, и Кон успел научить новой песне ребят из других грузовиков. Деревушка выглядела почти вымершей, поскольку было время ленча. И лишь какой-то фермер да двое прохожих с недоумением прислушивались к странной песенке, которую распевал хор из сорока мальчишек в лагерной униформе, причем голоса в этом хоре варьировались от совсем детского сопрано до неуверенного баска. «А Сакко и Ванцетти постигла неудача…»
Когда наконец из дверей универмага вышел Брайант, на лице у него застыло скучное и надменное выражение – именно с таким выражением направляется тренер бейсбольной команды к своим игрокам, чтобы послать их в душ. И все, прежде чем он заговорил, уже поняли: новости плохие.
– Ребята, – сказал Брайант, – боюсь, что Бостон отменяется. Ровно час назад этих двух парней казнили на электрическом стуле. Так что давайте-ка побыстрее забудем обо всем этом, поедем в лагерь Кейнога и покажем тамошним слабакам, каким должен быть настоящий бейсбольный клуб! И что этот сезон не прошел для наших игроков даром.
– Черт побери! – воскликнул Кон. – Лучше б я вообще дома остался.
Правила запрещали воспитанникам непристойно выражаться в лагере. Но Брайант утешительным жестом обнял Кона за плечи и сказал:
– Я разделяю твои чувства, Борис.
И вот все они снова полезли в грузовики и покатили в лагерь Кейнога. Бенджамин снова пристроился на самом краю, у открытого заднего борта, опасаясь, что его непременно вырвет после толстых и сытных сандвичей и целого термоса молока. Мысль о том, что примерно через час он уже будет играть в бейсбол, мысль, от которой прежде он пришел бы в радостное возбуждение, сейчас ничуть не грела. Потому что он знал: все остальные ребята будут играть с отвращением, кое-как. Ведь он был среди них единственным, кто так ждал и жаждал игры! И еще Бенджамин понимал, что, как бы себя ни вел, что бы ни делал, что бы там ни говорили о нем остальные, часть этого отвращения будет направлена на него. «Черт, – подумал он, – да у меня нет ни одного друга в этом паршивом лагере! Нет, следующим летом надо будет поехать куда-нибудь в другое место».
В тот день они проиграли. Годы спустя, когда Бенджамин уже учился в колледже, ему попался какой-то необыкновенно образованный тренер. И вот однажды этот тренер сказал ему: «Лично мне все равно, насколько ты натренирован, насколько хорош, насколько талантлив. Я хочу одного: чтобы ребята играли со страстью! Если нет в тебе этой страсти, нечего даже и на поле выходить. Лучше уж проторчать все воскресенье в библиотеке, хоть чему-то научишься. Ты ведь не для меня это делаешь и не для кого-то еще. И нечего выпендриваться. Толку от тебя сегодня все равно ноль!» Тогда Бенджамину было девятнадцать и в те времена он был куда более blase[6 - пресыщенный (фр.).], нежели теперь, под пятьдесят. И он с трудом подавил усмешку, услышав от тренера это слово, «страсть», – оно казалось таким неуместным, когда речь шла о бейсболе. Лишь гораздо позднее он понял, что имел в виду тренер.
Как бы то ни было, но никто из ребят, в том числе и сам Бенджамин, не играли в тот августовский день 1927 года со страстью. Игроки двигались по полю лениво, вяло, точно во сне. Да и он за всю игру не сделал ни одной приличной передачи. На восьмом иннинге[7 - Иннинг – один игровой период в бейсболе, каждая игра состоит из девяти иннингов.] вдруг пошел дождь, Бенджамин поскользнулся и пропустил мяч, который пролетел прямо над его головой и закатился куда-то в кусты. Короче, команда лагеря Кейнога сделала еще две перебежки и победила. Первый раз за весь сезон он так позорно играл. Правда, никто из ребят не попрекнул его и словом, когда они уходили с поля. Лишь Брайант заметил:
– Тоже мне Трис Спикер.
Он пробормотал это с горечью. Трис Спикер был гениальным центровым филдером того времени, и ирония была вполне уместна.
– Мне стыдно за тебя. Придется найти тебе замену, толку от тебя все равно никакого. Да, и завтра с «Беркли» ты не играешь. Ты просто человек, приносящий неудачу, Федров.
«Ну и дурак же, – подумал Бенджамин. – Я и не знал, что ему так хочется в Бостон. Неудивительно, что он в «Сиракузах» лишь на вторых ролях. Наверное, слишком туп, чтоб запомнить сигналы».
Замену Бенджамину нашли в лице толстого пятнадцатилетнего коротышки по фамилии Сторч, который бросился отбивать короткие прямые удары, даже не сняв биты с плеча. Мало того, умудрился целых два раза выронить пойманный мяч, что позволило ребятам из лагеря Кейнога выиграть две лишние перебежки.
Бенджамин был тогда еще слишком молод и слишком нацелен на победу той команды, за которую выступал, чтобы получить хоть толику удовлетворения от позорного провала Сторча. И весь остаток дня и вечер пробыл один, стараясь держаться в стороне от ребят. Несчастный и мрачный, он мечтал о том, чтобы лето поскорее закончилось, и был готов хоть сегодня же вечером уехать домой.
На следующий день на игру он не пошел. Взял каноэ, столкнул его в озеро и греб долго и усердно до тех пор, пока не стихли вдалеке крики болельщиков. Потом лег на спину и смотрел в небо, испещренное легкими мелкими облачками, и слушал, как журчит вода, омывающая борта его лодки. А потом развернул и стал читать «Сэдерди ивнинг пост». На обложке красовался портрет старого ковбоя, слушающего «Викторолу»[8 - Товарный знак граммофонов и патефонов, пластинок и проигрывателей.] с рупором. В руках старый ковбой держал пластинку с надписью: «Сны о давно ушедшем». И плакал. В журнале был напечатан рассказ, который Бенджамин прочел с неподдельным интересом. Что мне теперь делать? Так спрашивала сама себя Эмили, и голос ее звучал как-то странно. Что, к примеру, может остановить меня сейчас, не дать спуститься с холма в долину?.. Туда, где раскинул свои шатры цыганский табор, туда, откуда доносится в сумерках призывный зов скрипки?..
И баскетбольный матч выиграли ребята из лагеря Кейнога. Брайант срывал свой гнев и раздражение на всех подряд. На всем долгом пути к лагерю Беркли мальчики сидели с удрученными лицами. И никакого пения из грузовиков больше не доносилось.
1964 год
Федров передвинулся на другой край скамейки – солнце слепило глаза. Энди Робертс был все еще в игре, но третьего игрока базы заменили Джоем Серрацци, отец которого был владельцем местного винного магазина. Несколько лет назад Серрацци играл за «Западную Виргинию» и считался лучшим игроком в городе, что заставило Федрова вновь сосредоточиться на игре. Серрацци был все время в движении, перед каждой подачей привставал на цыпочки, а руки при этом висели свободно и ниже колен. Подобная поза предполагала готовность к чему угодно. Во время иннинга он спикировал на противника, точно хищная птица, поймал отбитый головой мяч голой рукой, неуловимым глазу движением тут же перекинул его низом – из-под руки. И, обогнав игрока противника, достиг первой базы. Он отличился и в следующем иннинге, сделав ложный выпад. Отвлек внимание противника и не дал ему возможности добежать первым. И наконец обвел вокруг пальца бэттера, заставив его покинуть зону. После чего был страйк, в него попали мячом.
– Эй, Джой! – окликнул его Федров. – На что ты только время тратишь? А в «Метс» тебя явно не хватает.
– Да я лучше буду выпивкой торговать, – ответил Серрацци. – Я ведь как-никак интеллектуал.
В следующем иннинге он уже в качестве бэттера первым отбил мяч и устремился к базе. Казалось, он не бежит, а летит на крыльях. Федров отыскал глазами Майкла, увидел, как тот развернулся и тоже побежал, понимая всю отчаянность и безнадежность этого рывка, рванулся к изгороди, отмечавшей границу поля. В самый последний миг Майкл высоко подпрыгнул, налетел на изгородь – даже проволока зазвенела от удара, – упал на колени, но мяч все-таки взял. Потом медленно поднялся, не выпуская его из рук. Со скамей, где сидели немногочисленные зрители, послышались одобрительные свистки. Серрацци подошел и сел рядом с Федровым.
– Вот кого ждет «Метс», – сказал он. – Ваш малыш, ему очень нравится побеждать, верно?
– Похоже, что да, – согласился Федров. И вдруг вспомнил свою реакцию на слова тренера о «страсти». Тогда ему было девятнадцать. Интересно, поймет ли Майк, если он скажет ему нечто подобное?
– Он что, намерен заняться игрой всерьез? – спросил Серрацци. – Могу дать ему пару добрых советов.
– Да нет, – ответил Федров, – вообще-то он предпочитает теннис.
– И прав. Теннис – такая игра, в которую можно играть всю жизнь, – заметил Серрацци с присущим каждому спортсмену отсутствием неловкости от сознания того, что говорит штампами.
Федров не стал объяснять Серрацци, что единственная причина, по которой Майкл сегодня играет в бейсбол, кроется в том, что его не приняли в местный теннисный клуб. А не приняли потому, что он был евреем, вернее, только наполовину евреем. К тому же в городе было совсем немного частных кортов, где разрешалось играть евреям, приехавшим на каникулы, – да и то только взрослым и лишь по выходным. Жена Федрова Пегги, не будучи еврейкой, пребывала из-за этого в постоянном раздражении, и старалась убедить Федрова не принимать в доме знакомых, являвшихся членами этого клуба. Но сам Федров уже давно-давно перестал обращать внимание на эти малоприятные, но мелкие противоречия американской жизни…
Как-то нелепо после Аушвица всерьез расстраиваться из-за того, что твой сын не может пару часов поиграть на корте в субботу. В спорах с Пегги он даже защищал своих более «родовитых» друзей, оправдывая их пассивность в этом вопросе и напоминая Пегги, что во многие заведения, куда они ходили, не пускали негров. Они с женой спокойно мирились с этим фактом, хоть и считали себя людьми без предрассудков. «Я уже не молод, – написал он однажды жене, отвечая на одно из писем, где Пегги сетовала на так называемое лицемерие его друзей из клуба. – И мне уже просто не хватает гнева как-то реагировать на это. Я должен расходовать свой гнев экономно и с умом».
Кстати, Джой Серрацци тоже не мог вступить в теннисный клуб. И религия здесь была совершенно ни при чем. Он не мог стать членом клуба потому, что его отец был хозяином винной лавки. «Интересно, – подумал вдруг Федров, – что больше возмутило бы Пегги? Что в теннис ей не дают играть потому, что муж еврей, или из-за того, что она замужем за торговцем спиртным?.. Надо будет обязательно спросить ее в следующий раз, когда она снова заведет свою песню».
Теперь приходилось щуриться – укрыться от солнца было негде. Близился сентябрь, и солнце с каждым днем стояло над горизонтом все ниже. Сентябрь, низкое солнце, шиповки заброшены за шкаф, каникулы кончились, старые игроки доигрывают последние матчи…
1927 год
И вот утром 1 сентября все они снова оказались на площадке под навесом, на причале, от которого начиналась Фултон-стрит. Дети с радостными возгласами воссоединялись с родителями, воспитатели с важным видом принимали подношения, тетушки восклицали, как замечательно выглядит маленький Ирвин или Патрик. Ребята постарше обменивались рукопожатиями, обещая друг другу непременно встретиться снова. В центре этого водоворота находился директор лагеря, он лучезарно улыбался, поскольку еще одно лето обошлось без неприятных происшествий – никто не утонул, не было ни эпидемий, ни полиомиелита, все счета оплачены полностью. Площадка опустела быстро, все спешили домой. И вскоре там остались лишь Бенджамин с Луисом – за ними родители еще не приехали. Директор распорядился, чтобы Брайант побыл с ними и обязательно дождался мистера и миссис Федровых.