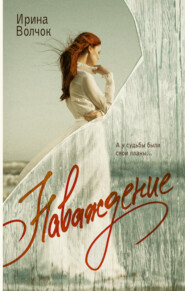По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Журавль в небе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тамара обиделась и рассердилась. Это было очень несправедливо. И еще это было очень не похоже на него, совсем не похоже, за много лет она не слышала от него ничего подобного, не видела его таким… невменяемым. Сердитым видела, и даже злым, и отношения они время от времени выясняли, и не раз обижались друг на друга… Но никогда он не оскорблял ее.
– Жень, подожди, – сказала она беспомощно. – Ты себя-то слышишь? Ты думаешь, что говоришь? Ты что, на самом деле так считаешь?
– Да, – отрезал он зло. – Я так думаю. И все так думают. И не делай такие невинные глазки! Ты и сама прекрасно знаешь, что это правда! Ты и со мной спуталась, чтобы карьеру сделать! Любовь! А сама с мужем не развелась! Семья ей важнее! А из меня дурака можно делать, да? Глазки кому попало строить?!
Он говорил и говорил, но она уже почти ничего не слышала, сидела, не ощущая собственного тела, неподвижными глазами смотрела в его бледное, осунувшееся, злое лицо. Совершенно чужое лицо. Как его лицо могло вдруг стать для нее чужим? Это было совершенно невозможно.
Кажется, он закончил сольное выступление и о чем-то спрашивал ее. Она не поняла – о чем, просто не услышала. Так и сидела, сведенная судорогой боли и беспомощности, и смотрела на него пустыми глазами. Он тоже какое-то время молча смотрел на нее, потом вдруг резко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Не нарочно – просто не придержал, чтобы не хлопнула, а ведь всегда придерживал…
О чем хоть она думает? Двери какие-то. Думать надо совсем о другом. Думать надо о том, как теперь жить.
…Какой день она думает, как теперь жить? Она не помнила. Первые дни после их ссоры, когда Тамара еще ходила на работу, она считала: прошел один день… два… три… Наверное, завтра он придет – и все будет хорошо. Семь дней, восемь… одиннадцать… Просто ему неловко после всего этого прийти как ни в чем не бывало. Он, наверное, сначала позвонит. Пятнадцать дней… двадцать… тридцать… Может быть, позвонить ему самой? Страшно. Ей было страшно, потому что она все время помнила его чужое лицо и его чужие слова.
А потом она заболела и перестала считать дни и ждать его звонка. И перестала думать, как жить дальше. Как-то так получилось, что жить дальше совершенно не интересно, ну и думать тут не о чем. Так она и лежала круглыми сутками, ни о чем не думая, ничего не желая, почти не замечая, кто там ходит по дому, входит к ней, что-то говорит, дает лекарство… Она послушно глотала таблетки, запивала водой, вслушивалась в голоса, которые о чем-то ее спрашивали, – и не понимала, кто и о чем ее спрашивает. Иногда отмечала про себя: это дочери… это муж… это Лена, она у нее работает… Хотя нет, Лена работает уже не у нее. У Лены теперь другой начальник. Или начальница? А, все равно. Теперь ей было вообще все равно. Всегда. Она ничего не хотела и не ждала, потому что знала, что скоро умрет, а что можно хотеть и ждать обреченному? Разве только покоя. А то все ходят, говорят, спрашивают, пытаются лечить, пытаются покормить, пытаются делать бодрые лица и голоса… Ей мешали бодрые лица и голоса. Ей любые лица и голоса мешали. Они не давали ей спать. Спать, спать, спать… Если она сейчас и могла что-нибудь хотеть, чего-нибудь любить, чего-нибудь ждать, так это был сон. Сны… Нет, все-таки сон. Потому что он был один, просто многосерийный. Одна серия заканчивалась – и она просыпалась. Она засыпала – и начиналась следующая серия. Она покорно пережидала периоды бодрствования, в мельчайших подробностях вспоминая предыдущую серию этого многосерийного сна, и, как только ее оставляли в покое, тут же засыпала, робко ожидая продолжения. Она заранее знала, что ей будет сниться, но все-таки немного побаивалась: а вдруг что-нибудь не то? Но всегда снилось то.
Это началось еще тогда, когда она не считалась больной, когда еще ходила на работу, и общалась с людьми, и выполняла привычные обязанности, и возвращалась домой, и что-то делала по хозяйству, и даже, кажется, смотрела телевизор. Или уже не смотрела? Наверное, не смотрела, потому что уже тогда старалась поскорее уснуть. Уснуть и видеть сны…
Первую серию этого сна Тамара увидела в первую же ночь после ссоры с Евгением. Сон был точным повторением того, что было в ее жизни, и когда она проснулась, то горько расплакалась от того, что сон оказался таким коротким. Хотя и вместил в себя целый год – тот первый год, когда не вовремя растаявшая снежинка исполнила ее нечаянное желание.
…Было так, будто они увидели друг друга впервые – и оба тут же потеряли голову. А ведь на самом деле были знакомы несколько лет… ну, не то чтобы кто-то их специально знакомил, но, работая в одной структуре, невозможно было не встречаться на совещаниях, не сталкиваться в столовой, не здороваться, случайно увидевшись на улице… И невозможно было не знать друг о друге все, потому что здесь все всё друг о друге знали. Она никогда специально не прислушивалась к разговорам на тему «кто, где, с кем, о чем, когда, какая квартира и на ком женат (за кем замужем)», но, как оказалось, и она запомнила ненароком много подробностей из того, что о нем говорили. Правда, как потом выяснилось, процентов девяносто из всего этого было чистой воды брехней, как брехней было процентов девяносто из того, что говорили о ней. Когда это обнаружилось, Тамара страшно расстроилась, а Евгений искренне веселился, дразнил ее, рассказывая якобы услышанную им новую дикую сплетню, и время от времени пугал предположениями о том, что будут говорить, когда узнают о них. Вот странно: в коллективе, где нельзя было даже посмотреть на кого-то без того, чтобы из этого тут же не сделали далеко идущие выводы (а иногда – и оргвыводы), никто ничего не знал об их романе. Об их любви. Это была та самая любовь, в которую Тамара раньше не верила, считала дурью, патологией, сумасшествием и злостной мистификацией киношников.
Нет, это не было мистификацией. Дурью, патологией – может быть. Сумасшествием – наверняка. Но никак не мистификацией. Это было что-то очень настоящее, что-то настолько реальное, что все остальное в жизни казалось просто ожиданием этой любви. Да, вот именно: все, что она видела, слышала, чувствовала и делала до сих пор, – все это было только для того, чтобы стать той, в которую влюбился Евгений. И он, конечно, жил не просто так – он тоже создавал себя таким, в которого она не могла не влюбиться. Ей было совершенно ясно, что они и родились-то для того, чтобы в конце концов встретить друг друга, найти, узнать. Она поверила в древний миф о двух половинках, которые ищут друг друга, потому что составляют одно целое и друг без друга просто не могут жить. Она знала, что и Евгений чувствует то же самое.
Она очень изменилась. Ощущение горячего, пьянящего, нестерпимого счастья будто отгородило ее ото всех – от друзей, от работы, даже от семьи, – и в то же время все, что ей приходилось делать, получалось как-то на редкость легко, играючи, как бы само собой.
Иногда по привычке она заглядывала в зеркальце над кухонной мойкой – и зажмуривалась, не решаясь поверить в то, что видела своими глазами. В принципе, раньше она себе нравилась… Ну, почти всегда. Но никогда даже и не подозревала, что может быть такой красавицей, что на свете вообще бывают такие красавицы. Она видела женщин, которые со временем расцветали, хорошели необыкновенно, но всегда это происходило постепенно, именно со временем. С ней произошло что-то другое, она не расцветала со временем, и никакого времени у нее не было на всякие такие расцветания. Это произошло мгновенно, будто от удара молнии треснула скорлупа, в которой она была замурована, и осыпалась, и исчезла, открывая ее – новую. А горячий, напряженный, чуть хриплый голос Евгения плавил пространство вокруг нее, он говорил сумасшедшие, невозможные слова, и этот голос, эти слова меняли ее безвозвратно. Тогда, в первый вечер, когда он провожал ее до дому, и крепко держал за руку, и плавил пространство своим горячим хриплым голосом, она ничего не говорила ему в ответ. Она была ошеломлена, испугана – и счастлива. Вот такая, испуганная и счастливая, она и вошла в собственную квартиру, которая вдруг показалась ей чужой, и на диване в гостиной валялся совершенно чужой человек, который вот уже двадцать лет был ее мужем.
Николай медленно оглянулся на нее, сказал «привет» своим неторопливым спокойным голосом, хотел отвернуться к телевизору, но вдруг замер, пристально рассматривая ее, и на лице его все явственнее проступало недоумение. Или недовольство? Тамара поймала себя на мысли о том, что никогда не могла понять выражения лица мужа.
– Ты что, влюбилась? – без выражения спросил Николай после минутного молчания.
– Да, – ответила она растерянно.
До его вопроса она не знала об этом. И кажется, пока не была готова узнать. Но он спросил – и она ответила «да», и поняла, что это правда и что теперь делать – она не знает.
– И что ты будешь делать? – опять помолчав, спросил Николай все тем же спокойным, слегка сонным голосом.
– Не знаю, – честно ответила Тамара и тут же запаниковала. – А ты?
– А при чем здесь я? – Николай поднялся с дивана, потоптался на месте, пожал плечами. – Не я же влюбился… Я ничего не должен делать. У меня семья, я о семье должен думать.
Он повернулся и вышел из комнаты.
Тамара постояла, растерянно оглядываясь, будто попала в незнакомое место и теперь не знала, что ей здесь делать, а потом на автопилоте начала привычную возню: подошла к телевизору, выключила его, поправила покрывало на диване, аккуратно свернула плед, убрала подушку в шкаф, вытряхнула окурки из пепельницы, собрала с пола газеты и сложила их стопкой на журнальном столике, поставила на плиту чайник, перемыла посуду, покормила Чейза, начистила картошки, поставила ее варить и в ожидании Наташки зашла к деду поговорить. То есть она знала, что говорить об этом с дедом не будет, но ей казалось, что, о чем бы она с ним ни говорила, ей станет яснее, что делать с этим. Потому что странный разговор с Николаем ничего не прояснял, а, наоборот, все запутывал.
Дед сидел в кресле под торшером и читал газету. Выглядел он неплохо, даже, можно сказать, очень хорошо выглядел – бодрым и вполне здоровым. Только очень сердитым.
– Пап, ты как себя чувствуешь? – спросила Тамара, устраиваясь на ковре рядом с креслом деда и прижимаясь головой к его коленям. – Я тебе виноградику принесла. «Дамские пальчики».
– Как я себя чувствую! – сварливо сказал дед, привычно опуская сухую прохладную ладонь на ее стриженый затылок. – Как дурак я себя чувствую! Всю жизнь жили – не тужили, горя не знали, а теперь вон чего! И тебе Чечня, и тебе бандиты, и тебе беженцы, и тебе наркоманы… Виноград почем брала?
– Нипочем, – соврала Тамара, потихоньку радуясь боевому дедову настрою. – Пап, ты же знаешь – я взятки виноградом беру. И сыром. Сыр я тоже принесла, твой любимый, с вот такими дырками!
– Ага. – Дед саркастически хмыкнул и потрепал ее за ухо. – А селедочкой ты взятки не берешь, а? Солененькой… С лучком и постным маслицем!
– Селедкой не беру, – отрезала Тамара строго. – Тебе селедку нельзя, ты же знаешь. А виноград можно. Что дают – то и ешь.
– Балуешь ты меня, доченька. – Дед вздохнул, погладил ее по голове, и Тамаре показалось, что рука у него дрожит. – За что ж мне счастье такое на старости лет? Живу, как в раю, и умирать не надо…
– Не надо, конечно, не надо, – быстро согласилась Тамара. – Папочка, ты уж не умирай, пожалуйста! Как я без тебя?
Дед тихонько засмеялся, опять погладил ее по голове, вздохнул и заговорил назидательным тоном:
– Умирать когда-нибудь все равно придется. Все умирают. Ты об этом не думай. Ты о жизни думай. У тебя и без меня жизнь будет. У тебя семья, дети – вот о них ты и думай… У тебя случилось что? Чего маешься-то?
– Я вспомнила, – сказала Тамара нерешительно. – Я еще маленькая была и нечаянно услышала… Мама тебе говорила что-то такое… что-то про то, что ты хотел от нее уйти… ну, к другой женщине. А тут я появилась – и ты остался. Из-за меня. Это правда?
– Правда, – с удовольствием подтвердил дед. – Слышала, значит… И как запомнила? Тебе и трех тогда не было… Хотел уйти, было дело. По молодости каких дров не наломаешь! Мы с Настей тогда ссорились сильно. Все ссорились и ссорились… Ну, я и взбрыкнул: мол, не нравлюсь – так другой какой понравлюсь! Какая помоложе! Мне тогда только пятьдесят стукнуло, что за возраст для мужика? А Настя была на пять лет меня старше, ты же знаешь… Ох, как она обиделась… Если бы не ты, так бы она и не простила, так бы мы и разлетелись в разные стороны. И была бы у меня совсем другая судьба.
– Пап, выходит, я тебе всю жизнь перекроила? – Тамара подняла голову, тревожно заглядывая деду в лицо. – Выходит, если бы не я, ты, может быть, был бы счастлив с кем-нибудь еще… ну, с какой-нибудь молодой и красивой. И дети, может быть, у тебя свои были бы…
– Глупая ты, – сказал дед сердито. – Молодая еще – вот и глупая. Разве ты мне не своя? Может, если бы не ты, так я и счастья настоящего не знал бы. Женщина – это одно дело, это совсем другая любовь… Какая ни будь сильная, а все равно проходит. А семья – это дети, важнее этого ничего в мире нет. Ты же это и сама знаешь, что я тебе об этом говорю… Вот важнее тебя у меня ничего в жизни и не было…
– Папа, я тебя люблю, – сказала Тамара, опять утыкаясь головой в его колени и стараясь не заплакать.
– Так потому и живу, – рассудительно заметил дед, легонько отталкивая ее, и зашуршал газетой. – Иди, займись делом. Сейчас небось Наташенька придет. Кушать захочет. И твой голодный сидит. Иди, иди, не трать время на меня.
И Тамара пошла заниматься делом – встречать Натку, накрывать на стол, кормить свою семью и ждать звонка Анны. Все было как всегда, и все было не так. Николай, как всегда, молча ел, не обращая внимания на нее и не прислушиваясь к щебетанию дочери, – это было привычно, но сейчас выглядело странным и неправильным: как он мог вести себя, как всегда, после их разговора? Сама Тамара, как всегда, подавала тарелки и убирала тарелки, резала хлеб, заваривала чай, а в перерывах между всей этой мелкой суетой присаживалась к столу, чтобы успеть что-то проглотить, и дать отдых ногам, и ответить на сто двадцать пятый Наташкин вопрос, и опять вскакивала, чтобы отнести деду чай, печенье и виноград и налить Чейзу свежей воды… Как она могла вести себя, как всегда, после их разговора?
После ужина она вымыла посуду, приказала Наташке ложиться спать, а сама стала одеваться, готовясь вывести Чейза на прогулку. В прихожую выглянул Николай, неуверенно предложил:
– Хочешь, я с ним погуляю?
Как всегда…
– Да ладно, – как всегда, ответила Тамара. – Не надо, я уже оделась… Чейз, гулять!
Было уже поздно – одиннадцатый час, наверное, – и во дворе, темном и тихом, никого не было, со стороны улицы изредка доносился шум проезжающей машины, а с другой стороны, из глубины почти не освещенного парка, слышался молодой бесшабашный смех. Кажется, не очень трезвый. Вдруг там что-то хлопнуло, зашипело, и в низких тучах над голыми ветками деревьев расцвел букет разноцветных огней невыносимой яркости. В парке восторженно завизжали, загомонили, захохотали, и Тамара тут же вспомнила прошлый Новый год, и норковую свадьбу у них во дворе, и медленный редкий снег, и свою протянутую руку – «подайте, Христа ради»… Если можно было бы вернуться в ту ночь, она бы думала только о том, что Аня должна быть счастлива. Она ведь и думала только об этом, она не хотела загадывать никакого другого желания – только счастье для Ани. Она ведь предчувствовала, да нет, она точно знала, что Ане понадобится помощь провидения… И она почти загадала желание, почти сказала его вслух, и странная пластинчатая снежинка уже нашла ее протянутую руку, оставалось только высказать свое желание этой снежинке, чтобы она растаяла от тепла слов, и впитала эти слова в себя, и растворила их в мировом пространстве, в космосе… В чем там положено растворяться загаданным в новогоднюю ночь желаниям? И все у Анны было бы хорошо… Тамара невесело хмыкнула про себя. Она знала, что суеверна, что придает слишком большое значение приметам, совпадениям, числам, именам… Знала, что все это – ерунда. Но ей нравилось быть суеверной, ей нравилось придавать значение всей этой ерунде. И за такое к себе отношение вся эта ерунда никогда ее не подводила: приметы сбывались, желания исполнялись, совпадения помогали ей жить… И если бы тогда, почти год назад, она успела загадать желание про Анну, – не было бы у ее доченьки такого тягостного, такого страшного года, не замучил бы ее этот наркоман до полубезумного состояния, не осталось бы у нее в душе выжженной пустыни… Ладно, сейчас все, кажется, налаживается… тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы. Аня оживает, успокаивается, поступила в институт, у нее новые друзья и подруги, похоже, вполне нормальные ребята. Но как же тяжело все это далось! Неполные два месяца замужем за алкоголиком, наркоманом и садистом до неузнаваемости изменили Анну. И дело даже не в том, что от глупой детской доверчивости, от наивной романтической веры в совершенство мира не осталось и следа. Дело в том, что Анна научилась бояться. Сначала Тамара думала, что дочь боится своего безумного мужа, но и после развода она боялась… Чего? Безумный муж исчез, будто его и не было, никто его не видел, ничего о нем не слышал, ничто не напоминало Анне о том, кого она (во имя великой любви, а как же) решила «спасать», – и это чуть не стоило ей жизни. Тамара с огромным трудом и с большими потерями – потому что в страшной спешке – поменяла квартиру, которую они подарили Анне на свадьбу, и теперь Анна жила в другом районе, в другой обстановке, с другими соседями, которые ничего не знали о кошмаре ее замужества, все было другим – кроме оставшегося в ней страха. Тамара знала, что винить себя в этом глупо, но все-таки винила. Вот если бы тогда она не загляделась на странную, неправильную пару, если бы не заслушалась горячим, хриплым, сводящим с ума голосом, – она успела бы выпросить у судьбы милости для своей девочки. Ничего, по крайней мере на этот раз – а Новый год уже скоро, всего месяц ожидания, – она точно знает, что загадать: пусть Анна станет прежней. Пусть даже эта бестолковая щенячья восторженность к ней вернется, только бы исчез этот страх. И скрытность. И недоверие – даже к ней, к родной матери…
Чейз носился по двору, время от времени ныряя в кусты, росшие вокруг детской площадки, подбегал к ней, тявкал негромко, бросался прочь, приглашающе оглядываясь, – что-то он там, в заснеженной песочнице, нашел интересное. Тамаре не хотелось с ним играть, она устала, замерзла и расстроилась от мысли об Анне.
– Чейз, домой, – позвала она негромко. – Пойдем, а то еще простудишься…
Она понимала, что Чейз еще не набегался, и безветренные минус два – это не повод, чтобы запирать бедного пса в четырех стенах, и поэтому почувствовала себя виноватой. Чейз тут же воспользовался ее замешательством: он возмущенно тявкнул, подпрыгнул на месте козлом и помчался куда-то за угол дома, размахивая ушами и расстилая хвост шлейфом. Тамара обреченно вздохнула и потрусила за ним – избалованный вниманием и лаской пес мог запросто кинуться на грудь какому-нибудь случайному прохожему, а тот мог не понять душевного порыва любвеобильной твари и испугаться – или от страха как-нибудь обидеть Чейза. Ну, так и есть: какой-то человек одиноко торчал под фонарем, а Чейз уже носился вокруг него, временами тормозя, припадая на грудь и по-щенячьи с подвизгом тявкая.
– Не бойтесь! – закричала Тамара издалека и побежала к запорошенной снегом фигуре под фонарем. – Не бойтесь, он не кусается! Он очень добрый, просто глупый! Это он вас играть зовет… Чейз, ко мне!
Она была уже рядом, когда человек повернулся, – и она споткнулась, поскользнулась на обледеневшем тротуаре и уже начала падать, когда он подхватил ее, крепко обнял, прижал к себе, почти оторвав от земли, и быстро заговорил хриплым горячим голосом: