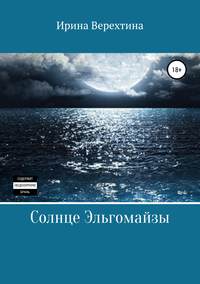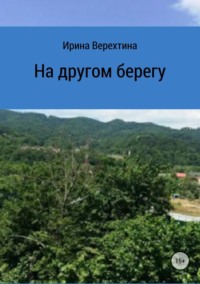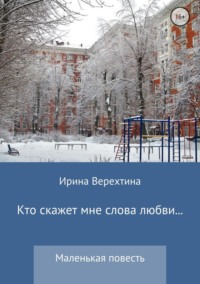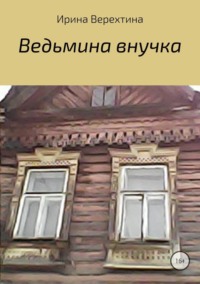Избяной
– Спасибо, доченька, – прочувствованно благодарила свекровь. – фершалка-то как иголку всадит, так охнешь. А у тебя рука лёгкая, я и не чувствую совсем. Вы только в больничку меня не отдавайте, умру ведь там. Не отдашь?
Анна Егоровна пытливо заглядывала в Дашины глаза. И вспоминала, как наговаривала на неё Фёдору, возводила напраслину. А та ей добром платит за зло.
– Что вы такое говорите, мама! Никуда мы вас не отдадим, сами вылечим. Лекарство Федя из города привёз, беспременно помочь должно. Я курицу зарубила, супчик вам сготовила. Линоре тарелку налила, а больше не дам, щами крапивными обойдётся. Она их любит, со сметанкой-то. А вас бульончик живо на ноги поднимет, вот увидите! Фельдшерица сказывала, курятина для больного шибко полезная. Покушайте вот.
Дарья подносила к свекровиным губам деревянную ложку с наваристым бульоном, та послушно открывала рот, бормотала растроганно: «Спаси тебя Христос, доченька».
И наконец пошла на поправку.
На радостях Фёдор переколол и сложил в поленницу дрова, месяц пролежавшие в сарае, сделал сиденье для верёвочных качелей и срубил под корень старый вяз, распилив ствол надвое. На траве остались лежать два суковатых бревна. Невзирая на Дарьин запрет, Линора любила залезать на них и прыгать с бревна на бревно. И допрыгалась. Поскользнулась на мокрой коре и упала лицом на сучок. С подбородка стесало мясо почти до кости.
Дарья, у которой от дочкиного крика темнело в глазах, нашла в шкафу чистый лоскут, смочила водой и густо присыпала порошком стрептоцида. Приладив повязку, туго обмотала девочке голову платком, укачивала на руках как маленькую, утишая боль приговорками: «Уйди-пройди боль со двора, в тёмном лесе заблудись, на болоте сгинь. А коль до леса не дойдёшь да болота не найдёшь, так ступай боль во чисто поле, иди боль на четыре стороны, ищи себе другой дом, другого хозяина. В том дому тебе жить-пировать, спать-ночевать, друзей-врагов наживать. А сюда дорогу забудь».
Под её монотонное бормотание Линора уснула. Спала беспокойно, вздрагивала и всхлипывала. Дарья, у которой от долгого сидения затекли ноги, боялась встать, чтобы её не разбудить. Бородушку ссадила до мяса, хорошо хоть глаза целые остались, спасибо Избяному, уберёг.
На крыльце сидела долго. Потом осторожно поднялась, со спящей Линорой на руках вошла в дом. После солнечного двора сени казались сумеречно-тёмными. Темнота была живой, мохнато клубилась в углах, наплывала под ноги серым облаком. Со свету, оно понятно. Но до чего чудно! Дарья постояла, давая глазам привыкнуть. Через минуту из темноты выступили сложенные в углу кирпичи (муж собрался перекладывать печь, да заболел не ко времени) и окованная железом скрыня – материна память, которую Фёдор вознамерился было вынести во двор, а Дарья не дала, велела поставить в сенях.
К ногам подкатилось что-то чёрное. Может, соседская кошка? Но что ей делать в их доме? Дарья не успела додумать про кошку, как на неё уставились два рыжих глаза. Мигнули и исчезли, а чёрное оказалось кафтаном, из-под которого виднелись две крошечные ножки в чёрных обутках. Ножки просеменили в дальний угол и пропали. Померещилось, решила Дарья. Прижимая к себе Линору, вошла в избу. Свекровь спала.
– Мама, просыпайтесь, на закате ложиться нельзя, ночью спать не будете. Беда с девочкой нашей приключилась, расшиблась на брёвнах-тех, да сильно как!
Дарья бережно опустила дочку на кровать, укрыла одеялом. Собрала на стол, позвала Анну Егоровну:
– Мама, ужинать идите.
Свекровь не отозвалась.
Подошла, тронула за плечо. На Дарью смотрели последним взглядом серые глаза, не упрекая и не укоряя ни в чём. Прощались.
Забыв о спящей Линоре, Дарья опустилась на пол и завыла.
6. Перемены
К началу девяностых в Клятово оставалось тридцать шесть дворов. На стыке двух эпох страна жила в ожидании чего-то нового, неизведанного и пугающего. А здесь, в деревенской дремотной глуши, время текло лениво, принося неспешные изменения, словно выталкивало на берег неповоротливые брёвна-топляки. Пруды обмелели и заросли камышом, рыбу выловили бреднями подчистую, а кормивший всю область совхоз приказал долго жить.
Перемены начались, когда у бывших совхозных земель объявился новый хозяин, коннозаводчик Баяр Джемалов. Непривычное для слуха имя мужики переделали в боярина, не подозревая, как близки к истине (Баяр переводится с монгольского как барин, господин), и за глаза называли хозяина барином, а себя – крепостными. Новый хозяин очистил и углубил пруды, соединил узкими каналами и подвёл к ним протекавшую поблизости мелкую речушку, находчиво изменив её русло.
Деревня надолго лишилась тишины: днём и ночью на прудах шумели землечерпалки, скрежетали гусеницами экскаваторы, натужно ревели самосвалы. Зато для всех нашлась работа, за которую Баяр щедро платил и строго спрашивал. Все жилы из нас вытянул, говорили меж собой мужики. И, переиначив известную поговорку, работали не за совесть, а за страх. Через год деревню окружало полукольцом рукотворное озеро. Купленная на «боярские» деньги и заселённая в него рыбья мелочь подросла, остепенилась и обзавелась потомством. А название так и осталось – Пруды.
Совхозное захудалое стадо «боярин» выгодно продал мясокомбинату, а коровник перестроил в конюшню. Выписал из Туркменистана ахалтекинских скаковых лошадей и в придачу к ним – тамошних конюхов, для которых построил кирпичные дома. Семейные пары жили в отдельных квартирах, неженатые – в общежитии. На бывших совхозных полях колосился овёс, на выпасных лугах зеленели сочные густые травы, а здание совхозного правления, перестроенное на восточный лад, звалось административным офисом.
Конематки и жеребцы содержались в каменных утеплённых конюшнях: летом в них сохранялась прохлада, а в суровые зимы лошади не мёрзли. На открытом малом ипподроме длиной семьсот метров, устроенном перед конюшнями, тренировались молодые рысаки. Двухлетних животных, которым требовалась нагрузка сильнее, переводили на большой ипподром (длина круга полтора километра), расположенный за территорией усадьбы. Через пять лет на конном заводе было сто конематок, а в Клятово насчитывалось пятьдесят дворов. Работы хватало всем. На территории бывшего совхоза «Заря коммунизма» стараниями Джемалова коммунизм был-таки построен – правда, для лошадей. Людям же приходилось трудиться, помня известную поговорку: работа черна, да денежка бела.
– Почем нанялся? – шутили меж собой мужики. – Да в неделю работать семь дней, а спать на себя.
– Рукам работа – душе праздник, – усмехался Баяр.
– Тебе-то праздник… – ворчали мужики себе под нос.
И не знали, чего ему стоило – поднять с нуля конный завод, расплатиться с банками-кредиторами, спать четыре часа в сутки и думать, думать, думать…
Не зря пословицу сложили: если ты думаешь, думай обо всём. Конезавод обошёлся Джемалову в астрономическую сумму:
1. Закрытые манежи для тренинга лошадей в непогоду.
2. Конюшня для кобыл.
3. Конюшня для молодняка до двух лет.
4. Конюшня для молодняка в тренинге от двух до трёх лет.
5. Две «бочки» (круглый манеж диаметром от 15 до 23 метров с ровным мягким грунтом) для обучения молодых лошадей.
6. Манеж для случки кобыл, душ, солярий, кузница, шорная мастерская, раздевалки персонала, технические помещения.
7. Конюшня жеребцов-производителей с индивидуальными денниками, солярием и душем на шесть голов.
8. «Бочка» для жеребцов.
9. Сенохранилище.
10. Хранилище кормов и подстилки.
11. Автовесы.
12. Навесы для автомобилей и сельскохозяйственной техники.
13. Трансформаторная подстанция.
14. Проходная и пункт охраны.
15. Администрация.
16. Два жилых пятиэтажных дома для туркменских конюхов и их семей.
Слух о Джемаловском конезаводе разлетался конским стремительным бегом, на лошадей приезжали смотреть из Москвы и Петербурга, восхищённо цокали языками и расточали похвалы. Выносливые ахалтекинцы с природной широкой рысью приносили своим владельцам победы в профессиональном спорте и стоили заоблачно.
Клятовских мужикиков и парней к лошадям не подпускали, доверили чистить денники и наполнять овсом кормушки. К своим помощникам конюхи-туркмены относились без кичливости, делились секретами ухода за лошадьми. При встрече с деревенскими улыбались и вежливо здоровались. Но клятовские категорически отказывались отдавать за них дочерей. Отношение молодёжи к пришлым было иным: девушки, невзирая на отцовские строгие запреты, засматривались на красивых белозубых ребят, молодых парней восхищало их умение управляться с лошадьми и великолепная джигитовка, а деревенские мальчишки забросили все забавы и днями пропадали на конном дворе, где брались за любую работу, ничего не требуя взамен.
Конюхам хозяин верил как себе самому. На помощников смотрел будто не видел, а мальчишек предупредил, чтобы в загоны не заходили и к лошадям не приближались: укусят или ударят в грудь кованым копытом. Мог бы и не предупреждать: конюхи своё дело знали, кнутом огреют так, что дорогу к конюшне забудешь надолго.
Гостей Джемалов принимал радушно, сам выводил из денника понравившегося покупателю коня. С деревенскими дружбы не водил, при встрече кивком отвечал на приветствие и шёл дальше.
У Баяра был сын, двадцатипятилетний Баллы́, чьё имя переводилось как «медовый» и вполне соответствовало внешности. Клятовские девчата провожали Баллы́ глазами и вздыхали ему вслед, парни вознамерились поучить туркмена уму-разуму – и испытали на себе железные кулаки джемаловских конюхов, которые появились словно из ниоткуда, в несколько ударов уложили всю компанию в придорожную грязь лицом, отстегали кнутами до кровавых рубцов и заставили есть землю.
Клятовские усвоили урок и оставили Баллы в покое. По деревенским улицам он ходил, постёгивая себя по сапогам кожаной плёткой, глядел на всех со снисходительным прищуром и белозубо улыбался в ответ на робкое «здрасте вам». Сына коннозаводчика уважали, пожалуй, сильнее, чем его отца: Баллы от людей не отворачивался, просьбы и жалобы выслушивал не перебивая, а если обещал замолвить о ком словечко отцу, то всегда выполнял обещание. И клятовские получали – кто телегу конского навоза, кто долгожданную работу, кто денег в долг, за которые Джемалов не брал процентов, если их возвращали в срок.
– Ходит, смотрит… А вот спроси у него, чего он ходит? Чего ему надо-то?
– Дак известно чего. Кровь в нём играет – как у папашкиных жеребцов. Девку по сердцу выбирает, всё не выберет никак.
– За него любая пойдёт. Отец-то миллионщик. Будет жить как у Христа за пазухой.
– Кой тебе Христос, чего буровишь-то? Они мусульманы, своему богу молятся.
– Бог-то один, молиться ему всё едино как. А только зря наши девки глаза об него трут. Ему Верка Кожина глянется, глаз положил.
– Как положил, так и сымет. Степан дочку за басурмана не отдаст, видит Бог.
– Что ты про Бога заладил… Решать-то не Бог будет, Баяр со Степаном.
Приметливые клятовские мужики угадали верно: Баллы́ приглянулась четырнадцатилетняя дочка Степана Кожина. А она и не помышляла о любви. Каталась зимой на санках с горы, на Рождество ходила с подружками по избам, распевала колядки и объедалась сладостями, на Ивана Купалу плела венки и, подражая взрослым девушкам, гадала на суженого. И сама о том не ведая приворожила-присушила Джемалова-младшего агатово-чёрными длинными ресницами – такими же, как у отцовой любимицы, жеребой кобылы Дюрли (в переводе с туркменского: жемчужина). Обжигала озёрным холодом глаз, которых не опускала при встрече, как того требовали приличия. Искушала-дразнила губами – по-детски капризными в её неполные пятнадцать лет. «Семнадцать исполнится, присылай к Кожиным сватов» – сказал Баллы отцу. – Калым богатый дам, не откажет Степан, отдаст дочку. Он на деньги падкий, за рублём на пузе поползёт».
Баяр пробовал было его увещевать, мол, люби кого хочешь, а женись на своей. Да где там… Баллы не сводил с Веры глаз, о другой не хотел даже слушать. И не знал, что в своих снах Вера видела не его.
7. Солоно хлебавши
Конезаводчик миллионер, а мы как были нищими, так ими и остались, вздыхали деревенские. Клятовская молодёжь перебиралась на жительство в Котлов. Старики умирали, обветшалые дома продавали на дрова. Половина деревенских изб приобрела статус дач. Старожилы пекли по избам пироги, ходили к соседям гонять чаи с разговорами и смотреть телевизор.
У Офицеровых телевизор цветной, дочкин подарок. А живут одни: приёмная дочь после интерната домой не вернулась, осталась в городе. Получая паспорт, сменила ненавистное имя Элеонора на благозвучное Лидия. Окончила профтехучилище по специальности повар-кондитер и работала в котловском кафе, а по выходным бегала на танцы. Вышла замуж за нескучного паренька и уехала с ним в город с красивым названием Заозёрный, от Котлова за триста шестьдесят километров, а от Клятово за триста шестьдесят восемь. Родила сына и через пять лет развелась, не выдержав мужниного разгильдяйства и пьянства.
Тем летом она отвезла пятилетнего Гриньку к матери в деревню, о чём горько жалела: мальчик сорвался с чердачной лестницы и чудом остался жив. На чердак он залез с ловкостью циркача, а когда спускался, ступенька хрустнула под ногой и сломалась. Повиснув на руках, Гринька соображал: покричать бабушке, чтобы его сняла, или спрыгнуть. Прыгать было страшно. Звать бабушку – ещё страшнее: отругает, что полез куда не надо, да веником по заднице отходит. Так уже было, Гринька больше не хотел. Да и не услышит баба Даша из сарая. А руки уже устали. Гринька зажмурился и прыгнул. И распорол голень о стоящие внизу вилы.
Линора увезла его, орущего, в котловскую больницу, не доверив местной фельдшерице. В больнице укололи обезболивающее, зашили рану и велели прийти через неделю, снимать швы.
Пока не отошёл наркоз, Гринька чувствовал себя героем. Врач ему так и сказал: «Ты у мамки молодец, просто герой!»
Линора думала иначе:
– Ты зачем на чердак полез? Тебе кто разрешил?!
– Никто не разрешил. Баба Даша в сарае была, она не видела. Я уже три раза лазил, я умею. Там ступенька сломатая была, я и упал.
– Сломатая… На чердак лез, целая была, а как спускался, сломалась? Кто ж её ломал-то? Признавайся, что со ступенькой делал? Ногой по ней вдарил али сразу обеими?
– Ничего я не делал, она сама. Я вниз спускался, она ка-аак хрустнет! А я висю и думаю, прыгать или бабу Дашу позвать.
– Чего ж не позвал-то?
– Сарай-то далеко, она не услышит, а я висеть уже устал. Ма, а я правда герой?
– Герой, герой… башка с дырой!
Больше она в Клятово не ездила: не смотрит мать за мальцом, ведь насмерть убиться мог. Злилась на мать, а думала про Избяного. Его рук дело, больше некому. Да и вилы кверху зубьями – кто ж ставит? Мать никогда не ставила.
Сына Линора растила одна. Приёмным родителям, которых искренне считала родными, отправляла посылки и денежные переводы. Сама в деревне не появлялась: боялась не так за себя, как за сына.
А в августе девяносто шестого приехала на пятидесятилетний юбилей Фёдора. Привезла богатые подарки и двенадцатилетнего Гриньку. Дарья не могла насмотреться на внука, угощала черничным вареньем и сладкими стручками гороха. Фёдор смастерил на скорую руку качели, перекинув через толстый берёзовый сук купленную в городе для хозяйственных надобностей крепкую верёвку, и смотрел, как Гринька бесстрашно раскачивается, взлетая выше забора.
По деревне Линора ходила павой и каждый день меняла платья. По выражению Фёдора, мела хвостом. С бывшими подружками вела длинные разговоры и без удержу хвасталась – ассортиментом ресторана, в котором работала поваром; городской квартирой, в которой две отдельные комнаты; сыном, который в свои двенадцать знает английский и мечтает стать разведчиком. На вопросы о муже отмахивалась: «Был муж, да объелся груш. Другого найду. Он себе машину забрал и гараж, а квартира нам с Гринькой осталась, и мебель, и телевизор. Живу как королева, сама себе хозяйка».
Линора хвасталась, подружки кивали и перемигивались: всякая лиса свой хвост хвалит, проворонила мужа и радуется непонятно чему.
Родителям Линора объявила, что останется в Клятово до сентября: у неё две недели отпуска и неделя отгулов. Про отгулы Фёдор не понял: что за отгулы такие, от кого гуляет? Но спрашивать не стал, радовался, что дочь с внуком уедут не скоро.
Оставив Гриньку на попечение матери, Линора проявила живой интерес к джемаловским лошадям и днями пропадала на конеферме, где под присмотром Баллы осваивала премудрости верховой езды. Мимо яблоньки яблочко не падает, шептались деревенские, намекая на Дарью, в свои семнадцать лет опозорившую родителей.
Фёдор, узнав, что Линору видели с Баллы Джемаловым, был вне себя от ярости.
– Ты, Линка, зачем приехала? По конюшне джемаловской хвостом мести? Баллы двадцать шесть, а тебе за тридцать. Он натешится да отвалит, ты поплачешь да уедешь, а нам с матерью каково – гулялово твоё терпеть, соседям в глаза смотреть?
– Гулялово… Слово-то какое выискал. Я, может, замуж выйду за него. Ему на вид все тридцать дашь, а он меня девчонкой считает, не знает, что мне тридцать три.
– Не знает, так узнает. В загс расписываться поедете, он в паспорток твой глянет, а там чёрным по белому циферки: год рождения шестьдесят третий.
– Сейчас можно без росписи жить. Называется гражданский брак, и ничего в этом нет зазорного.
Отец на полуслове замолчал, вспомнив, как прибежала к нему среди ночи семнадцатилетняя Даша, как тащила его за руку на луг и плакала. Не согреши они тогда, Дашу выдали бы за Степана. Так есть ли у него право упрекать свою дочь? Может, с Баллы она будет счастлива?
Нет! – перебил сам себя Фёдор. У них с Дашей не было другого выхода, а у дочки он есть.
Его молчание Линора истолковала по-своему. И глядя с торжеством в отцовские глаза, в которых смешалось раскаяние и сожаление – словно не она, Линора, а он был перед ней виноват – заявила, что она уже взрослая и отчитываться перед ним не обязана.
Фёдор имел с Баллы тяжёлый разговор, из которого узнал, что Линора не девка, а взрослая баба; что Баллы ничего ей не обещал и о свадьбе разговора не было. Сама на него запрыгнула, а он не смог отказать. Баллы так и сказал: запрыгнула, и у Фёдора потемнело в глазах от ярости.
Тем вечером он впервые поднял руку на дочь. Лупил ремнём, не глядя куда попадёт и приговаривая: «В детстве пальцем не трогал, жалел. А не надо было жалеть. Дожалелся. Про тебя частушку уж сложили, не слыхала? Как приехала Линора, наряжалася в обновы, добегала до гумна, с Баллы любилась дотемна!» У частушки был матерный конец, который Фёдор озвучивать не стал.
Линора закрывала руками голову и молча пятилась от отца, а когда пятиться было уже некуда, вжалась в стену, всхлипывала от ударов. Прощенья не просила, знала, что виновата.
Фёдор бил дочь вполсилы. Он же не зверь, он долг отцовский выполняет. Кто же её вразумит, если не отец? Закончив «вразумлять», заправил ремень в брюки и ушёл в сарай. Нашарил в соломе припрятанную от Дарьи бутылку водки и выхлебал до донышка. А утром сел за баранку. И разбил машину, свалившись на ней в овраг и «счастливо» отделавшись сотрясением мозга. Из котловского автопарка Офицерова уволили, за машину присудили выплатить автопарку ущерб в размере её стоимости. Откуда денег взять?
Выручил Джемалов, выплатил штраф целиком, а Фёдора взял на работу трактористом, и теперь тот трудился, отрабатывая долг и не получая ни копейки. Дарья называла Баяра благодетелем, молилась за его здоровье перед Семистрельной иконой Божьей матери, нимало не смущаясь тем, что конезаводчик иной веры.
– Ты ещё за лошадей его помолись, – ворчал Фёдор.
– А и помолюсь! Тебя эти лошадки от тюрьмы спасли. Аль забыл уже?
– Не забыл. А вот ты, видать, забыла, как сынок евойный с Линкой нашей гулеванил. Здоровья ему желаешь. Да чтоб он в землю провалился восемь раз!
– Линора сама виноватая. Сказывала, на лошадей поглядеть пошла, а сама вокруг Баллы отиралась, язык об него обмолачивала.
Фёдор открыл было рот – возразить, как вдруг со двора донёсся отчаянный рёв.
Гринька сорвался с верёвочных качелей и, пролетев через двор, приземлился на живот.
– Долетался, космонавт? Говорили тебе, не раскачивайся шибко, – начала Даша. Гринька перестал реветь и слушал.
– Ты погляди, Дашутка… – Фёдор протянул ей верёвку. – Верёвка-то новая, три дня как повесил, а перетёрлась. Домового проделки. Уезжать надо Линке, и́наче – беда.
– Уезжать. Так она тебе и уедет. Она Баллы окрутить намерилась, замуж за него собралась. А Гринюшка, коли за ним в оба глаза не глядеть, насмерть убьётся или на прудах утопнет, вот – чует моё сердце! Моя в том вина.
– Заладила… Ты-то в чём виновата?
Дарья опустила глаза, не в силах признаться мужу, что все беды в их семье из-за неё. Обижала Избяного, вот и мстит теперь, причиняя боль тем, кого она любит. И ещё в одном не посмела признаться. В любви, о которой Фёдор не знает, и не надо ему знать. И Степан не знает. Горькая она, как рябиновая ягода, последняя-то любовь, Дарья одна её переможет.
* * *
Из привезённого деликатесного мяса со странным названием вырезка Линора решила приготовить медальоны (фр. Filet mignon – маленькое филе, медальон – отрез тонкой части говяжьей вырезки, используется для приготовления деликатесных блюд). Нож неожиданно резанул по пальцам. Дарья перевязывала дочери руку и ворчала:
– Вырезка твоя сама про себя говорит: резать начнёшь, все пальцы вырежешь. Дай-кось, я сама. – И забрала у Линоры нож.
– Гринька где? – Линора бросилась к окну.
Пришла очередь Гриньки, поняла Дарья. Не сводила с внука глаз, стерегла-караулила каждый шаг. И не устерегла-таки. Гринька решил сделать деду подарок – поколоть дрова. Представлял, как дед увидит аккуратную поленницу и спросит: «Кто ж такой умелец, все дрова переколол?» А Гринька ответит: «Это я, деда».
Поленницу Гринька видел в кино, а топор никогда в руках не держал. Встал раньше всех и принялся за дело. Это оказалось непросто: полешки не желали стоять и падали, едва на них опускалось лезвие топора. Гринька придерживал их левой рукой, а правой со всей силы бил топором, стараясь попасть точно посредине. А попал по руке. Топор рассёк мышцу большого пальца, задел кость и чудом не тронул сухожилие.
Через два дня Линора собрала вещи и уехала, расцеловав на прощанье родителей. Гринька бережно держал левой рукой правую, с прибинтованным к ладони мягким валиком и торчащим в сторону большим пальцем, который в котловской больнице зашили и наложили на него шину. Хмуро кивнул деду на прощанье и отстранился, когда бабушка хотела его поцеловать.
Заговорил он, когда такси отъехало от дома.
– Ма, а палец скоро заживёт?
– Скоро.
– А шрам навсегда останется? Как на ноге?
– Шрам останется. Но это даже хорошо, мужчину украшают шрамы. – Линора хотела подбодрить сына, но тот неожиданно всхлипнул.
Проговорил дрожащим голосом:
– Как я теперь разведчиком буду? Меня же по шраму узнают. Ноги-то в брюках, а руки-то голые!
– А ты перчатки носи, – посоветовал шофёр.
Гринька шмыгнул носом и задумался.
– Перчатки зимой. А летом как же?
Настал черёд задуматься шофёру.
– Летом тоже можно носить. Есть такие, из тонкой кожи. Лайка называются.
– Лайка? Собачьи, что ли? Ну, вы скажете… Они же лохматые!
Про собак Гринька угадал, хотя историю не учил, да и не найти такого в учебнике. Сырьём для производства лайковых перчаток в России были когда-то русские псовые борзые. После отмены крепостного права в 1861 году большие барские охоты развалились, крестьяне, получив свободу, в псари не стремились – заплатят за сезон, а дел на целый год, – и собак целыми псарнями сдавали на перчатки. Из них получалась самая тонкая лайка.
– Почему собачьи? – возмутился задетый за живое шофёр. Чёрт его знает, из кого делают эти перчатки…. – Из кошачьих шкурок, наверное, шьют. Или из мышиных.
– Ну, вы скажете… Мышиные я не хочу. И кошачьи не хочу, – заявил Гринька.
– Лайковые перчатки шьют из козлиной кожи, – подала голос Линора.
– А козлу больно, когда с него кожу снимают? Он кричит? – спросил Гринька.
Шофёр крякнул. Вот же садист малолетний, додумался.
– Его убивают сначала. Потом кожу снимают, – спокойно сказала Линора.
– Тогда всё окейно, – согласился мальчишка.
– Что – всё?
– Что убивают.
Шофёру такси изрядно надоел этот странный для двенадцатилетнего мальчишки разговор. Парню, похоже, не повезло: перелом большого пальца самый опасный. Если бы мизинец сломал или указательный, это ещё ничего. А так – будут проблемы с подвижностью кисти. Сестра шофёра работала в больнице хирургической медсестрой, и о переломах он знал всё.