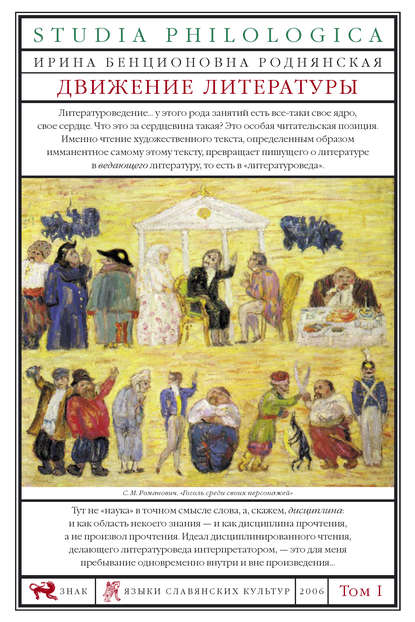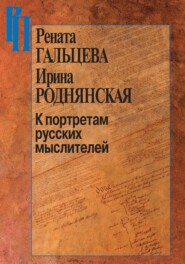По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Движение литературы. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это колоссальная тема, которую я не берусь здесь даже наметить; коснусь только ее непосредственных проекций на общественную жизнь. Для начала приведу слова Г. Чулкова, русского литератора Серебряного века, написавшего в 20-х годах несколько отличных историко-литературных статей: «Достоевскому до конца дней не хотелось расставаться с надеждою, что рано или поздно, но человечество разрешит социальную проблему в духе справедливости, без утраты той свободы, которая для личности так же необходима и желанна, как хлеб насущный».
В Мертвом доме Достоевский открыл для себя то, к чему подходил еще до каторги – и в «Бедных людях», и в «Двойнике», и в «Хозяйке»: что и высочайшие взлеты, и самые глубокие падения человека происходят из одного корня – из чувства абсолютной личной ценности или, что одно и то же, из чувства свободы, которое бурлит в человеке наподобие вулканической стихии и, стиснутое или извращенное обстоятельствами, способно разрушить мир. Истребить это чувство в душе человеческой невозможно, не истребив ее самое (мечты «великого инквизитора» о превращении человечества в питомник существ, променявших риск свободы, экзистенциальную необеспеченность на беспечную сладость стабильности, мечты эти несбыточны, хотя и опасны). Но можно это чувство свободы зарядить положительно, «обра?зить» (народное словечко, подслушанное Достоевским у каторжников), ввести в русло любви и добровольной жертвы. И это путь личного примера, обаяния жгущей сердце нравственной, духовной красоты, путь участливого и бережного уважения к падшему, путь подражания Христу, каким идут избранные на служение «положительно прекрасные» герои Достоевского: князь Мышкин, Алеша Карамазов, «русский инок» Зосима; подобно Тому, Кому они подражают, они ничего не меняют во внешнем устройстве мира, но вносят в него новую закваску, которая, при видимости первоначального поражения, в конечном счете переменит мир исподволь.
Но, повторю, особая сила Достоевского – не столько в этой положительной, сколько в отрицательной апологетике: безусловная ценность свободы – ее вырождение в тираническую самость – мобилизация этой самостью энергии социального недовольства для подавления чужой свободы, – вот диалектический ход, прочерченный Достоевским, вот чему противопоставляется «великое дело любви», возвращающее свободе ее собственную сущность.
Всякий раз эта трагедия самоотрицания свободы совершается не в пустоте, а в социальной среде, по определению несовершенной и более или менее порочной, так что грех личной воли подпитывается грехами социального окружения. «Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся – нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности».
Эти слова написаны Достоевским в 1861 году, и советую всякому, кто хочет углубиться в мысль писателя о природе личности, обратить особое внимание на его произведения 50-х – первой половины 60-х годов – от «Дядюшкина сна» и «Села Степанчикова» до «Записок из подполья». (Одновременно Достоевский развивал программу почвенничества на страницах издаваемых им совместно с братом журналов «Время» и «Эпоха»; между художественными произведениями и публицистикой этой поры есть важные соответствия, к чему я еще вернусь.)
Одному из глубоких исследователей писателя Б. Энгельгардту принадлежит применительно к основным созданиям Достоевского определение: «идеологический роман». М. М. Бахтин не отверг эту дефиницию, а принял ее с той поправкой, что Достоевский выступает не пропагандистом, а портретистом идей, идеологий. Примем это определение как рабочий термин и мы. Так вот, можно сказать, что большим «идеологическим» романам Достоевского предшествуют его малые «антропологические» (человековедческие) романы и повести. В центре их – амбициозная личность с искривленным, извращенным чувством своего достоинства. Это «поэты» бытового авантюризма – как госпожа Москалева в «Дядюшкином сне», и «поэты» тиранства – как Фома Опискин, мировой тип, созданный Достоевским. Поэт здесь очень важное слово – иначе говоря, тот, кто пытается перекроить мир не заради частной выгоды, а по мерке своего хотения, во имя выгоды «бескорыстной» – воли к власти. От Опискина идет прямая дорожка к героям «Бесов»; вспомним, что Петруша Верховенский – «энтузиаст» в том самом смысле, в каком Фома – «поэт»: ведь тот же Фома на своем усадебном островке, в своей Икарии предвосхищает шигалевский эксперимент, рассчитанный в масштабе континентов, вводя все в таких случаях положенное, вплоть до раздачи новых именований и реформы календаря. Антропологическая тайна Фомы раскрывается в словах, сказанных о нем одним из персонажей «Степанчикова»: «Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может».
Затем, вслед за поэтами тиранства, это категория лиц безудержных, «выскочивших из мерки», внезапно извергающих из себя сдавленную обстоятельствами энергию своеволия. «На время человек вдруг выскакивает из мерки», – говорится у Достоевского об иных узниках Мертвого дома, которых в состоянии такого экзистенциального бунта не могут остановить уже ни угрозы, ни увещевания, ни истязания. Неуправляемость этого рода присуща, по наблюдениям Достоевского, чаще простолюдину («Да простого-то человека я и боюсь!» – говорится у него в «Селе Степанчикове»), но она схватывает и тонко играющего мыслью, блистательно рефлектирующего героя «Игрока»: «Просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут», – с полным основанием говорит о себе этот интеллектуальный представитель «русского безобразия», столь богатого возможностями, но столь опасного в своей безбрежности.
Это – еще одна категория – и самовлюбленный прожектер-теоретик, герой «Скверного анекдота», администратор с либеральными фантазиями, которые при столкновении с неподатливой жизнью он немедленно отбрасывает и, согласно многократно описанной Достоевским диалектике перехода умозрительного либерализма в деспотизм, обращается к рецепту: «Строгость, строгость и строгость». Это, наконец, подпольный рефлектер-парадоксалист, который восклицает о себе: «Я не могу… мне не дают быть добрым!», – потому что его уязвленная самость непрерывно болит и безуспешно алчет утоления через попрание другого человеческого «я».
Все эти герои, включая человека из подполья, играющего идеями, но не придавленного ни одной из них, – все они существа еще не идеологизированные. Они только безосновные существа. «Где у меня первоначальные причины, на которые упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» – недоумевает и жалуется подпольный. Их своеволие, не получая никакого внутреннего оформления и обуздания, не ведая ничего о радости самоограничения и самосовладания, беспорядочно вырывается наружу и выбирает случайных жертв своего деспотизма.
В «Записках из Мертвого дома» Достоевским сказаны страшные слова, страшные именно в качестве общественного прогноза. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке». Меня всегда, как только я натыкалась на эту фразу, поражало в ней слово «современный». Разве – если уж доверять преданию о грехопадении, которому, без сомнения, следует Достоевский, – эти свойства не находятся в «зародыше» в человеке любых времен, начиная с Каина, из зависти погубившего брата своего Авеля? Но теперь, как мне кажется, я понимаю, что хотел сказать Достоевский этим тревожным словом. «Современный человек» – значит, человек, покинувший вселенную христианства, отданный на съедение своей обособившейся самости, понизивший свое личное достоинство от подражания абсолютной личности Христа до голого самоутверждения и похоти властвования. Такой «современный человек», не имеющий внутреннего упора и точки соединения с другими людьми, – он, впрочем, «палач» лишь в зародыше, в потенции, в возможности. Но возможность становится действительностью, как только в его внутреннюю пустоту вселяется «скверная трихина» идеологической агрессии и замещает отсутствующие онтологические основания. Те палаческие свойства, которые доселе бессознательно дремали «в зародыше», отмобилизовываются и преобразуются в законопреступное деяние…
До сих пор в нашей и мировой науке о Достоевском идут споры: что толкнуло Раскольникова на путь палача – самоутверждение, презрение к обыденной морали (под которое тоже можно подвести идеологическую – штирнеровскую либо наполеоновскую – базу, но которое, в сущности, в такой базе не нуждается, ибо Достоевский оставил портреты подобных «сверхчеловеков» из простонародья тоже) – или же чисто идеологическое убеждение, что во имя социальной справедливости можно пренебречь жизнью вредной и никчемной старушонки. Но в том-то и секрет, раскрытый Достоевским, что здесь нет никакого «или – или», что самоутверждение Раскольникова («Я для себя одного убил!») и идея, дозволяющая ему «кровь по совести», взаимно индуцируют и подкрепляют друг друга, что вместе с внедрением такой идеи-трихины падает последняя, совестная преграда между экспансионистским «я» и миром как объектом его притязаний.
Достоевский жил уже в век идеологий (по мнению некоторых историков идей, мы отпраздновали двухсотлетие этого «эона» вместе с юбилеем Великой французской революции). И он понял, что защита человеческой личности от тирании чьего бы то ни было взбесившегося «я» есть одновременно защита ее от идеологической атаки. Задатки палача переходят, согласно его антропологии, в задатки диктатора и совпадают с задатками доктринера.
Достоевский предупреждает, что на лицо человеческое могут наступить две идеологии, всходы которых он наблюдал вокруг себя. Это идеология перекройки человечества «по новому штату» – и идеология «золотого мешка», «идея Ротшильда», как она названа в «Подростке». Замечу сразу, что последняя для Достоевского – не просто практическая власть денег, не просто явление социальной жизни или черта нарождающейся в России экономической структуры, а именно идейный принцип, на свой лад обосновывающий волю к власти. Деньги как мистический фетиш, как символ господства над жизнью и честью человеческой (а вовсе не как источник благ, роскоши, наслаждений или деловых инициатив) фигурируют в четырех из пяти больших романов Достоевского и не играют сколько-нибудь заметной роли только в «Бесах», как бы уступая натиску другой мощной идеологической заразы.
Скажу тут же, чтобы больше к этому специально не возвращаться: страх Достоевского перед тем, что принято называть развитием товарно-денежных отношений (помните апокалиптического всадника, о котором толкуется в романе «Идиот»: в руке у него весы, все меряется и оценивается, идет на обмен, на продажу, и это значит, что конец близок), – не кажется ли этот страх сейчас преувеличенным? Это была роковая мания русской мысли – от Победоносцева до народников, от петрашевцев до Блока: «отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана», «век буржуазного богатства, растущего незримо зла» и пр., лучше, дескать, что угодно, чем это. В записных тетрадях Достоевского можно обнаружить даже такое: «купец есть лишь развратный мужик» – явная несправедливость к русскому купечеству в его экономической и культурной перспективе. Впрочем, мысль Достоевского, в поисках противоядия Ротшильдовой идее, никогда не соскальзывала к утопическому отрицанию собственности. От этого предостерег его опыт Мертвого дома, где лишение свободы («А чего не отдашь за свободу?» – восклицает повествователь «Записок из Мертвого дома») и лишение собственности стояли рука об руку как две стороны одной и той же пытки. «Без труда (имеется в виду свободный, не принудительный труд. – И. Р.) – и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя» – слова из тех же «Записок…». Острый практический толк Достоевского (а его «идеализм», как он сам понимал, бывал реальнее «реализма» его оппонентов) вкупе с его метафизическим чутьем подсказывали ему корректирующий противовес развитию промышленности и банка, буржуазному Хрустальному дворцу, виденному на всемирной промышленной выставке в Лондоне и оставившему гнетущее впечатление. Выход этот – земля.
Достоевский настаивал, что в основе могущества и процветания любого общества лежит правильное землевладение и землепользование. В подкладке этой идеи – мистическая интуиция Матери-Земли как олицетворения мировой красоты, мира в его райском состоянии, интуиция, которую последующая русская философия назовет «софийной». Но сейчас нас интересует общественная сторона высказанного Достоевским воззрения. Будущее удостоверило его справедливость, – недаром экономисты всего мира называют аграрный сектор «сектором А», то есть началом начал. Но этого мало. До сих пор по достоинству не оценена мысль Достоевского, высказанная им в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, – о поголовном семейном землевладении. Эту мысль Достоевский решился вложить лишь в уста вспомогательного персонажа-собеседника из «Дневника» – некоего Парадоксалиста, до того была она непривычна. Для нравственной устойчивости и физического здоровья грядущих поколений, для обезврежения эксцессов индустрии и урбанизма, утверждает Парадоксалист, дети, все дети, всегда «должны родиться на земле» («я землю от детей не розню»); своя землица, место, где воспитываются дети, где можно восстановить силы души, должна быть у каждого. Промышленность, торговля, город – все обретает свои рамки, если вписывается в эти угодья, скорее рекреационные, нежели сплошь производящие продукцию (ведь при интенсивной агротехнике произойдет высвобождение земель – добавлю от себя, чтобы продемонстрировать, что мысль Достоевского не утопична и не ретроградна). Это не толстовская идея опрощения и хождения за сохой, это, на мой взгляд, идея будущего. От феодального замка – через Хрустальный дворец индустриального города-Вавилона – к будущему Саду, – такую триаду начертал Парадоксалист Достоевского. Нужно ли напоминать, что именно мы, а не страны Запада, сделали все, чтобы отдалиться от этой перспективы? Здесь я не буду говорить о том, что Достоевский представлял себе производительное крестьянское землевладение именно как общинное, и был ли он прав, защищая сельский «мир» как устой против капитализации. Думаю, что он тем не менее принял бы столыпинскую реформу, если б дожил до нее. Но дело здесь в принципе – в конкретном всеобщем праве на землю, на любовь к ней и сбережение ее в доставшемся каждому уголке.
Вернемся, однако, к другой массивной идеологии, от которой Достоевский хотел уберечь личность, общество, целость народа. Я уже указала на нее самой общей из принадлежащих Достоевскому формул: «переделка человечества по новому штату», – намеренно не конкретизируя, что речь идет о политическом радикализме, или (что то же), как определял сам писатель, – о «политическом социализме». Дело в том, что означенная идеология шире ее экстремистских, кровопролитных проявлений. Это идеология тотально-административная. (Собственно, и монолог великого инквизитора можно истолковать как манифест тотального администрирования, исходящий из ложного или намеренно клеветнического представления о рабской природе человека.)
Конечно, «кровь по совести», кровь неповинных жертв, проливаемая ради будущего блага, рецепт коего доподлинно известен тому, кто санкционирует кровопролитие, – это, не знаю – самая ли страшная, но очень страшная составная часть идеологии перекройки жизни. В связи с известным диалогом между Иваном Карамазовым и его братом Алешей у исследовательницы Достоевского В. Ветловской есть специальная работа о присутствующей здесь мифологеме «строительной жертвы» – невинного существа, закланного под фундаментом нового здания (вспоминается, конечно, и «Котлован» Андрея Платонова). Исследовательница приходит к выводу, что Иван Карамазов, заведший об этом речь, был масоном, и притом высокой степени посвящения. Не думаю, однако, чтобы здесь непременную роль играл намек на некие обряды масонства, ибо Достоевского нравственная дилемма безвинной жертвы волновала изначально, а не как характерный поворот мысли романного персонажа. Вот запись, относящаяся к середине 70-х годов – о Людовике XVII, сыне казненной королевской четы, которого, замечу, те революционеры все-таки не убили, а отдали на воспитание какому-то ремесленнику, чтобы тот сделал из него «хорошего гражданина». Уже после Термидора он оказался в тюрьме и умер десятилетним. «В идеале, – пишет Достоевский, подчеркивая слово «идеал», – общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если наше спасение зависит лишь от замученного ребенка, – и не принять этого спасенья. Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та. Логика событий действительных, текущих, злоба дня не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни». Другими словами: порой течет кровь невинных – вопреки голосу общественной совести, из соображений «общей пользы», ибо общество человеческое греховно и несовершенно, оно идет на сделки с совестью, но разрешить по совести литься этой крови – значит утратить «дух жизни», «начало жизни». Вот вывод Достоевского, вот его предупреждение живым, чтобы те не стали духовными мертвецами.
Именно с этим выводом, считая его «реакционным», откровенно и без оговорок спорили в 20-х годах, когда куражу было больше, а лицемерия меньше, чем десятилетия спустя. Видный марксистский критик Г. Горбачев тогда писал: «Достоевский в беседе Ивана с Алешей допускает одну софистическую подмену аргументации: Иван спрашивает Алешу, может ли последний замучить маленького ребенка, если это нужно для всеобщего счастья. Получается естественный ответ: нет. Нет, – так категорично потому, что нервы не выдержат, конечно. Но реально вопрос так не стоит. Мы знаем, что капитализм проституирует, морит голодом, замучивает в диких погромах и убивает бомбардировкой городов миллионы детей. Потому, если революционные снаряды случайно ранят и обрекут на мучительную смерть тысячи детей или революционные декреты дадут повод для провокации лишнего погрома, то революция на это идет, и она права». Больше всего пугает в этом людоедском пассаже слово «тысячи». Не «единичному» ребенку, для примера, для доказательства мысли, предоставлено погибнуть, и не о неопределенном, риторическом, так сказать, «множестве» детей идет речь, а расчетливо скалькулированы именно «тысячи», противопоставленные умозрительным «миллионам» как выгодный, утешительный баланс. Можно было наперед сказать – а впереди был год великого перелома, ибо писалось это в 1925-м, – что тысячами тут не обойдется, ибо «дух жизни» покинул так говорящих и рассуждающих и они станут сеять смерть в масштабе, не ограниченном первоначальными выкладками.
Однако, быть может, еще страшней, чем кровавая цена, которую готовы уплатить идеологи тотального распорядительства за свое право командовать, – еще страшнее их всемерная опека над человеческой волей. Порабощение совести ужаснее крови по совести, как о том свидетельствует Поэма «Великий инквизитор». Достоевский умел сводить в один пучок разноречивые заблуждения и превратные идеи своей эпохи. У него была неосознанная догадка, что все, по видимости противоположные, разновидности идейного зла должны иметь общий корень в отрицании высшего, божественного, абсолютного значения человеческой личности. Так, в уста князя Валковского из «Униженных и оскорбленных», этого первого цинического идеолога безбожной вседозволенности, Достоевский вложил доводы и парадоксы, восходящие и к разумному эгоизму Дидро, и к утилитаризму Бентама, и к волюнтаристическому эгоцентризму Штирнера, и к пессимизму Шопенгауэра. То же самое можно сказать и о его критике административного синдрома. (Достоевский-мыслитель вообще занят выявлением синдромов, в которых сплетается многое несоединимое с точки зрения отвлеченного схематизма.)
У Достоевского, мастера слова-эмблемы, вбирающего в себя целый круг ассоциативных значений, есть словечки «казенщина» и «острог». И вот, эти слова связываются у него и с централизованным административным аппаратом из четырнадцати классов, созданным Петром I и вытеснившим ростки «земщины», самостоятельного местного управления («Государственная центральная идея у нас пересолила, через норму перешла <…> завела дружину для самосохранения, то есть чиновников, прежде же оно свободно относилось к народу и земского собора не боялось». – Из наброска 60-х годов). Те же словечки прилагает он и к «либеральным деспотам», желающим, чтобы народ просвещался точно по их указке, соответственно их сиюминутным представлениям о том, что есть «наука», а что – отживший предрассудок. Говорит он и о «красненькой казенщине» тех радикальных публицистов, которые точно знают, какой хирургической операцией они осчастливят народ, не спросив у него на это, разумеется, согласия. Все это – острог, острог! – символ предельной несвободы, жизненно выстраданный Достоевским в реальном остроге.
Достоевский часто повторял в ответ на упреки в ретроградности, что он куда либеральнее записных либералов. И, надо сказать, был прав. Памятником подлинно либеральной политической философии остается его публицистика почвеннического периода, в сравнении с «Дневником писателя» еще недостаточно оцененная: такие великолепные, будто сегодня написанные статьи, как «Г-н – бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Два стана теоретиков». Идея почвенничества, как известно, заключалась в том, чтобы у интеллигенции, у образованного слоя, прошедшего европейскую выучку, но не удовлетворенного ею, и у народа, сохранившего сокровище христианской веры, но, по бедности и забитости своей, носящего «звериный образ», – чтобы у них нашлась точка схождения. Чтобы интеллигенция без высокомерия и предубеждения отнеслась у духовной копилке народа, а народ без опаски стал приобщаться к тем сторонам новейшего просвещения, которые органически для него приемлемы. Прекрасно, но в чем же тут либерализм, почитание свободы? В том, что Достоевский всеми силами пытался предупредить идейную диктатуру немногочисленного образованного слоя над огромной народной массой. Он хотел, чтобы просвещение, образование не превращалось в руках тех, кто держит от него ключи, в орудие – говоря современным социологическим языком – индоктринации, то есть в натаскивание, целевое программирование сознания масс. (Заметим, что такова задача всякой государственной школы, начиная с бисмарковской эпохи «культуркампфа»; в особенности же – нашего ликбеза и всеобуча 30-х и далее годов.)
Особенно наглядна, особенно бескорыстна эта забота Достоевского о духовной свободе народа, когда он спорит не с радикальным «Современником» (в этом случае можно еще подумать, что он отстаивает не только свободу как таковую, но по преимуществу свои политические взгляды), а когда разбирает, например, невиннейшую книжку для народа, некий «Читальник», изданный благонамеренным литератором Щербиной. Тут-то, в блистательной статье «Книжность и грамотность», Достоевский показывает, как, исходя из лучших побуждений, мнимолиберальный составитель учреждает опеку над сознанием читателя из народа, регламентирует его любознательность, унизительно подчеркивает его предполагаемую инфантильность, дает ему грубо адаптированные и предвзято сгруппированные обрывки сведений и вдобавок предлагает распространять в народе эту – как он сам догадывается – скучную и нежеланную книжку административным путем, говоря по-нашему – «в нагрузку». «Свобода! Свобода на первом месте! Зачем же навязывать?» – восклицает Достоевский. И рядом стоит фраза, исполненная глубокого философского смысла: «Не любит народ таких учителей, прямо становящихся перед ним его воспитателями и владетелями-просветителями». Двумя последними, им же подчеркнутыми, словами Достоевский предвосхитил своеобразное открытие XX века: что системы теоретизирующей мысли могут становиться системами идеологического господства («открытие» это принадлежит французским «новым философам», прошедшим через опыт майских событий 1968 года, и выражение «владетели-просветители» может показаться цитатой из какого-нибудь их сочинения).
Что хочет сказать Достоевский, различая «книжность» читальника Щербины и «грамотность», которую он сам желал бы нести народу? Ну, во-первых и в-главных, то, что грамотность – это своего рода технология образованности, а не содержание ее. В народном сознании присутствует собственное ценное духовное содержание; грамотность позволит его выявить, и оно принесет свой плод в русской культуре; книжность же может его подавить. «Спросим у народа», – до конца дней любил повторять Достоевский. Но пока народ темен, безграмотен – он и безгласен, он, в частности, не в состоянии сформулировать свой политический ответ на запрос к нему правительства ли, интеллигенции ли. Дать ему грамотность значит дать ему язык для участия в общественном и политическом процессе. Дать ему книжность значит подменить его ответ своим собственным. Вышеупомянутый рапповский критик называл такое почвенничество «реакционным демократизмом»; простим слово «реакционный», произнесенное в виде хладнокровной дефиниции, и согласимся: это, действительно, демократизм.
И еще – из того же критика: «Протестующее против барского “европеизма” сороковых годов народничество Достоевского было окрашено в цвета подчеркнутого благоговения не только перед интересами, но и перед мнениями народа». Опять-таки все верно, но еще важней добавить: этот подчеркнутый пиетет относился не только к существу народных мнений, но, быть может, в наибольшей степени – к самому праву их иметь. Как раз не потому ли демократизм Достоевского кажется весьма недемократичному критику таким реакционным?
Затем, различая книжность и грамотность, Достоевский высказывает серьезную педагогическую мысль, которая у нас только недавно стала пробивать себе дорогу как противодействие повсеместной выработке – через школу – управляемых конформистов. Человека надо учить, помимо суммы сведений, навыкам самостоятельного приобретения знаний в дальнейшей жизни – человека надо учить учиться, это и есть грамотность. И, наконец, последнее: «По-нашему, уж если человек образован, то он получил нравственное развитие, по возможности правильное понятие о зле и добре. Следственно, он, так сказать, нравственно вооружен против зла своим образованием <…> владеет для отражения зла средствами несравненно сильнейшими…» Достоевский волнуется об истинном просвещении народа, чтобы злу трудней было воспользоваться его легковерием.
Как видим, мысль Достоевского была занята поисками того, чего и посейчас ищет мысль любого ответственного российского деятеля, а именно – «царского пути» между устройством общества на основе политического рынка интересов и устройством общества на основе принудительного единодушия. Так сказать – между идеей взаимной уживчивости из голого чувства самосохранения и идеей ребяческой послушливости великому инквизитору. Владимир Соловьев свидетельствует, ссылаясь на беседы с Достоевским во время их совместного путешествия в Оптину пустынь, что общественным идеалом Достоевского была Церковь. Иными словами – соборное согласие в любви, при котором не нужны ни государство, ни казни, ни состязание прав, ни ограждение имуществ.
Едва ли не у всякого тут готово сорваться с языка восклицание: «очередная утопия!» Но не торопитесь с приговором: Достоевский – не утопист хотя бы потому, что, в его понимании, этот идеал и бесконечно близок и бесконечно далек. В сущности, его «золотой век в кармане» (так, напомню, называется одна небольшая главка из «Дневника писателя») – шутливый парафраз евангельского изречения «Царство Божие внутри нас». Это так просто и так внятно сердцу, что каждый должен чувствовать вину за то, что этого до сих пор не исполнил и, значит, напрямую ответствен за общее неблагополучие мира («все за всех виноваты»). Но вместе с тем такой идеал совместного бытия бесконечно далек – невместим в границы исторического времени, потому что «психически повернуться» к любви – дело, как говорит старец Зосима, «жестокое и устрашающее» и его исполняют до конца только немногие, одолевшие свою самость и обретшие подлинную свободу в добровольной жертве собственным «я». Так что «золотой век» и в кармане, и в дальней дали; это не утопия, которая всегда есть проект и организационная инструкция к нему, а путеводная нить, не требующая никаких специальных «мер» и даже несовместимая с такими мерами: «идеал гуманности <…> без всяких предварительных проектов и утопий», выражаясь словами самого Достоевского.
Чего же, в свете этих убеждений, хотел и ждал Достоевский от своей родины, от России? Прежде всего, относительно всякой национальной общности он полагал, что такая общность складывается обязательно вокруг самобытной идеи, скрепляется духовным импульсом, а не только, скажем, кровно-биологически или территориально-географически. (Эту мысль на свой лад развил Л. Н. Гумилев в его теории о пассионарном периоде формирования этносов.) На вопрос же о том, какова «русская идея», Достоевский с убежденностью отвечал: «В судьбах православного христианства вся цель народа русского». От этих «судеб» не отделял он, как мы уже видели, и мечту об общественной гармонии. Чаемую социальную проекцию православия он даже именовал иногда «русским социализмом» – антиутопическим и свободным. Русский народ с его, как считал Достоевский, свойствами всечеловечности и всеотзывчивости (мыслитель нигде, по-моему, не уточняет, являются ли эти качества плодом многовекового православного воспитания народа или, наоборот, родовыми особенностями его психического склада, предрасположившими его к усвоению христианства; думаю, Достоевский сказал бы, если б его спросили, что и то, и другое сразу), – так вот, русский народ с его всечеловечностью и всеотзывчивостью призван нести эту идею миру. Она как незамутненная весть о братстве придет на смену идеям католической и протестантской. Россия не перечеркнет, но довершит, «окончит», по слову Достоевского, дело старой христианской Европы, где свет христианства, как ему казалось, меркнет из-за властолюбивых уклонов католичества и порожденного этими уклонами посева вражды в виде протестантизма и западного социализма.
Тут, понятное дело, не все обстоит гладко. Не предлагал ли Достоевский как путь к торжеству заветной «русской идеи» геополитическую утопию славянской «православной империи», державной силою несущей миру свой социальный замысел? Не твердил ли он, что ради этого во что бы то ни стало «Константинополь должен быть наш», не заявлял ли – в смысле территориальном: «что православное, то русское?» Все так, и если был у Достоевского срыв в утопическое прожектерство, в утопическое нетерпение с сопутствующим ему допущением деспотизма и несправедливости, то это случалось именно тогда, когда он соблазнялся геополитикой как средством, служащим целям духовным. Но все же не тут пролегал магистральный путь общественной мысли Достоевского, который завершился событием Пушкинской речи и заветами «Братьев Карамазовых».
Если кратко подытожить суть общественной проповеди Достоевского, то можно сказать, что это проповедь самоотверженного индивидуального почина, преобразующего социальную среду, так сказать, из глубин совести. Или еще короче: это проповедь «первого шага». Подчеркну снова, что Достоевский не зовет прочь от общественной жизни, в приватное душеспасительное дело, которое его оппонент справа Константин Леонтьев не без вызова называл христианским «трансцендентным эгоизмом». Равным образом не совпадает он с асоциальностью толстовства, ограничивающегося отстранением от зла, этикой неучастия. Он говорит об общественном действии, об общественном служении. Но таком, которое начинается с преображения собственного сердца и затем исподволь привлекает другие сердца – подобно тому, как Алеша Карамазов в финале последнего романа Достоевского привлек сердца мальчиков и объединил их в Илюшечкину общину. Это путь органический, путь той самой евангельской закваски, от которой должно со временем вскиснуть и взойти все общественное тесто. Он противопоставлен у Достоевского и административной утопии, и кровавому срыву истории, о котором Достоевский пророчествовал: «злой дух близко…»
Насколько писатель был уверен в единственной правомерности такого пути, можно судить по тому, что свою идею неприметного «первого шага» он повторял неустанно. В 60-е годы он пишет: «А ведь в способности и уменьи сделать первый шаг и заключается, по-моему, настоящая практичность и деловитость всякого полезного деятеля». И еще тогда же: «Первый шаг есть всегда самое первое и самое главное дело». В 70-е годы, описывая в «Дневнике писателя» воспитателя детской колонии, он замечает: «Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина» («комический тип» – конечно, в том же смысле, в каком комичен князь Мышкин, прослывший «идиотом»). Или – с другого конца: «… иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, непрактичною, идеальною и смешною, но всегда найдется такой член ареопага или “женщина именем Фамарь”, которые еще изначала поверят проповеднику и примкнут к светлом делу… И вот маленькая несовременная и непрактичная “смешная идейка” растет и множится и под конец побеждает мир, а мудрецы ареопага умолкают». «И выходит, – привожу знаменитые, часто цитируемые слова, тоже из «Дневника писателя», – что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей».
А в чем «тайна первого шага»? Достоевский отвечает: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтоб под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином… Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде – и вот что самое важное! <…> А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага». Главка из «Дневника писателя за февраль 1877 года, откуда взяты эти слова, называется «Русское решение вопроса».
Проповедь «первого шага» – это проповедь движения неспешного, терпеливого, иногда как бы не в ногу с угрозой гибели, которая ждать не станет. Ведь вот Достоевский советовал все это, когда, по его же словам, «приготовлялись сроки чему-то вековечному, тысячелетнему» и вся Россия стояла «на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». И впрямь, скоротечные, взрывные процессы встряхнули и сбили опару, не дали закваске взбродить, обогнали и заглушили его проповедь, хотя она и имела влияние на молодое поколение. Тем не менее это не должно смущать. Первый шаг – то, что зависит от человека, от его доброй воли. Остальное не в его власти. Нужно делать то, что зависит от нас. Чрезвычайные меры – всегда проективные, а «первый шаг» – творческий. В обоих случаях, правда, человек одинаково не знает, к чему его действие приведет. Но первое сулит ему неожиданность разочарования, ибо реализованная задачка обыкновенно не сходится с запланированным ответом. А второе – неожиданность роста, развития; в семени заключено целое дерево, но оно не похоже на семя, из которого вырастает, и в этом – Нечаянная Радость.
«Белая лилия» как образец мистерии-буфф К вопросу о жанре и типе юмора пьесы Владимира Соловьева
Памяти Александра Носова
О смехе Владимира Соловьева столько наговорено, что хватило бы на целую антологию с физиологическим, психологическим и метафизическим разделами. А. Ф. Лосев в своем прощальном труде о Соловьеве выделяет этот смех как самостоятельную проблему и дает ему поистине апофатическое определение: не-, не-, не-. «Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию… Это не смешок Сократа, стремившегося разоблачить самовлюбленных и развязных претендентов на знание истины. Это не смех Аристофана или Гоголя, у которых под видом смеха крылись самые серьезные идеи общественного или морального значения. И это не романтическая ирония, когда у Жана Поля (Рихтера) над животными смеется человек, над человеком – ангелы, над ангелами – архангелы, а над всем бытием хохочет абсолют, который своим хохотом и создает бытие и его познает. Ничего сатанинского не было в смехе Вл. Соловьева, который по своему мировоззрению – все-таки проповедник христианского вероучения. И это уже, конечно, не комизм оперетты или смешного водевиля. Но тогда что же это за смех?»[131 - Лосев А. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 649–650.]
Однако, если перейти от «апофатики» к «катафатике», радикальное «не» раскрывает себя на деле в целом ряде положительных «и», «и», «и», не совмещаясь полностью ни с одним из определений:
«… Детский, иногда неудержимый смех с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами – смех человека с чистой совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенной свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья» (биограф Соловьева В. Л. Величко).
«… Ехидный смех, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым» (он же).
«… Этот его смех, странный, дикий, но такой заразительный и искренний, как бы было то, что соединяло его с людьми, с толпой, с землей» (К. М. Лопатина, в замужестве Ельцова).
«… Звонкий, несколько демонический смех, так не гармонировавший с его загадочным взором, таинственно полуприкрытым веками и лишь иногда открывавшим свой неземной блеск» (В. А. Пыпина-Ляцкая).
«Воистину пугал этот хохот; если в аду смеются, то не иначе» (С. К. Маковский, известный впоследствии как редактор «Аполлона»).[132 - «Книга о Владимире Соловьеве». М., 1991. С. 39, 57, 122, 210, 229 соотв.]
«… Здоровый олимпийский хохот неистового младенца, или мефистофельский смешок хе-хе, или то и другое вместе» (племянник и авторитетный биограф Владимира Сергеевича С. M. Соловьев).[133 - Цит. по: Лосев А. Владимир Соловьев и его время. С. 646.]
Сам Соловьев, как хорошо известно из лекции, прочитанной им в январе 1875 года на женских курсах Герье и переданной в записи Е. М. Поливановой, определял человека как «животное смеющееся». «Человек рассматривает факт, и если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики». И несколько ниже – совсем уж драстическое заявление: «Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности, – она есть насмешка над действительностью».[134 - Приведено в кн.: Лукьянов С. М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Кн. 3. Вып. 1. Пг., 1918. С. 45. Репринт: М., 1990.]
Из этого пассажа, несомненно принципиального, можно сделать два вывода. Видимо, черты, подмеченные в Соловьеве как бы порознь его младшим другом Е. Н. Трубецким: «необычайно интенсивное восприятие мировых противоположностей» (в чем автор очерка о личности Соловьева видит «его силу») и «удвоенная против других чувствительность к смешному»[135 - Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 26, 16 соотв.] – в сущности, есть одна и та же черта. Так что вышеприведенные характеристики смеха Соловьева – от невинно-детского до жутко-демонического, от «неистового» до светски-игривого – не противоречат друг другу, а суть разные градации острого рефлекса на эти самые «мировые противоположности».
И второе, что следует из приведенного выше эпизода лекции. Для Соловьева в качестве насмешки над действительностью выступает поэзия как таковая, а не только специально юмористическая, ироническая, сатирическая (в соответствии с привычно-плоским взглядом). Поэтическое вдохновение, приносящее весть о горнем, есть уже насмешка над дольним, хотя и чуждая намеренной ухмылки. Поэтому, на вкус Соловьева, грань между патетическим и смешным в поэзии нечувствительна и переходы от одного к другому не кажутся ему такими разительными диссонансами, как многим его читателям и критикам. «Из смеха звонкого и из глухих рыданий / Созвучие вселенной создано», – пишет он в «Посвящении к неизданной комедии» (то есть к «Белой Лилии»).[136 - Стихи Владимира Соловьева и текст «Белой Лилии», а также черновой редакции пьесы цитируются по изданию: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.] То и другое образует для него не диссонанс, а аккорд («созвучие»), хотя антитетичны не только элементы этого «созвучия» (смех/слезы), но и эпитеты к ним.
С. Н. Булгаков в связи с поздней поэмой «Три свидания» говорит о «манере Соловьева зашучивать серьезное».[137 - Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 64.] Эту «манеру», однако, нельзя сводить к некоторой метафизической застенчивости автора: в серьезном у Соловьева содержится очень часто сакральная крупица смеха – поэзии – свободы. «Смеялась, верно, ты… – обращается он к неименуемой Подруге Вечной, – богам и людям сродно / Смеяться бедам, коль они прошли». Одно только предположение, что София (а кто ж еще, что бы ни понимать под этим именем?) может смеяться вместе со своим избранником, придает шутливости Соловьева совершенно парадоксальный характер, не сводимый ни к насмешкам над пошлостью «здоровой обыденщины», ни к автоиронии. Вспоминаются слова все того же Евгения Трубецкого: «В наш скептический век он являл собою как бы олицетворенный парадокс».[138 - Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 35.]
«Белая Лилия» – быть может, самый парадоксальный из текстов Соловьева, как философских, так и поэтических. В этом отношении с нею может поспорить разве что «Краткая повесть об антихристе», при первом знакомстве вызвавшая большое смятение в умах современников. Но если пророческая цель «Краткой повести…» ясна или, во всяком случае, проясняется самим ходом времен, то цель «Белой Лилии» неудоболовима. Последователей соловьевских идей, соловьевской софиологии комедия болезненно задела. Для Величко сочинение «мало понятное», «странное», дисгармоничное, жанр которого он затрудняется определить: «комедия (?)» – с вопросительным знаком.[139 - «Книга о Владимире Соловьеве». С. 61.] Для Соловьева-племянника «это странная пьеса», «шутки самые грубые, развязные и иногда циничные, крайняя нелепость и чепуха переплетаются в ней с <…> мистикой Софии».[140 - Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 156.] С. Н. Булгаков (правда, в период «Тихих дум» – времени наибольшего его отхода от «соловьевства» под влиянием о. Павла Флоренского) характеризует пьесу как «стихотворный фарс о Софии», «граничащий с мистической порнографией и, вместе с тем, включающий в вполне серьезные и вдохновенные софийные стихотворения»; это «бравирующее выражение <…> астрального флирта», одно из самых двусмысленных и неприятных произведений Соловьева».[141 - Булгаков С. Н. Тихие думы. С. 81.]
Как всегда, реакция современников и ближайших наследников бывает кое в чем диагностически ценнее, чем последующие исследовательские медитации. То, что заставляет их недоумевать и раздражаться, нередко и оказывается самым главным. Неприязненным взорам открылся в «мистерии-шутке» некий сбой целеполагания. В альбоме Т. Л. Сухотиной Соловьев на вопрос о цели его жизни ответил: «Не скажу».[142 - Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 642.] Ранее, в юности, он писал одной столь же юной корреспондентке, что цели его безумны и имеют мало общего с обычными человеческими планами. Это были цели мессианско-преобразовательные, со временем потесняемые целями просвстительско-миссионерскими и общественно-пророческими. Как носитель духовной миссии, каковым он не мог не ощущать себя, Соловьев никогда не был вполне свободен и самоопределён по отношению к «самому значительному в жизни» (так называет он в примечании к «Трем свиданиям» свои визионерские встречи с Царицей – откровение небесного эроса). Свобода тут наступала только в утопически-малообязывающей атмосфере полуверы-полушутки, которая своей двусмысленностью расколдовывала любые обеты и снимала любые заклятья, оставляя между тем для них лазейку исполниться и сбыться.
И эта внутренняя утайка источника вдохновения как нельзя больше отвечала среде и культурному контексту, в которых мистерийное просто обязано было оборачиваться смешным. Визионер, отправившийся за откровением в пустыню, в Фиваиду, в цилиндре, крылатке и тонких ботиночках, – эта фигура, этот автопортрет смешит самого прототипа. Но разве менее смешон в «Белой Лилии» кавалер де Мортемир, который, собравшись на поиски мистической «Лилеи», бросает своей прежней возлюбленной: «Скажи, что навестить сестру я / Уехал в Крым» – и озабоченно озирается перед волшебным странствием: «Но где моя дорожная фуражка? / Здесь! И перчатки к ней»? Дело, как видите, не в неподходящем костюме Соловьева (в чем был, в том и пошел, не имея ни гроша в кармане). Приличная экипировка де Мортемира вполне соответствующая веку прочно буржуазному, так же комически диссонирует с целью его путешествия: запредельность – и фуражка с перчатками!
В Мертвом доме Достоевский открыл для себя то, к чему подходил еще до каторги – и в «Бедных людях», и в «Двойнике», и в «Хозяйке»: что и высочайшие взлеты, и самые глубокие падения человека происходят из одного корня – из чувства абсолютной личной ценности или, что одно и то же, из чувства свободы, которое бурлит в человеке наподобие вулканической стихии и, стиснутое или извращенное обстоятельствами, способно разрушить мир. Истребить это чувство в душе человеческой невозможно, не истребив ее самое (мечты «великого инквизитора» о превращении человечества в питомник существ, променявших риск свободы, экзистенциальную необеспеченность на беспечную сладость стабильности, мечты эти несбыточны, хотя и опасны). Но можно это чувство свободы зарядить положительно, «обра?зить» (народное словечко, подслушанное Достоевским у каторжников), ввести в русло любви и добровольной жертвы. И это путь личного примера, обаяния жгущей сердце нравственной, духовной красоты, путь участливого и бережного уважения к падшему, путь подражания Христу, каким идут избранные на служение «положительно прекрасные» герои Достоевского: князь Мышкин, Алеша Карамазов, «русский инок» Зосима; подобно Тому, Кому они подражают, они ничего не меняют во внешнем устройстве мира, но вносят в него новую закваску, которая, при видимости первоначального поражения, в конечном счете переменит мир исподволь.
Но, повторю, особая сила Достоевского – не столько в этой положительной, сколько в отрицательной апологетике: безусловная ценность свободы – ее вырождение в тираническую самость – мобилизация этой самостью энергии социального недовольства для подавления чужой свободы, – вот диалектический ход, прочерченный Достоевским, вот чему противопоставляется «великое дело любви», возвращающее свободе ее собственную сущность.
Всякий раз эта трагедия самоотрицания свободы совершается не в пустоте, а в социальной среде, по определению несовершенной и более или менее порочной, так что грех личной воли подпитывается грехами социального окружения. «Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся – нравственно-гуманным, сознательным и совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности».
Эти слова написаны Достоевским в 1861 году, и советую всякому, кто хочет углубиться в мысль писателя о природе личности, обратить особое внимание на его произведения 50-х – первой половины 60-х годов – от «Дядюшкина сна» и «Села Степанчикова» до «Записок из подполья». (Одновременно Достоевский развивал программу почвенничества на страницах издаваемых им совместно с братом журналов «Время» и «Эпоха»; между художественными произведениями и публицистикой этой поры есть важные соответствия, к чему я еще вернусь.)
Одному из глубоких исследователей писателя Б. Энгельгардту принадлежит применительно к основным созданиям Достоевского определение: «идеологический роман». М. М. Бахтин не отверг эту дефиницию, а принял ее с той поправкой, что Достоевский выступает не пропагандистом, а портретистом идей, идеологий. Примем это определение как рабочий термин и мы. Так вот, можно сказать, что большим «идеологическим» романам Достоевского предшествуют его малые «антропологические» (человековедческие) романы и повести. В центре их – амбициозная личность с искривленным, извращенным чувством своего достоинства. Это «поэты» бытового авантюризма – как госпожа Москалева в «Дядюшкином сне», и «поэты» тиранства – как Фома Опискин, мировой тип, созданный Достоевским. Поэт здесь очень важное слово – иначе говоря, тот, кто пытается перекроить мир не заради частной выгоды, а по мерке своего хотения, во имя выгоды «бескорыстной» – воли к власти. От Опискина идет прямая дорожка к героям «Бесов»; вспомним, что Петруша Верховенский – «энтузиаст» в том самом смысле, в каком Фома – «поэт»: ведь тот же Фома на своем усадебном островке, в своей Икарии предвосхищает шигалевский эксперимент, рассчитанный в масштабе континентов, вводя все в таких случаях положенное, вплоть до раздачи новых именований и реформы календаря. Антропологическая тайна Фомы раскрывается в словах, сказанных о нем одним из персонажей «Степанчикова»: «Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может».
Затем, вслед за поэтами тиранства, это категория лиц безудержных, «выскочивших из мерки», внезапно извергающих из себя сдавленную обстоятельствами энергию своеволия. «На время человек вдруг выскакивает из мерки», – говорится у Достоевского об иных узниках Мертвого дома, которых в состоянии такого экзистенциального бунта не могут остановить уже ни угрозы, ни увещевания, ни истязания. Неуправляемость этого рода присуща, по наблюдениям Достоевского, чаще простолюдину («Да простого-то человека я и боюсь!» – говорится у него в «Селе Степанчикове»), но она схватывает и тонко играющего мыслью, блистательно рефлектирующего героя «Игрока»: «Просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут», – с полным основанием говорит о себе этот интеллектуальный представитель «русского безобразия», столь богатого возможностями, но столь опасного в своей безбрежности.
Это – еще одна категория – и самовлюбленный прожектер-теоретик, герой «Скверного анекдота», администратор с либеральными фантазиями, которые при столкновении с неподатливой жизнью он немедленно отбрасывает и, согласно многократно описанной Достоевским диалектике перехода умозрительного либерализма в деспотизм, обращается к рецепту: «Строгость, строгость и строгость». Это, наконец, подпольный рефлектер-парадоксалист, который восклицает о себе: «Я не могу… мне не дают быть добрым!», – потому что его уязвленная самость непрерывно болит и безуспешно алчет утоления через попрание другого человеческого «я».
Все эти герои, включая человека из подполья, играющего идеями, но не придавленного ни одной из них, – все они существа еще не идеологизированные. Они только безосновные существа. «Где у меня первоначальные причины, на которые упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» – недоумевает и жалуется подпольный. Их своеволие, не получая никакого внутреннего оформления и обуздания, не ведая ничего о радости самоограничения и самосовладания, беспорядочно вырывается наружу и выбирает случайных жертв своего деспотизма.
В «Записках из Мертвого дома» Достоевским сказаны страшные слова, страшные именно в качестве общественного прогноза. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке». Меня всегда, как только я натыкалась на эту фразу, поражало в ней слово «современный». Разве – если уж доверять преданию о грехопадении, которому, без сомнения, следует Достоевский, – эти свойства не находятся в «зародыше» в человеке любых времен, начиная с Каина, из зависти погубившего брата своего Авеля? Но теперь, как мне кажется, я понимаю, что хотел сказать Достоевский этим тревожным словом. «Современный человек» – значит, человек, покинувший вселенную христианства, отданный на съедение своей обособившейся самости, понизивший свое личное достоинство от подражания абсолютной личности Христа до голого самоутверждения и похоти властвования. Такой «современный человек», не имеющий внутреннего упора и точки соединения с другими людьми, – он, впрочем, «палач» лишь в зародыше, в потенции, в возможности. Но возможность становится действительностью, как только в его внутреннюю пустоту вселяется «скверная трихина» идеологической агрессии и замещает отсутствующие онтологические основания. Те палаческие свойства, которые доселе бессознательно дремали «в зародыше», отмобилизовываются и преобразуются в законопреступное деяние…
До сих пор в нашей и мировой науке о Достоевском идут споры: что толкнуло Раскольникова на путь палача – самоутверждение, презрение к обыденной морали (под которое тоже можно подвести идеологическую – штирнеровскую либо наполеоновскую – базу, но которое, в сущности, в такой базе не нуждается, ибо Достоевский оставил портреты подобных «сверхчеловеков» из простонародья тоже) – или же чисто идеологическое убеждение, что во имя социальной справедливости можно пренебречь жизнью вредной и никчемной старушонки. Но в том-то и секрет, раскрытый Достоевским, что здесь нет никакого «или – или», что самоутверждение Раскольникова («Я для себя одного убил!») и идея, дозволяющая ему «кровь по совести», взаимно индуцируют и подкрепляют друг друга, что вместе с внедрением такой идеи-трихины падает последняя, совестная преграда между экспансионистским «я» и миром как объектом его притязаний.
Достоевский жил уже в век идеологий (по мнению некоторых историков идей, мы отпраздновали двухсотлетие этого «эона» вместе с юбилеем Великой французской революции). И он понял, что защита человеческой личности от тирании чьего бы то ни было взбесившегося «я» есть одновременно защита ее от идеологической атаки. Задатки палача переходят, согласно его антропологии, в задатки диктатора и совпадают с задатками доктринера.
Достоевский предупреждает, что на лицо человеческое могут наступить две идеологии, всходы которых он наблюдал вокруг себя. Это идеология перекройки человечества «по новому штату» – и идеология «золотого мешка», «идея Ротшильда», как она названа в «Подростке». Замечу сразу, что последняя для Достоевского – не просто практическая власть денег, не просто явление социальной жизни или черта нарождающейся в России экономической структуры, а именно идейный принцип, на свой лад обосновывающий волю к власти. Деньги как мистический фетиш, как символ господства над жизнью и честью человеческой (а вовсе не как источник благ, роскоши, наслаждений или деловых инициатив) фигурируют в четырех из пяти больших романов Достоевского и не играют сколько-нибудь заметной роли только в «Бесах», как бы уступая натиску другой мощной идеологической заразы.
Скажу тут же, чтобы больше к этому специально не возвращаться: страх Достоевского перед тем, что принято называть развитием товарно-денежных отношений (помните апокалиптического всадника, о котором толкуется в романе «Идиот»: в руке у него весы, все меряется и оценивается, идет на обмен, на продажу, и это значит, что конец близок), – не кажется ли этот страх сейчас преувеличенным? Это была роковая мания русской мысли – от Победоносцева до народников, от петрашевцев до Блока: «отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана», «век буржуазного богатства, растущего незримо зла» и пр., лучше, дескать, что угодно, чем это. В записных тетрадях Достоевского можно обнаружить даже такое: «купец есть лишь развратный мужик» – явная несправедливость к русскому купечеству в его экономической и культурной перспективе. Впрочем, мысль Достоевского, в поисках противоядия Ротшильдовой идее, никогда не соскальзывала к утопическому отрицанию собственности. От этого предостерег его опыт Мертвого дома, где лишение свободы («А чего не отдашь за свободу?» – восклицает повествователь «Записок из Мертвого дома») и лишение собственности стояли рука об руку как две стороны одной и той же пытки. «Без труда (имеется в виду свободный, не принудительный труд. – И. Р.) – и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя» – слова из тех же «Записок…». Острый практический толк Достоевского (а его «идеализм», как он сам понимал, бывал реальнее «реализма» его оппонентов) вкупе с его метафизическим чутьем подсказывали ему корректирующий противовес развитию промышленности и банка, буржуазному Хрустальному дворцу, виденному на всемирной промышленной выставке в Лондоне и оставившему гнетущее впечатление. Выход этот – земля.
Достоевский настаивал, что в основе могущества и процветания любого общества лежит правильное землевладение и землепользование. В подкладке этой идеи – мистическая интуиция Матери-Земли как олицетворения мировой красоты, мира в его райском состоянии, интуиция, которую последующая русская философия назовет «софийной». Но сейчас нас интересует общественная сторона высказанного Достоевским воззрения. Будущее удостоверило его справедливость, – недаром экономисты всего мира называют аграрный сектор «сектором А», то есть началом начал. Но этого мало. До сих пор по достоинству не оценена мысль Достоевского, высказанная им в июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, – о поголовном семейном землевладении. Эту мысль Достоевский решился вложить лишь в уста вспомогательного персонажа-собеседника из «Дневника» – некоего Парадоксалиста, до того была она непривычна. Для нравственной устойчивости и физического здоровья грядущих поколений, для обезврежения эксцессов индустрии и урбанизма, утверждает Парадоксалист, дети, все дети, всегда «должны родиться на земле» («я землю от детей не розню»); своя землица, место, где воспитываются дети, где можно восстановить силы души, должна быть у каждого. Промышленность, торговля, город – все обретает свои рамки, если вписывается в эти угодья, скорее рекреационные, нежели сплошь производящие продукцию (ведь при интенсивной агротехнике произойдет высвобождение земель – добавлю от себя, чтобы продемонстрировать, что мысль Достоевского не утопична и не ретроградна). Это не толстовская идея опрощения и хождения за сохой, это, на мой взгляд, идея будущего. От феодального замка – через Хрустальный дворец индустриального города-Вавилона – к будущему Саду, – такую триаду начертал Парадоксалист Достоевского. Нужно ли напоминать, что именно мы, а не страны Запада, сделали все, чтобы отдалиться от этой перспективы? Здесь я не буду говорить о том, что Достоевский представлял себе производительное крестьянское землевладение именно как общинное, и был ли он прав, защищая сельский «мир» как устой против капитализации. Думаю, что он тем не менее принял бы столыпинскую реформу, если б дожил до нее. Но дело здесь в принципе – в конкретном всеобщем праве на землю, на любовь к ней и сбережение ее в доставшемся каждому уголке.
Вернемся, однако, к другой массивной идеологии, от которой Достоевский хотел уберечь личность, общество, целость народа. Я уже указала на нее самой общей из принадлежащих Достоевскому формул: «переделка человечества по новому штату», – намеренно не конкретизируя, что речь идет о политическом радикализме, или (что то же), как определял сам писатель, – о «политическом социализме». Дело в том, что означенная идеология шире ее экстремистских, кровопролитных проявлений. Это идеология тотально-административная. (Собственно, и монолог великого инквизитора можно истолковать как манифест тотального администрирования, исходящий из ложного или намеренно клеветнического представления о рабской природе человека.)
Конечно, «кровь по совести», кровь неповинных жертв, проливаемая ради будущего блага, рецепт коего доподлинно известен тому, кто санкционирует кровопролитие, – это, не знаю – самая ли страшная, но очень страшная составная часть идеологии перекройки жизни. В связи с известным диалогом между Иваном Карамазовым и его братом Алешей у исследовательницы Достоевского В. Ветловской есть специальная работа о присутствующей здесь мифологеме «строительной жертвы» – невинного существа, закланного под фундаментом нового здания (вспоминается, конечно, и «Котлован» Андрея Платонова). Исследовательница приходит к выводу, что Иван Карамазов, заведший об этом речь, был масоном, и притом высокой степени посвящения. Не думаю, однако, чтобы здесь непременную роль играл намек на некие обряды масонства, ибо Достоевского нравственная дилемма безвинной жертвы волновала изначально, а не как характерный поворот мысли романного персонажа. Вот запись, относящаяся к середине 70-х годов – о Людовике XVII, сыне казненной королевской четы, которого, замечу, те революционеры все-таки не убили, а отдали на воспитание какому-то ремесленнику, чтобы тот сделал из него «хорошего гражданина». Уже после Термидора он оказался в тюрьме и умер десятилетним. «В идеале, – пишет Достоевский, подчеркивая слово «идеал», – общественная совесть должна сказать: пусть погибнем мы все, если наше спасение зависит лишь от замученного ребенка, – и не принять этого спасенья. Этого нельзя, но высшая справедливость должна быть та. Логика событий действительных, текущих, злоба дня не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни». Другими словами: порой течет кровь невинных – вопреки голосу общественной совести, из соображений «общей пользы», ибо общество человеческое греховно и несовершенно, оно идет на сделки с совестью, но разрешить по совести литься этой крови – значит утратить «дух жизни», «начало жизни». Вот вывод Достоевского, вот его предупреждение живым, чтобы те не стали духовными мертвецами.
Именно с этим выводом, считая его «реакционным», откровенно и без оговорок спорили в 20-х годах, когда куражу было больше, а лицемерия меньше, чем десятилетия спустя. Видный марксистский критик Г. Горбачев тогда писал: «Достоевский в беседе Ивана с Алешей допускает одну софистическую подмену аргументации: Иван спрашивает Алешу, может ли последний замучить маленького ребенка, если это нужно для всеобщего счастья. Получается естественный ответ: нет. Нет, – так категорично потому, что нервы не выдержат, конечно. Но реально вопрос так не стоит. Мы знаем, что капитализм проституирует, морит голодом, замучивает в диких погромах и убивает бомбардировкой городов миллионы детей. Потому, если революционные снаряды случайно ранят и обрекут на мучительную смерть тысячи детей или революционные декреты дадут повод для провокации лишнего погрома, то революция на это идет, и она права». Больше всего пугает в этом людоедском пассаже слово «тысячи». Не «единичному» ребенку, для примера, для доказательства мысли, предоставлено погибнуть, и не о неопределенном, риторическом, так сказать, «множестве» детей идет речь, а расчетливо скалькулированы именно «тысячи», противопоставленные умозрительным «миллионам» как выгодный, утешительный баланс. Можно было наперед сказать – а впереди был год великого перелома, ибо писалось это в 1925-м, – что тысячами тут не обойдется, ибо «дух жизни» покинул так говорящих и рассуждающих и они станут сеять смерть в масштабе, не ограниченном первоначальными выкладками.
Однако, быть может, еще страшней, чем кровавая цена, которую готовы уплатить идеологи тотального распорядительства за свое право командовать, – еще страшнее их всемерная опека над человеческой волей. Порабощение совести ужаснее крови по совести, как о том свидетельствует Поэма «Великий инквизитор». Достоевский умел сводить в один пучок разноречивые заблуждения и превратные идеи своей эпохи. У него была неосознанная догадка, что все, по видимости противоположные, разновидности идейного зла должны иметь общий корень в отрицании высшего, божественного, абсолютного значения человеческой личности. Так, в уста князя Валковского из «Униженных и оскорбленных», этого первого цинического идеолога безбожной вседозволенности, Достоевский вложил доводы и парадоксы, восходящие и к разумному эгоизму Дидро, и к утилитаризму Бентама, и к волюнтаристическому эгоцентризму Штирнера, и к пессимизму Шопенгауэра. То же самое можно сказать и о его критике административного синдрома. (Достоевский-мыслитель вообще занят выявлением синдромов, в которых сплетается многое несоединимое с точки зрения отвлеченного схематизма.)
У Достоевского, мастера слова-эмблемы, вбирающего в себя целый круг ассоциативных значений, есть словечки «казенщина» и «острог». И вот, эти слова связываются у него и с централизованным административным аппаратом из четырнадцати классов, созданным Петром I и вытеснившим ростки «земщины», самостоятельного местного управления («Государственная центральная идея у нас пересолила, через норму перешла <…> завела дружину для самосохранения, то есть чиновников, прежде же оно свободно относилось к народу и земского собора не боялось». – Из наброска 60-х годов). Те же словечки прилагает он и к «либеральным деспотам», желающим, чтобы народ просвещался точно по их указке, соответственно их сиюминутным представлениям о том, что есть «наука», а что – отживший предрассудок. Говорит он и о «красненькой казенщине» тех радикальных публицистов, которые точно знают, какой хирургической операцией они осчастливят народ, не спросив у него на это, разумеется, согласия. Все это – острог, острог! – символ предельной несвободы, жизненно выстраданный Достоевским в реальном остроге.
Достоевский часто повторял в ответ на упреки в ретроградности, что он куда либеральнее записных либералов. И, надо сказать, был прав. Памятником подлинно либеральной политической философии остается его публицистика почвеннического периода, в сравнении с «Дневником писателя» еще недостаточно оцененная: такие великолепные, будто сегодня написанные статьи, как «Г-н – бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Два стана теоретиков». Идея почвенничества, как известно, заключалась в том, чтобы у интеллигенции, у образованного слоя, прошедшего европейскую выучку, но не удовлетворенного ею, и у народа, сохранившего сокровище христианской веры, но, по бедности и забитости своей, носящего «звериный образ», – чтобы у них нашлась точка схождения. Чтобы интеллигенция без высокомерия и предубеждения отнеслась у духовной копилке народа, а народ без опаски стал приобщаться к тем сторонам новейшего просвещения, которые органически для него приемлемы. Прекрасно, но в чем же тут либерализм, почитание свободы? В том, что Достоевский всеми силами пытался предупредить идейную диктатуру немногочисленного образованного слоя над огромной народной массой. Он хотел, чтобы просвещение, образование не превращалось в руках тех, кто держит от него ключи, в орудие – говоря современным социологическим языком – индоктринации, то есть в натаскивание, целевое программирование сознания масс. (Заметим, что такова задача всякой государственной школы, начиная с бисмарковской эпохи «культуркампфа»; в особенности же – нашего ликбеза и всеобуча 30-х и далее годов.)
Особенно наглядна, особенно бескорыстна эта забота Достоевского о духовной свободе народа, когда он спорит не с радикальным «Современником» (в этом случае можно еще подумать, что он отстаивает не только свободу как таковую, но по преимуществу свои политические взгляды), а когда разбирает, например, невиннейшую книжку для народа, некий «Читальник», изданный благонамеренным литератором Щербиной. Тут-то, в блистательной статье «Книжность и грамотность», Достоевский показывает, как, исходя из лучших побуждений, мнимолиберальный составитель учреждает опеку над сознанием читателя из народа, регламентирует его любознательность, унизительно подчеркивает его предполагаемую инфантильность, дает ему грубо адаптированные и предвзято сгруппированные обрывки сведений и вдобавок предлагает распространять в народе эту – как он сам догадывается – скучную и нежеланную книжку административным путем, говоря по-нашему – «в нагрузку». «Свобода! Свобода на первом месте! Зачем же навязывать?» – восклицает Достоевский. И рядом стоит фраза, исполненная глубокого философского смысла: «Не любит народ таких учителей, прямо становящихся перед ним его воспитателями и владетелями-просветителями». Двумя последними, им же подчеркнутыми, словами Достоевский предвосхитил своеобразное открытие XX века: что системы теоретизирующей мысли могут становиться системами идеологического господства («открытие» это принадлежит французским «новым философам», прошедшим через опыт майских событий 1968 года, и выражение «владетели-просветители» может показаться цитатой из какого-нибудь их сочинения).
Что хочет сказать Достоевский, различая «книжность» читальника Щербины и «грамотность», которую он сам желал бы нести народу? Ну, во-первых и в-главных, то, что грамотность – это своего рода технология образованности, а не содержание ее. В народном сознании присутствует собственное ценное духовное содержание; грамотность позволит его выявить, и оно принесет свой плод в русской культуре; книжность же может его подавить. «Спросим у народа», – до конца дней любил повторять Достоевский. Но пока народ темен, безграмотен – он и безгласен, он, в частности, не в состоянии сформулировать свой политический ответ на запрос к нему правительства ли, интеллигенции ли. Дать ему грамотность значит дать ему язык для участия в общественном и политическом процессе. Дать ему книжность значит подменить его ответ своим собственным. Вышеупомянутый рапповский критик называл такое почвенничество «реакционным демократизмом»; простим слово «реакционный», произнесенное в виде хладнокровной дефиниции, и согласимся: это, действительно, демократизм.
И еще – из того же критика: «Протестующее против барского “европеизма” сороковых годов народничество Достоевского было окрашено в цвета подчеркнутого благоговения не только перед интересами, но и перед мнениями народа». Опять-таки все верно, но еще важней добавить: этот подчеркнутый пиетет относился не только к существу народных мнений, но, быть может, в наибольшей степени – к самому праву их иметь. Как раз не потому ли демократизм Достоевского кажется весьма недемократичному критику таким реакционным?
Затем, различая книжность и грамотность, Достоевский высказывает серьезную педагогическую мысль, которая у нас только недавно стала пробивать себе дорогу как противодействие повсеместной выработке – через школу – управляемых конформистов. Человека надо учить, помимо суммы сведений, навыкам самостоятельного приобретения знаний в дальнейшей жизни – человека надо учить учиться, это и есть грамотность. И, наконец, последнее: «По-нашему, уж если человек образован, то он получил нравственное развитие, по возможности правильное понятие о зле и добре. Следственно, он, так сказать, нравственно вооружен против зла своим образованием <…> владеет для отражения зла средствами несравненно сильнейшими…» Достоевский волнуется об истинном просвещении народа, чтобы злу трудней было воспользоваться его легковерием.
Как видим, мысль Достоевского была занята поисками того, чего и посейчас ищет мысль любого ответственного российского деятеля, а именно – «царского пути» между устройством общества на основе политического рынка интересов и устройством общества на основе принудительного единодушия. Так сказать – между идеей взаимной уживчивости из голого чувства самосохранения и идеей ребяческой послушливости великому инквизитору. Владимир Соловьев свидетельствует, ссылаясь на беседы с Достоевским во время их совместного путешествия в Оптину пустынь, что общественным идеалом Достоевского была Церковь. Иными словами – соборное согласие в любви, при котором не нужны ни государство, ни казни, ни состязание прав, ни ограждение имуществ.
Едва ли не у всякого тут готово сорваться с языка восклицание: «очередная утопия!» Но не торопитесь с приговором: Достоевский – не утопист хотя бы потому, что, в его понимании, этот идеал и бесконечно близок и бесконечно далек. В сущности, его «золотой век в кармане» (так, напомню, называется одна небольшая главка из «Дневника писателя») – шутливый парафраз евангельского изречения «Царство Божие внутри нас». Это так просто и так внятно сердцу, что каждый должен чувствовать вину за то, что этого до сих пор не исполнил и, значит, напрямую ответствен за общее неблагополучие мира («все за всех виноваты»). Но вместе с тем такой идеал совместного бытия бесконечно далек – невместим в границы исторического времени, потому что «психически повернуться» к любви – дело, как говорит старец Зосима, «жестокое и устрашающее» и его исполняют до конца только немногие, одолевшие свою самость и обретшие подлинную свободу в добровольной жертве собственным «я». Так что «золотой век» и в кармане, и в дальней дали; это не утопия, которая всегда есть проект и организационная инструкция к нему, а путеводная нить, не требующая никаких специальных «мер» и даже несовместимая с такими мерами: «идеал гуманности <…> без всяких предварительных проектов и утопий», выражаясь словами самого Достоевского.
Чего же, в свете этих убеждений, хотел и ждал Достоевский от своей родины, от России? Прежде всего, относительно всякой национальной общности он полагал, что такая общность складывается обязательно вокруг самобытной идеи, скрепляется духовным импульсом, а не только, скажем, кровно-биологически или территориально-географически. (Эту мысль на свой лад развил Л. Н. Гумилев в его теории о пассионарном периоде формирования этносов.) На вопрос же о том, какова «русская идея», Достоевский с убежденностью отвечал: «В судьбах православного христианства вся цель народа русского». От этих «судеб» не отделял он, как мы уже видели, и мечту об общественной гармонии. Чаемую социальную проекцию православия он даже именовал иногда «русским социализмом» – антиутопическим и свободным. Русский народ с его, как считал Достоевский, свойствами всечеловечности и всеотзывчивости (мыслитель нигде, по-моему, не уточняет, являются ли эти качества плодом многовекового православного воспитания народа или, наоборот, родовыми особенностями его психического склада, предрасположившими его к усвоению христианства; думаю, Достоевский сказал бы, если б его спросили, что и то, и другое сразу), – так вот, русский народ с его всечеловечностью и всеотзывчивостью призван нести эту идею миру. Она как незамутненная весть о братстве придет на смену идеям католической и протестантской. Россия не перечеркнет, но довершит, «окончит», по слову Достоевского, дело старой христианской Европы, где свет христианства, как ему казалось, меркнет из-за властолюбивых уклонов католичества и порожденного этими уклонами посева вражды в виде протестантизма и западного социализма.
Тут, понятное дело, не все обстоит гладко. Не предлагал ли Достоевский как путь к торжеству заветной «русской идеи» геополитическую утопию славянской «православной империи», державной силою несущей миру свой социальный замысел? Не твердил ли он, что ради этого во что бы то ни стало «Константинополь должен быть наш», не заявлял ли – в смысле территориальном: «что православное, то русское?» Все так, и если был у Достоевского срыв в утопическое прожектерство, в утопическое нетерпение с сопутствующим ему допущением деспотизма и несправедливости, то это случалось именно тогда, когда он соблазнялся геополитикой как средством, служащим целям духовным. Но все же не тут пролегал магистральный путь общественной мысли Достоевского, который завершился событием Пушкинской речи и заветами «Братьев Карамазовых».
Если кратко подытожить суть общественной проповеди Достоевского, то можно сказать, что это проповедь самоотверженного индивидуального почина, преобразующего социальную среду, так сказать, из глубин совести. Или еще короче: это проповедь «первого шага». Подчеркну снова, что Достоевский не зовет прочь от общественной жизни, в приватное душеспасительное дело, которое его оппонент справа Константин Леонтьев не без вызова называл христианским «трансцендентным эгоизмом». Равным образом не совпадает он с асоциальностью толстовства, ограничивающегося отстранением от зла, этикой неучастия. Он говорит об общественном действии, об общественном служении. Но таком, которое начинается с преображения собственного сердца и затем исподволь привлекает другие сердца – подобно тому, как Алеша Карамазов в финале последнего романа Достоевского привлек сердца мальчиков и объединил их в Илюшечкину общину. Это путь органический, путь той самой евангельской закваски, от которой должно со временем вскиснуть и взойти все общественное тесто. Он противопоставлен у Достоевского и административной утопии, и кровавому срыву истории, о котором Достоевский пророчествовал: «злой дух близко…»
Насколько писатель был уверен в единственной правомерности такого пути, можно судить по тому, что свою идею неприметного «первого шага» он повторял неустанно. В 60-е годы он пишет: «А ведь в способности и уменьи сделать первый шаг и заключается, по-моему, настоящая практичность и деловитость всякого полезного деятеля». И еще тогда же: «Первый шаг есть всегда самое первое и самое главное дело». В 70-е годы, описывая в «Дневнике писателя» воспитателя детской колонии, он замечает: «Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина» («комический тип» – конечно, в том же смысле, в каком комичен князь Мышкин, прослывший «идиотом»). Или – с другого конца: «… иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, непрактичною, идеальною и смешною, но всегда найдется такой член ареопага или “женщина именем Фамарь”, которые еще изначала поверят проповеднику и примкнут к светлом делу… И вот маленькая несовременная и непрактичная “смешная идейка” растет и множится и под конец побеждает мир, а мудрецы ареопага умолкают». «И выходит, – привожу знаменитые, часто цитируемые слова, тоже из «Дневника писателя», – что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей».
А в чем «тайна первого шага»? Достоевский отвечает: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтоб под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином… Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде – и вот что самое важное! <…> А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага». Главка из «Дневника писателя за февраль 1877 года, откуда взяты эти слова, называется «Русское решение вопроса».
Проповедь «первого шага» – это проповедь движения неспешного, терпеливого, иногда как бы не в ногу с угрозой гибели, которая ждать не станет. Ведь вот Достоевский советовал все это, когда, по его же словам, «приготовлялись сроки чему-то вековечному, тысячелетнему» и вся Россия стояла «на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». И впрямь, скоротечные, взрывные процессы встряхнули и сбили опару, не дали закваске взбродить, обогнали и заглушили его проповедь, хотя она и имела влияние на молодое поколение. Тем не менее это не должно смущать. Первый шаг – то, что зависит от человека, от его доброй воли. Остальное не в его власти. Нужно делать то, что зависит от нас. Чрезвычайные меры – всегда проективные, а «первый шаг» – творческий. В обоих случаях, правда, человек одинаково не знает, к чему его действие приведет. Но первое сулит ему неожиданность разочарования, ибо реализованная задачка обыкновенно не сходится с запланированным ответом. А второе – неожиданность роста, развития; в семени заключено целое дерево, но оно не похоже на семя, из которого вырастает, и в этом – Нечаянная Радость.
«Белая лилия» как образец мистерии-буфф К вопросу о жанре и типе юмора пьесы Владимира Соловьева
Памяти Александра Носова
О смехе Владимира Соловьева столько наговорено, что хватило бы на целую антологию с физиологическим, психологическим и метафизическим разделами. А. Ф. Лосев в своем прощальном труде о Соловьеве выделяет этот смех как самостоятельную проблему и дает ему поистине апофатическое определение: не-, не-, не-. «Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию… Это не смешок Сократа, стремившегося разоблачить самовлюбленных и развязных претендентов на знание истины. Это не смех Аристофана или Гоголя, у которых под видом смеха крылись самые серьезные идеи общественного или морального значения. И это не романтическая ирония, когда у Жана Поля (Рихтера) над животными смеется человек, над человеком – ангелы, над ангелами – архангелы, а над всем бытием хохочет абсолют, который своим хохотом и создает бытие и его познает. Ничего сатанинского не было в смехе Вл. Соловьева, который по своему мировоззрению – все-таки проповедник христианского вероучения. И это уже, конечно, не комизм оперетты или смешного водевиля. Но тогда что же это за смех?»[131 - Лосев А. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 649–650.]
Однако, если перейти от «апофатики» к «катафатике», радикальное «не» раскрывает себя на деле в целом ряде положительных «и», «и», «и», не совмещаясь полностью ни с одним из определений:
«… Детский, иногда неудержимый смех с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами – смех человека с чистой совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенной свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья» (биограф Соловьева В. Л. Величко).
«… Ехидный смех, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым» (он же).
«… Этот его смех, странный, дикий, но такой заразительный и искренний, как бы было то, что соединяло его с людьми, с толпой, с землей» (К. М. Лопатина, в замужестве Ельцова).
«… Звонкий, несколько демонический смех, так не гармонировавший с его загадочным взором, таинственно полуприкрытым веками и лишь иногда открывавшим свой неземной блеск» (В. А. Пыпина-Ляцкая).
«Воистину пугал этот хохот; если в аду смеются, то не иначе» (С. К. Маковский, известный впоследствии как редактор «Аполлона»).[132 - «Книга о Владимире Соловьеве». М., 1991. С. 39, 57, 122, 210, 229 соотв.]
«… Здоровый олимпийский хохот неистового младенца, или мефистофельский смешок хе-хе, или то и другое вместе» (племянник и авторитетный биограф Владимира Сергеевича С. M. Соловьев).[133 - Цит. по: Лосев А. Владимир Соловьев и его время. С. 646.]
Сам Соловьев, как хорошо известно из лекции, прочитанной им в январе 1875 года на женских курсах Герье и переданной в записи Е. М. Поливановой, определял человека как «животное смеющееся». «Человек рассматривает факт, и если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики». И несколько ниже – совсем уж драстическое заявление: «Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности, – она есть насмешка над действительностью».[134 - Приведено в кн.: Лукьянов С. М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Кн. 3. Вып. 1. Пг., 1918. С. 45. Репринт: М., 1990.]
Из этого пассажа, несомненно принципиального, можно сделать два вывода. Видимо, черты, подмеченные в Соловьеве как бы порознь его младшим другом Е. Н. Трубецким: «необычайно интенсивное восприятие мировых противоположностей» (в чем автор очерка о личности Соловьева видит «его силу») и «удвоенная против других чувствительность к смешному»[135 - Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 26, 16 соотв.] – в сущности, есть одна и та же черта. Так что вышеприведенные характеристики смеха Соловьева – от невинно-детского до жутко-демонического, от «неистового» до светски-игривого – не противоречат друг другу, а суть разные градации острого рефлекса на эти самые «мировые противоположности».
И второе, что следует из приведенного выше эпизода лекции. Для Соловьева в качестве насмешки над действительностью выступает поэзия как таковая, а не только специально юмористическая, ироническая, сатирическая (в соответствии с привычно-плоским взглядом). Поэтическое вдохновение, приносящее весть о горнем, есть уже насмешка над дольним, хотя и чуждая намеренной ухмылки. Поэтому, на вкус Соловьева, грань между патетическим и смешным в поэзии нечувствительна и переходы от одного к другому не кажутся ему такими разительными диссонансами, как многим его читателям и критикам. «Из смеха звонкого и из глухих рыданий / Созвучие вселенной создано», – пишет он в «Посвящении к неизданной комедии» (то есть к «Белой Лилии»).[136 - Стихи Владимира Соловьева и текст «Белой Лилии», а также черновой редакции пьесы цитируются по изданию: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.] То и другое образует для него не диссонанс, а аккорд («созвучие»), хотя антитетичны не только элементы этого «созвучия» (смех/слезы), но и эпитеты к ним.
С. Н. Булгаков в связи с поздней поэмой «Три свидания» говорит о «манере Соловьева зашучивать серьезное».[137 - Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 64.] Эту «манеру», однако, нельзя сводить к некоторой метафизической застенчивости автора: в серьезном у Соловьева содержится очень часто сакральная крупица смеха – поэзии – свободы. «Смеялась, верно, ты… – обращается он к неименуемой Подруге Вечной, – богам и людям сродно / Смеяться бедам, коль они прошли». Одно только предположение, что София (а кто ж еще, что бы ни понимать под этим именем?) может смеяться вместе со своим избранником, придает шутливости Соловьева совершенно парадоксальный характер, не сводимый ни к насмешкам над пошлостью «здоровой обыденщины», ни к автоиронии. Вспоминаются слова все того же Евгения Трубецкого: «В наш скептический век он являл собою как бы олицетворенный парадокс».[138 - Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. 1. С. 35.]
«Белая Лилия» – быть может, самый парадоксальный из текстов Соловьева, как философских, так и поэтических. В этом отношении с нею может поспорить разве что «Краткая повесть об антихристе», при первом знакомстве вызвавшая большое смятение в умах современников. Но если пророческая цель «Краткой повести…» ясна или, во всяком случае, проясняется самим ходом времен, то цель «Белой Лилии» неудоболовима. Последователей соловьевских идей, соловьевской софиологии комедия болезненно задела. Для Величко сочинение «мало понятное», «странное», дисгармоничное, жанр которого он затрудняется определить: «комедия (?)» – с вопросительным знаком.[139 - «Книга о Владимире Соловьеве». С. 61.] Для Соловьева-племянника «это странная пьеса», «шутки самые грубые, развязные и иногда циничные, крайняя нелепость и чепуха переплетаются в ней с <…> мистикой Софии».[140 - Соловьев С. М. Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 156.] С. Н. Булгаков (правда, в период «Тихих дум» – времени наибольшего его отхода от «соловьевства» под влиянием о. Павла Флоренского) характеризует пьесу как «стихотворный фарс о Софии», «граничащий с мистической порнографией и, вместе с тем, включающий в вполне серьезные и вдохновенные софийные стихотворения»; это «бравирующее выражение <…> астрального флирта», одно из самых двусмысленных и неприятных произведений Соловьева».[141 - Булгаков С. Н. Тихие думы. С. 81.]
Как всегда, реакция современников и ближайших наследников бывает кое в чем диагностически ценнее, чем последующие исследовательские медитации. То, что заставляет их недоумевать и раздражаться, нередко и оказывается самым главным. Неприязненным взорам открылся в «мистерии-шутке» некий сбой целеполагания. В альбоме Т. Л. Сухотиной Соловьев на вопрос о цели его жизни ответил: «Не скажу».[142 - Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 642.] Ранее, в юности, он писал одной столь же юной корреспондентке, что цели его безумны и имеют мало общего с обычными человеческими планами. Это были цели мессианско-преобразовательные, со временем потесняемые целями просвстительско-миссионерскими и общественно-пророческими. Как носитель духовной миссии, каковым он не мог не ощущать себя, Соловьев никогда не был вполне свободен и самоопределён по отношению к «самому значительному в жизни» (так называет он в примечании к «Трем свиданиям» свои визионерские встречи с Царицей – откровение небесного эроса). Свобода тут наступала только в утопически-малообязывающей атмосфере полуверы-полушутки, которая своей двусмысленностью расколдовывала любые обеты и снимала любые заклятья, оставляя между тем для них лазейку исполниться и сбыться.
И эта внутренняя утайка источника вдохновения как нельзя больше отвечала среде и культурному контексту, в которых мистерийное просто обязано было оборачиваться смешным. Визионер, отправившийся за откровением в пустыню, в Фиваиду, в цилиндре, крылатке и тонких ботиночках, – эта фигура, этот автопортрет смешит самого прототипа. Но разве менее смешон в «Белой Лилии» кавалер де Мортемир, который, собравшись на поиски мистической «Лилеи», бросает своей прежней возлюбленной: «Скажи, что навестить сестру я / Уехал в Крым» – и озабоченно озирается перед волшебным странствием: «Но где моя дорожная фуражка? / Здесь! И перчатки к ней»? Дело, как видите, не в неподходящем костюме Соловьева (в чем был, в том и пошел, не имея ни гроша в кармане). Приличная экипировка де Мортемира вполне соответствующая веку прочно буржуазному, так же комически диссонирует с целью его путешествия: запредельность – и фуражка с перчатками!