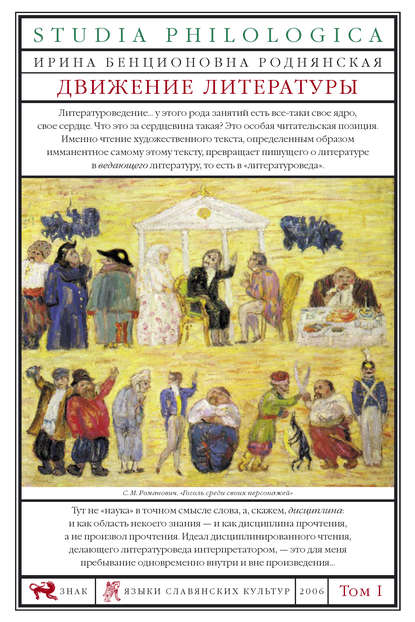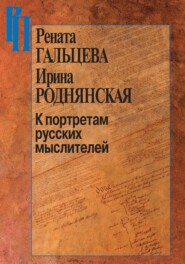По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Движение литературы. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для дальнейшего рассуждения небезразлично, считать ли это стихотворение «недоработанным отрывком», как полагают комментаторы, исходящие из отсутствия окончательной беловой редакции, где ни одно слово уже не подвергается автором сомнению, считать ли его «наброском», по слову Н. Н. Петруниной, оставившей о нем краткое замечание, – или все-таки подойти к нему по-другому.
Я не пушкинист, я – «человек, думающий о Пушкине» (перефразируя юмористический оборот Фазиля Искандера «Я человек, думающий о России»), поэтому решаюсь в первую очередь апеллировать к своему слуху читателя стихов. Я воспринимаю данный текст как оригинальную 12-стишную строфу, отличающуюся способами рифмовки четырехстопного ямба от 14-стишной онегинской строфы, но по-своему не менее закругленную: aBBaCCddEfEf. В ней использованы все виды рифмических чередований: опоясывающая рифма, две парных (женская и мужская) и, наконец, перекрестная. Несмотря на то, что последняя помещена в финал (ее более привычное место – зачинательное), она дает ощутимое впечатление коды, потому именно, что остальные комбинации уже исчерпаны. Интонационная самодостаточность высказывания налицо.
Но вот Н. Н. Петрунина, называя стихотворение «Блажен…» «принципиально новым звеном в развитии интересующей нас темы» (она это звено не пропустила, так что название моего сообщения не совсем точно), допускает, что, по неосуществившемуся замыслу Пушкина, «за сохранившимися строками о «блаженных» давних временах должно было последовать изображение иной судьбы поэта и столь же конкретно очерченном современном мире».[1 - Петрунина Н. Н. «Полководец» // Стихотворения Пушкина 20–30-х годов. Л., 1974. С. 302.]
Возможно, исследовательницу навела на эту мысль аналогия с противительной риторической фигурой в X и XI строфах восьмой главы «Евгения Онегина» («Блажен, кто смолоду был молод…» – «Но грустно думать, что напрасно…») и – неосознанно – с известным стихотворением Некрасова, воспроизводящим ту же фигуру: «Блажен незлобивый поэт…» (Некрасов; полагаю, не знал пушкинского стихотворения, опубликованного только в 1884 году). Однако, во-первых, достаточно привычный для поэтической риторики первой трети века зачин «Блажен…» не обязывает к дальнейшей антитезе – сравним хотя бы со стихотворением Д. Веневитинова «Блажен, кому судьба вложила…»,[2 - Опубликовано посмертно под условным названием «Утешение». Любопытно, что в нем есть словосочетание «сердца людей», как в пушкинском «Пророке», но, верно, независимо от него.] написанным в 1826 году на тему о «высоком даре» поэта. Во-вторых, хорошо известно, что зрелый Пушкин часто оказывал жанровое предпочтение фрагменту, не стремясь доразвить наружно мысль или положение, внутренним образом уже рельефно ему обозначившиеся. Так и в нашем случае с «Блажен…» – он «писах еже писах», сказал, что сказалось, оставив возможное додумывание для новых своих поэтических инициатив. И, наконец, в-третьих – самое важное. Логически говоря (а к логике прибегает любая реконструкция), давние времена, которые Петрунина, отметая пушкинскую иронию, называет «блаженными», могли быть противопоставлены «конкретно очерченному современному миру» лишь в том случае, если бы предполагался общий субъект противопоставления – поэт (как, например, в «Последнем поэте» Е. Боратынского). Но «пиит» из «блаженных» времен ни в коей мере не тождествен поэту – персонажу других стихов Пушкина, стихов, обращенных им к современной ситуации. Это два разных лица, а не постоянная величина, которая, как некий общий коэффициент, может быть перенесена из одной исторической обстановки в другую, контрастную ей.
Так кто же таков этот «пиит» и каким временам, «конкретно» или, напротив, неконкретно – очерченным, он принадлежит? В какого рода прошлое опрокинута его позиция?
С одной стороны, это, как сказал бы М. М. Бахтин, «далевой» эпический образ застывшего эталонного прошлого. Цари – во множественном числе – могут следовать чередой, но в заведенном уставе давно минувших дней ничего не меняется. Далее, это, видимо, славяно-русское прошлое, в нем фигурируют бояре, а не какой-нибудь менее специфичный синоним – скажем, «знать», но русифицирующий штрих достаточно условен и ничем больше не подкреплен. Короче, это легендарно-сказочное прошлое: пиры, слуги, крыльцо (дворца? чертога? терема?) приводят на ум позднейшие пушкинские сказки или юношеские стихи из «Руслана и Людмилы»:[3 - Тут вспоминается, что тогда Пушкину попало от Жителя Бутырской слободы за тот самый просторечный глагол «щекотит» («Щекотит ноздри копием…»), который весьма выпукло прописан в стихотворении, ставшем предметом нашего внимания.]
Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук:
Все смолкли, слушают Баяна.
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть и Руслана и
Лелем свитый им венец.
Но с этим патриархальным прошлым в первых же строках соперничает более конкретный и приближенный образ прошлого, отмеченный словами «пиит» и «вельможи». Они, не будучи точными знаками исторического колорита, отсылают тем не менее к недавнему минувшему – веку осьмнадцатому. Пиит при пышном раззолоченном дворе – не совсем то же, что певец в княжеском ли, царском чертоге с непритязательным черным крыльцом, откуда запросто доносится голос исполнителя. Они, пиит и певец, совмещены исключительно задачей стихотворения и как бы просвечивают друг сквозь друга. Затем, «вельможа» – коренное русское слово общеславянского извода, Пушкин прибегал к нему многократно;[4 - «Словарь языка Пушкина» фиксирует 51 случай употребления – чаще, к примеру, такого употребительного «поэтизма», как слово «венок».] но узусом своим «вельможа» привязан к образу имперской державы, в особенности послепетровской России.[5 - Примечательно, что там, где в синодальном переводе Библии стоят «вельможи», в славянской Библии значатся «цари» или «князи», то есть слово не используется, так сказать, архаически.] И у Пушкина в памятнейших всем случаях: знаменитое стихотворение «Вельможа», где, кстати, упомянуты «вельможи римские» – тоже имперские; «Державин, бич вельмож», «толпы вельмож и богачей» в «Полтаве», – везде слово это уводит от эпоса к конкретно-исторической привязке. В целом выходит так, что в «Блажен…» позиция архаического певца (скальда, барда, условного бояна) по каким-то признакам отождествлена с позицией придворного пиита имперской эпохи.
Тут можно заметить, что двойственный колорит стихотворения отчасти навеян Пушкину его трудами и занятиями в соответствующие месяцы и дни. Авторитетные издания помещают «Блажен…» между серединой сентября и серединой октября 1827 года. В эту примерно пору поэт дописывал так и не дописанного «Арапа Петра Великого», где бояре – уже вельможи (сановники), но еще по-прежнему бояре. Тогда же Пушкин приступает к седьмой главе «Евгения Онегина» с ее московским отливом, взглядом, устремленным на древнюю столицу. Видимо, в это же время он занят опытом в народном духе «Всем красны боярские конюшни…» и едва ли не одновременно перечитывает или припоминает «Вельможу» Державина.[6 - Что следует из материалов к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 66).]
Но все эти пересечения, конечно, не объясняют внутренней цели указанной двойственности.
Объяснит же ее обволакивающая стихотворение ирония. Все тут на редкость благополучно, все социальные и профессиональные роли, размеченные, вопреки сказочным бликам, с трезвой проницательностью, не вступают в коллизию друг с другом…
Работа Пушкина с черновиком демонстрирует, что он шаг за шагом усиливал и эту взаимную пригнанность и – параллельно – иронию. «Пиит», найденный сразу, как и слово «блажен», могут быть для пушкинского времени отнесены и к слою возвышенной, и к слою иронической лексики, – к какому именно, выясняется по ходу дела. Пиит, который владеет смехом и слезами (соответствующая строчка тоже легла на бумагу с самого начала), – это искусник-профессионал, каковыми и были точно угаданные Пушкиным песнеслагатели древности и Средневековья, знакомые со сложнейшими приемами метафорики и версификации украсители пиров. Слушатели же, в свою очередь, не могли не быть знатоками этих изощренных шарад, и хвалы их должны были звучать умно. (Отмечу столь редкую у Пушкина, вызывающе-неточную «державинскую» рифму: пиры – хвалы, – которая не явилась следствием небрежности или недоработки – вначале стояло как раз банально-точное: пиры – дары, – но оставлена как находка, как тончайшее звуковое соответствие ироническому диссонансу, вносимому в благолепие.) Все вроде ладно, а между тем входящее в социальную обязанность архаического певца понуждение к героическим деяниям откомментировано усмешкой автора: «… к славе спесь бояр охотит»; пренебрежительный тон не оставляет места для сомнения в скептической оценке. (Сравните хотя бы с возвышающей стилизацией – припевами гусляров в лермонтовской «Песне про купца Калашникова».)
Но показательней всего – как перемарывал Пушкин четвертый стих и финал: «Сливая с горькой правдой ложь», «Мешая с горькой» – даже «гордой» – «правдой ложь»… Пушкин перестал возиться со строкой только тогда, когда она окончательно скомпрометировала «пиита» и… неожиданно приняла вид, зеркально обратный прославленному изречению из державинской версии «Памятника»: истину царям с улыбкой говорить. Не истину приправлять «улыбкой», легкой лестью («лесть» и «ложь» по-славянски синонимы), а наоборот – ложь приправлять, перчить толикой правды, чтобы раздражить притупленный вкус, не выходя за границы дозволенного.
Черновик многое может сказать и о том, как народ, «толкаясь волнами», слушает певца: «с почтеньем», «прилежно». Все это – как подразумеваемое – осталось потом между строк, окончательная же картина приобрела зримую социальную топографию: народное многолюдство, оттесняемое на надлежащее ему место, тянется расслышать хоть что-то из пиитовой мудрости. Народ здесь избавлен от прямых колкостей, скорее автор готов народу посочувствовать; но лживость певца бросает некий отсвет на качество возбуждаемого им, певцом, интереса, так что народ (в черновике – «простой народ») предстает немного и простофилей. Итог прикровенно саркастичен.
Писалось это как раз во время сближения Пушкина – отчасти делового, отчасти по симпатии – с любомудрами-шеллингианцами из «Московского вестника». Именно в этом органе, который Пушкин считал тогда «лучшим» русским журналом, он напечатал своего «Поэта» – через несколько номеров после публикации одноименного стихотворения Веневитинова – и своего «Пророка». Стихотворение «Поэт» не без основания возводят к романтически-традиционному пониманию миссии творца, с той оговоркой, что раздвоение «поэта» на «ничтожное дитя мира» и совершителя «священной жертвы» не вполне соответствует романтическому канону, требующему от поэта цельного жизнетворческого поведения, неизменно отрешенного от суеты: «Все чуждо, дико для него, / На все спокойно он взирает, Лишь редко что-то с уст его / Улыбку беглую срывает» (Д. Веневитинов). Но если пушкинское стихотворение «Поэт» являет намеренную или невольную полемику с «Поэтом» Веневитинова в пределах, скажем так, одного и того же мифо-философского языка, то «Блажен в златом кругу вельмож…» на этом фоне выглядит форменным скандалом.
Дело в том, что романтики (и это входит в общеевропейский багаж романтизма, даже независимо от собственно шеллингианских представлений об искусстве как органоне высшей истины) могли охотно принять ту диспозицию современного «поэта» и современной «толпы», какая представлена у Пушкина в стихотворении 1828 года с соответствующим названием; но в то же время они с неизбежностью тосковали по роли поэта в так называемые органические эпохи, по его включенности в патриархальный социум, где искусство еще не порвало с народно-культовыми действами и пр., – словом, тосковали по тому, что впоследствии неоромантики-символисты нарекут мистериальной соборностью художественного творчества.
Да, «толпа глухая» не понимает поэта, не постигает священный источник его «свободной песни», навязывает ему служебные, посторонние его молитвенному восторгу цели, – но ведь это толпа «железного века», меркантильной эпохи с ее мнимонаучной полуобразованностью, это не народ, а публика, или, как научил нас сегодня говорить Солженицын, образованщина. Не так было прежде, «в первобытном рае муз» (Боратынский) или – всего ясней – по слову Лермонтова:
Твой стих, как Божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.
Пушкин же дерзнул изобразить роль пиита-певца во времена дальние, патриархальные – как роль всецело вписанную в социальный расклад, интегрированную в социальную горизонталь и сопоставимую с откровенно зависимым его местом в российском XVIII веке, когда поэзия еще не эмансипировалась от государственной службы в качестве личного дела, свободной профессии частного лица. В отличие от языка волхва из романтической «Песни о вещем Олеге», этого раннего предшественника пушкинского пророка, язык «пиита» не правдив, не свободен и не вещ, поскольку целиком производен от социальной службы своего носителя.
Можно заметить, что в стихотворении, о котором говорим, присутствуют все те действователи, каких вместе или порознь встречаем в зрелой лирике Пушкина, в группе пьес о назначении поэтического творчества. Это сам поэт, это сонм оценщиков его «песен», это власти и, наконец, народ в расширительном смысле слова. Отсутствует лишь Тот, Кто является первоисточником поэтического вдохновения и залогом его независимости, – Бог. Это зияющее отсутствие, собственно, и обеспечивает всей картине ироническую тональность. В каком-то отношении предъявленную расстановку можно бы назвать «экспериментальной»: вот как оно выглядело бы, пусть и в давнее, неторгашеское время, если бы поэт не был с волей небесною дружен, не томился духовной жаждой, не исполнялся волею свыше, не был послушен только веленью Божию. Выглядело бы – едва ли достойно, скорее – потешно. Ведь и в своем публицистическом оправдании – стихотворении «Друзьям», которое вообще-то следует читать исключительно сквозь призму породивших его обстоятельств, поэт (певец) потому именно считает для себя уместной приближенность «к престолу», что он избран Небом и, значит, говорит «языком правды».
Короче, поэт не может быть растворен в мирском социальном порядке, каким бы ладным и органически справедливым этот порядок ни представлялся ему в романтической жажде солидарности. В этом смысле и надо понимать слова, однажды произнесенные Ахматовой: «поэт всегда прав», – хотя мы отлично знаем, во всех остальных смыслах он бывает не прав, как и прочие люди.
Решусь сказать, что Пушкин сделал некое предупреждение русской поэзии, предостережение впрок, оказавшееся весьма своевременным в канун большого движения в ней, когда стихотворение 1827 года как раз увидело свет. Символисты, несмотря на религиозно-мистериальную составляющую их манифестов, шли по пути поэтически несвободного неонародничества, – и Блок, отрезвляемый ходом событий, только в речи о назначении поэта вернулся к пушкинской позиции. Ну, а Маяковский, безусловно, владевший смехом и слезами («Я знаю силу слов, я знаю слов набат… от этих слов срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек»), когда он присягал: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», – ставил себя в положении пиита из пушкинского стихотворения и вместо обещанного там «блаженства» ввергся в муку, приведшую его к катастрофе. Соглашусь с теми, кто склонен считать, что именно акмеисты (разумею главные имена) хотя бы отчасти вернули русскую поэзию к высокому пушкинскому здравомыслию, – и это оттого, что Божий глас они понимали как обращенный лично к себе, а не как один из знаков мистифицированного коллективизма. Кстати, это не мешало церковности Ахматовой или Гумилева, скорее – помогало.
В заключение не мешает подчеркнуть вот что. Приподнимая поэта над социальной плоскостью, ближе к небесам, Пушкин вовсе не отчуждал его от социального пространства. В «Памятнике» он все расставил по местам. Владимир Соловьев считал этот итог пушкинских размышлений о «значении поэзии» компромиссом между «поэтом» и «людьми», не ущемляющим достоинства обеих сторон. Но, как уже не раз трактовалось, опорные понятия приведены здесь не в компромиссное, а в иерархическое соотношение. Бог повелевает поэту через свободно приемлемое вдохновение; государство, власть бессильны над ним возвыситься, но являют собой ценность – как объективную (единое державное, и тем самым культурное, поле «Руси великой»), так и в масштабе его грядущей судьбы («Слух обо мне пройдет…» – от рубежа к рубежу); истинные ценители, близкие душе поэта (он видит в них собратьев), не переведутся в потомстве; народ («большой народ», по Соловьеву) будет «тесниться» на тропе к нему, дорожа тем, что и самому поэту дорого, – свободой и милостью, тем, что объединяет его со всеми людьми доброй воли; и при этих условиях «венец» от современной публики – в ее модусе «толпы» – теряет привлекательность и помещается на низшей ступеньке.
После Пушкина так найти всему свое место никто в русской поэзии уже не умел.
Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней
При неизбежном ныне чтении газет, при выслушивании всевозможных политических рацей мне все чаще приходило на ум: а как там об этом сказано у Пушкина? Ну, например: «пружины смелые гражданственности новой» – только о них мы нынче и толкуем. Но о наполнении емких формул такого рода – чуть позже. Сначала – об их месте в пушкинской поэтической речи.
Перечитывая стихотворный корпус Пушкина, я пришла к не предвиденному заранее выводу, что здесь первенствует – на молекулярном, так сказать, уровне – именно мысль: его поэзия, его лирика, что называется, квантуется мыслями. Если Боратынский, если Тютчев – поэты-мыслители, заведомо сделавшие свою заветную мысль предметом поэтической фиксации, то не кто иной, как Пушкин, заслуживает титула, который не ему был присвоен: поэт мысли. Он насыщает мыслительными озарениями каждую пору поэтического высказывания, даже когда предмет его очень далек от интеллектуальных материй. Пусть возразят мне зацитированной пушкинской репликой: поэзия, дескать, должна быть «глуповата». Отвечу строками из «Евгения Онегина»: «Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка». Тут с очевидностью – мысль предпочтительный атрибут стиха, а гладкость – вовсе не синоним гармонии. (Конечно, «стих без мысли» может явиться и суггестивным, гипнотическим стихом высочайшей проникновенности: «есть речи – значенье темно иль ничтожно…» – но это не пушкинский стих.)
Пронизывая поэтику Пушкина на микроуровне, его мысль, естественно, находит себе предельно лаконические пути выражения. Так что зону афоризма применительно к пушкинской поэзии надо очерчивать в гораздо большем радиусе, чем предполагается обычно. Разумеется, блистательный ум Пушкина-стихотворца произвел на свет немало изречений, изначала провербиальных и действительно вошедших в поговорку: «… как беззаконная комета в кругу расчисленном светил», «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» и т. д. Но в таком вкраплении в поэтическую речь эффектных и глубокомысленных сентенций не столь уж много собственно пушкинского; и Боратынский, и Вяземский, и сверкающая заостренными пуантами лермонтовская романтическая лирика («была без радости любовь, разлука будет без печали», «мне грустно потому, что весело тебе») – могут оказаться тут едва ли не более щедрыми источниками отточенных максим.
Чисто пушкинская же афористичность входит глубоко внутрь минимальных речевых конструкций, двумя-тремя словами схватывая предлежащий ей предмет «в свои объятия тугие». Пушкин нашел для себя особые приемы сгущения мыслей в гомеопатические дозы словесных эссенций, выражающих сколь угодно сложное содержание – от наблюдений за душевными движениями до историософии и метафизического умозрения, эстетики и этики. Это качество пушкинского поэтического стиля можно еще назвать формульностью. Пушкин создал собственный ситуативный язык мысли взамен того «интеллигентского» языка абстрактных понятий, который в его время едва начал складываться, создал как бы упреждающую поэтическую альтернативу последнему.
Первая особенность этой «скрытой», внутриатомной афористики Пушкина – антиномичность и парадоксальность (напомню: «гений, парадоксов друг»), то есть нарочитая умственная «негладкость»; вторая – «пунктирность», перескок-перелет через целые цепочки логических и ассоциативных звеньев, а отсюда – метонимичность, тяготение к синекдохе, что подчас ведет к головокружительному смещению признаков и заставляет ум читателя двигаться кратчайшим воздушным путем вместо извилистого наземного. Эти качества станут очевидны, как только мы предпримем самую предварительную «классификацию» любимейших пушкинских оборотов.
Во-первых, обратим внимание на «поэтические определения» (как они названы В. Жирмунским в отличие от «украшающих» эпитетов). Пушкин любит прилагательное, у него редкое ключевое слово остается без такой добавки, чья дерзновенность соперничает только с ее уместностью.
Возникает не что иное как афоризм наименьшей протяженности. И надо сказать, что даже у раннего, совсем юного Пушкина эти перлы то и дело попадаются в гуще традиционной фразеологии. «Краев чужих неопытный любитель» – то есть не основывающийся на опыте собственных от них впечатлений (тут, конечно, вспоминается, что так и остался Пушкин «невыездным»). Или: «… средь славных бед» – средь исторических событий, трагических и масштабных одновременно (речь идет о Французской революции); пример своего рода оксюморона, рассчитанного не на внешний эффект, а на объективно-сложную оценку. «И твой восторг уразумел восторгом пламенным и ясным» (обращено к Жуковскому): восторг – «пламенный» в согласии с романтической традицией, но то, что он еще и «ясный», сближает его с будущим пушкинским определением сосредоточенного вдохновения (как раз отличаемого от «восторга») и привносит смысловой оттенок родства всех служителей прекрасного; ведь пламенеть восторгом может и поклонник, но ясность понимания – только у собрата.
Тем паче – у Пушкина зрелого. «Усердной местию горя…» – таков опричник: месть местью, но он – на службе, значит, истязая, еще и усердствует. «Любуясь девою в печальном сладострастье…» – сразу и умиление, и горечь от недостижимости. А вот обещанные выше метонимии, воплощенные именно в определениях; к некоторым мы уже привыкли, к таким, как «опальный домик», – и не ощущаем здесь стремительной подвижки значений, к другим же привыкнуть, кажется, невозможно: «И оба говорят мне мертвым языком / О тайнах счастия и гроба», – «мертвый язык» вместо «языка умерших» – потрясает. Пушкинские эпитеты: «печальное сладострастье», «усердная месть», «блистательный позор», «погибельное счастье» – ввиду их кричащей контрастности и нестыковки могли бы показаться бенедиктовщиной впереди Бенедиктова, когда бы не их поразительная экономическая точность: ими, словно иероглифами, записаны целые мыслительные маршруты. И еще, по готовности поэта положиться на ассоциативные стяжки смыслов пушкинские эпитеты напоминают разве что эпитеты Мандельштама: «кочующие дни» (из «Цыган») или «насильственная тень» от зеленых насаждений в пыльном городе («Путешествие Онегина») нисколько не менее удивительны, чем «простоволосые жалобы ночные» в «Тристиях», с той разницей, опять-таки, что задача «далеко-отстоящих» эпитетов Пушкина – попасть в яблочко, а не окружить центр мишени кружевным ореолом пробоин.
Следующий очаг афористики у Пушкина – это перифраз, или распространенное приложение. Весьма стандартная фигура классицистической риторики (типа: «Любимые сыны и Марса и Беллоны») превращена в инструмент целого энциклопедического лексикона, вмещающего широкоохватные характеристики сонма «властителей дум». Тут и Вольтер, и Руссо, и «энциклопедии скептический причет», и Наполеон, и Байрон, и русские полководцы и литераторы. Некоторые перифрастические характеристики переписывались Пушкиным в течение всей жизни. Это касается прежде всего Вольтера и Наполеона, занимавших Пушкина измлада. С самого начала и до конца в глаза бросается смысловая объемность таких формул, совмещение в них взаимоисключающих (они же взаимодополняющие) качеств. Например, в Вольтере – соединение очаровательной непринужденности и злого старческого цинизма: «певец любви <…> фернейский старичок», «философ и ругатель, «фернейский злой крикун <…> седой шалун», «… циник поседелый, умов и моды вождь пронырливый и смелый», «с очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой, с устами, сжатыми наморщенной улыбкой». В Наполеоне – сочетание героики ведо?мого роком свершителя исторических жребиев и беззастенчивости узурпатора, диктатора, «всадника» (древнеримская аллюзия); в неоконченном (?) стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге» на его фигуру словно наброшена перифрастическая сеть, рельефно облегающая контуры: «… сей чудный муж, посланник провиденья, / Свершитель роковой безвестного веленья, / Сей всадник, перед кем склонилися цари, / Мятежной вольности наследник и убийца, / Сей хладный кровопийца, / Сей царь…». Замечу, что идеальной рамой перифраза у Пушкина становится шестистопный ямбический стих – «извилистый, проворный, длинный, склизкий и с жалом даже – точная змея». Его просторная строка с избытком окормляет любой формульный оборот, и в конструктивном отношении ранний александриец («К другу стихотворцу», «Безверие», «К Лицинию», затем – первое «Послание к цензору») мало отличается у Пушкина от позднего («Полководец», «К вельможе», «Странник»).
Еще более специфична для пушкинской «формульности» особая речевая модель, состоящая из ключевого слова, дополнения к нему и определения к одному или к обоим членам. Эти сгустки словосмыслов суть главные, быть может, средоточия «неявной афористики», здесь легко узнается пушкинская рука, здесь чувствуется сугубо пушкинская интонационная логика – и нам трудно поверить, что знаменитый стих: «И ласковых имен младенческая нежность» – не более чем победительно-удачный перевод с французского. Благодаря такого рода конструкции тончайшие наблюдения над человеческой душой как бы замыкаются в алгоритм, возводятся в степень непреложных психологических законов: «И быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе»; «Я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний»; «Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать»; «И на погибшую глядел в немом бездействии страданья».
Но не только душу, а и «области заочны» зондируют подобные «алгоритмы». Вот, к примеру, строки о демоне из стихотворения «Ангел»: «И жар невольный умиленья / Впервые смутно познавал». В уже знакомой нам трехчленной формуле центральное слово, конечно, – «умиленье», нагруженное традиционно русским религиозным смыслом. Но не просто «умиленье», а «жар» умиленья – то есть согревающая сердце теплота благодати, которая в метафизическом лексиконе Пушкина (опять-таки в согласии с сакральным пониманием) противопоставлена «холоду», «хладу» как бесчувствию и отключенности от всего горнего. В довершение, жар этот – «невольный»: воля демона по-прежнему остается в непрестанном противлении (тут приметим еще, что глава ангела – «поникшая», он-то смиренен и смирением своим – сияет), но благодать проникает помимо воли в его восприимчивую природу – как-никак природу творения Божьего. Потому-то восприятие благодати, в обход воли, – «смутное». Чтобы выстроить эту теологему, не требуется никаких натяжек, достаточно ввериться твердым указаниям пушкинской руки.
Наконец, к еще одному, вероятно, не последнему, проявлению «формальной» стилистики Пушкина можно отнести тройственные перечисления, такие, как: «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник»; «тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасно грудь»; «Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры»; «Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами»; «И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир»; «А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать»; «И кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари». Примерам несть числа. Как и перифраз, это довольно-таки обычный риторический прием, отличающийся мнемоничностью и убеждающим нажимом. Но у Пушкина он, кроме на редкость мотивированного подбора значений (ими словно исчерпываются все варианты и все стороны ситуации), нередко еще отличается выделенностью одного из слов, парадоксально несопоставимого с двумя своими соседями. Например, шутливое: «… ни муз, ни Пресни, ни харит». Или куда более весомое: «Но ты останься тверд, спокоен и угрюм», – третье слово резкой чертой обозначило цену, какой оплачено одинокое спокойствие поэта, столь далекое от олимпийского. Или еще: «… для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи», – телесно-конкретная «шея» демонстрирует всю меру возможного насилия над невещественными «помыслами» и «совестью»…
Еще раз подытожу свои затянувшиеся пролегомены. Пушкин как поэт «сжатой» (пользуясь словом Боратынского), афористической мысли создал в стихе одному ему присущий интеллектуальный язык. (Вернее, само его поэтическое слово, кристаллизуясь в краткие определительные формулы, доносит до нас образ неустанно мыслящего Пушкина – равно как и образ его мыслей.) И этот особый по складу язык отличается от философского, научного или публицистического говорения двумя коренными чертами. Во-первых, – недоверием к термину и выражением сложнейших умственных понятий в обход какой бы то ни было терминологии, пусть и употребительной в пушкинскую пору. Во-вторых, – отсутствием идеологизма при готовности к рельефным и уверенным оценкам. Вообще говоря, пушкинский словарь, расширявший, как известно, границы поэтически допустимого, не чурается ни терминов, в большинстве своем перешедших в наши дни (ибо мы и сегодня все еще растем из прежнего корня новоевропейской цивилизации), ни политического словаря своей эпохи. Мы обнаружим у поэта и слой просвещенческо-масонской лексики, либо уже устаревшей («друг человечества» и тому подобное, впоследствии спародированное в «символе веры» Ленского – строфа VIII второй главы романа), либо сохранившейся до наших дней («права людей» в пушкинской ноэли – те же, что и нынче, «права человека», вложенные еще Лагарпом в голову и уста Александра I). Мы находим в стихах Пушкина и «идеолога» (это словечко с будущим есть и у Дениса Давыдова), и «физиолога», и «скептика», и «деиста», и «афеизм». Но все эти казусы – скорее периферийные. Когда Пушкину требуется серьезно аттестовать явление, «раскусить» его, он идет своим путем.
На этом пути мы откроем у Пушкина многое из того, что будет терминологизировано гораздо позднее – только в современном политическом языке и притом с большими смысловыми потерями… Вдумаемся в сокровенно точный смысл «трехчлена»: «И кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрила алтари». Пушкин ставит моральный диагноз: «гордость» – тому, что сегодня зовется «политическими амбициями», а главное – прозорливо видит в таковых амбициях самостоятельный мотив для массового кровопролития, хотя, как мы знаем, «алтарь гордости» всегда склонен выдавать себя то за «алтарь славы», то за «алтарь свободы». А вот удар по тому, что впоследствии обозначится уродливым лексическим заимствованием «консумеризм». «Он будет жизнию доволен, / Не зная вечно-новых нужд», – говорит Алеко о своем младенце в черновике «Цыган». Перпетуум-мобиле потребительской цивилизации схвачено в парадоксальном составном эпитете (ср. с невыразительным «непрерывно растущие потребности»). Одна из самых поразительных политико-философских формул Пушкина частично уже была упомянута: «Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый, / Пружины смелые гражданственности новой». Можем принять, что сегодня ей соответствует без конца поминаемая в печати «система сдержек и противовесов». У Пушкина почти та же мера лаконизма обнаруживает несопоставимое по богатству содержание. Под его констатацию подходит и двухпалатная система (таков прямой смысл двустишия, отнесенный к английскому парламенту), и заведенное той же пружиной разделение властей, где «натиск пламенный» и «отпор суровый» будут попеременно характеризовать то законодателей, то исполнителей, и отношения оппозиции с победившей стороной, и поочередное преобладание на политической сцене западных демократий консерватизма и прогрессизма. Поистине, эта гражданственность – «смелая», ибо не побоялась ввести в легальное русло противодействие правящим властям. И – «новая»: в способах достижения политической стабильности она открыла новую эру, чей приход Пушкин уловил по немногим ранним признакам – быть может, просто в результате чтения Монтескьё.
Отсутствие идеологизма в «формульной» поэтике Пушкина предполагает, конечно же, что всесторонняя полнота правды – суд как бы с дистанции исторического потомства – важнее защиты собственного целенаправленного пристрастия. Уже у раннего Пушкина эта незавербованность идеологией сказывается прямо-таки яростным столкновением противоположных смыслов на кратчайших отрезках текста. В оде «Вольность» убийцы тирана так же отвращают от себя поэта, как и сам тиран, и это находит законченное выражение в симметричном риторическом кольце: «Падут бесславные удары… / Погиб увенчанный злодей» (в двух грамматически параллельных парах негативная оценка вначале падает на прилагательное, а затем – на существительное, чем и достигается почти математический эффект «кольца»). В другом сравнительно раннем создании Пушкина – «Наполеон» (1821) – едва ли не каждая строфа построена на сознательно выделенных «оксюморонных» противочувствиях: «чудный удел» – но презрение к благородным надеждам человечества; позор – но позор «блистательный»; надменность – но и «высота отважных дум»; и даже такой вот узел колеблющейся оценочности, как «зло воинственных чудес». Такова же парадоксальная двухоценочная формула: «… Франция, добыча славы», по глубокому своему смыслу связанная с предшествующим ей стихом, раскрывающим вековечную тайну любых версий бонапартизма: «Их цепи лаврами обвил». (Пока мы будем пьянеть от лавров Победы на наших цепях, цепи с нас окончательно не упадут.)
И в оде «Вольность», и в «Наполеоне» упоминается «потомство» как знак дистанции, необходимой для свободы суждения: «Восходит к смерти Людовик / В виду безмолвного потомства»; «И для изгнанника вселенной / Уже потомство настает». Общий знаменатель такого подхода к человеческим, историческим деяниям: великодушие. Понятия «великодушия» и «малодушия» (причем второе – не в закрепившемся ныне значении «трусости», а в более широком – мелкости душевной, равнодушия к высокому) и производные от этих слов определения любимы Пушкиным и наполнены у него не чисто моральным, а морально-общественным и морально-политическим смыслом. Пожар Москвы 1812 года – «великодушный» (гражданская самоотверженность перед лицом врага); Федор Глинка – «великодушный гражданин»; победившей в 1789 году свободе принесена «великодушная присяга»; укор поверженному Наполеону на его «торжественной могиле» может исходить только от «малодушного»; малодушие – это и неверность своему предназначению («В заботах суетного света / Он малодушно погружен»). Не менее важно заметить, что эти ценностные понятия, посегодня прочно входящие в живой литературный язык, едва ли не полностью исчезли из нашего публицистического словаря, из политической фразеологии и риторики: дескать, политика – грязное дело. Пушкин, человек с огромной широтой и напряженностью политических интересов, так не думал.
Решившись считать оксюморонную, антиномическую оценочность знаком преодоления идеологизма, я наткнулась только на два приметных случая, не отвечающих у Пушкина такому критерию: это «Воспоминания в Царском Селе» и «Клеветникам России». Если первое стихотворение с ученической наивностью и безоговорочным энтузиазмом отражает официальный взгляд на исторические события ближайших лет (при том что оно «заказное», к экзаменационному торжеству), то второе блистательно, на века вперед, выполняет неумирающее идеологическое задание, и его литая формульность не обнаруживает ни малейших оценочных колебаний и попыток взглянуть на ход вещей с разных точек зрения.
Зато гениальное послание «К вельможе», своего рода краткая историческая энциклопедия «грани веков», бросает на минувшие бурные десятилетия взгляд как бы с дистанции «младых поколений», изобилуя афористикой глубочайшей объективности и прозорливости. Только Пушкин мог о разгуле плебейской революционной стихии на почве, взрыхленной идеологами Просвещения, сказать тремя – тремя! – словами: «союз ума и фурий». Более того, в этом шедевре все тем же экономичнейшим образом не только воспроизведено движение истории, но даны и два типа философии истории – принадлежащий XVIII («оборот во всем кругообразный») и XIX веку («все новое кипит, былое истребя»). Тот, о ком сказано: «для жизни ты живешь», – хранит невозмутимую верность житейской чреде, схожей с сезонным круговоротом, но свидетели «жестоких опытов» истории, смолоду этими опытами наученные, не верят в успокоительную повторяемость сущего и с апокалиптической тревогой заглядывают в будущее. Оба воззрения в глазах поэта верны – каждое по-своему. Его точка обзора возвышается над тем и над другим.
С первого взгляда очевидно, что в пушкинской россыпи поэтических формулировок есть упорно повторяющиеся ключевые слова: они переходят из одного афористического контекста в другой и в межстиховом диалоге уточняют собственную семантику. Я остановлюсь на нескольких из них, подходящих для сопоставления с современным публицистическим словарем: свобода, закон, честь, толпа, народ.
Итак, «свобода» («вольность») в пушкинской афористике всегда сопрягается на уровне политическом с «законом», а на уровне личного поведения и общественного настроения – с «честью». Свобода и закон – Свобода и честь. В особых пояснениях это не нуждается. Первое – нормальное состояние гражданского общества, второе – желательное состояние гражданина. (И хотя «новорожденная» в огне политической революции свобода может быть озвучена тонами «буйства», «грозы», даже и в этом случае «свободой грозною воздвигнутый закон» свидетельствует не только о гибельности, но и о ценности ее.) Свобода, вольность – «святая» (ода «Вольность», «К Чаадаеву»), «священная» («Андрей Шенье»); в пушкинистике уже отмечалась ее сакрализация на основе Священного Писания («Рекли безумцы: нет – свободы, / И им поверили народы» – аллюзия на псалом, где говорится о безумии богоотрицания; «свободы сеятель пустынный» приравнен к сеятелю Слова Божьего в евангельской притче).