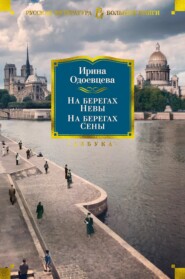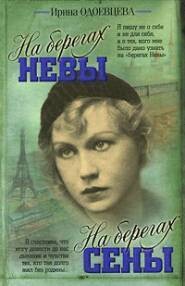По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На берегах Невы
Жанр
Серия
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна. По совершенно безлюдным, темным – «хоть глаз выколи» – страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: «Скидывай шубу!», мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик.
Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:
– А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.
Я всегда с радостью соглашалась.
Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знамением», а не просто крестился.
Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.
Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.
Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.
Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.
Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.
И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.
Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.
– А была минута, мне даже страшно стало, – рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.
Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.
– И даже очень страшно, – подтвердил Гумилев. – А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.
Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, «слух» о «контрреволюционном выступлении Гумилева». Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептали друг другу, пугливо оглядываясь:
– Слыхали? Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!
Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер – был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.
…Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной.
Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.
Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду – к этому у меня уже привыкли.
Я поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили – для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»
Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня – вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта – оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы:
– Хотите у меня работать? Сыты будете.
Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она – и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать – весной 1921 года.
Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамильярным:
– Входите. Дома!
Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи, дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.
Гумилев недовольно прерывал чтение.
– Что вам, Паша?
– А ничего, Николай Степанович, – мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке, спрятав руки под передник. – Послушать пришла стишки. Только и всего.
И Гумилев, благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате. Как-то он все же спросил ее:
– Нравится вам, Паша?
Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:
– До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем как раньше в церкви бывало.
Ответ этот поразил Гумилева:
– Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.
Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стряхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.
Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости. Я стучу в дверь.
– Войдите!
И я вхожу.
Низкая комната, мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь…
Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года:
Белым полем шла я ночью,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
– На земле и на небе радость —