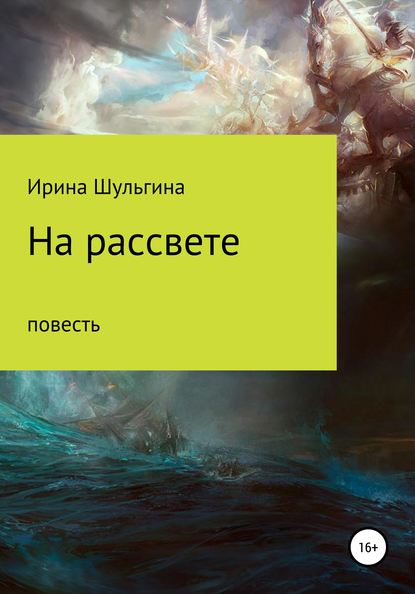По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На рассвете
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И что же было дальше? Ей вынесли приговор и…
– Ревекку подхватили с двух сторон за локти и повели. В первый миг меня удивило, что мы не пошли сразу к городским воротам, чтобы выйти из города и осуществить приговор суда, а зачем-то потащили Ревекку через Нижний город к лестнице, соединяющей его с Верхним. У себя за спиной я слышал, как они перешептываются. До меня донеслись чьи-то слова: «Он сейчас там. Пойдем к нему, посмотрим, что скажет». И кто-то, кажется, мой отец, ответил: «Вот и поймаем его на слове. Велит ее отпустить, – значит, он – вероотступник, попирающий Закон. А скажет – наказать, значит, он попросту лжец и мошенник, и никакого нового учения не имеет». И мне послышалось, как говорившие это захихикали. Я было оглянулся, пытаясь прочесть на их лицах какое-то объяснение, но, конечно, ничего не понял. Лица у всех были суровы и непроницаемы – ни тени жалости, ни искры сочувствия. А спрашивать что-либо у меня не было сил. За нашими спинами я увидел сгорбленную фигуру с серыми волосами – это несчастная Рут, посыпав в отчаянии голову пеплом, тащилась за нами в безумной надежде спасти свое дитя. Ее пытались прогнать – не женское дело быть свидетельницей наказания. Она отбегала, отставала, но продолжала ползти за нашей процессией…
* * *
Рут и сейчас живет у Навозных ворот. Но теперь ее невозможно узнать – после того, что случилось с ее дочерью, разум ее помутился. Я как-то раз попытался к ней зайти – тайно, чтоб никто из моих не увидел. Хотел спросить у нее, не знает ли она, где Ревекка, может быть, дочь как-нибудь известила свою мать. Я пришел и ужаснулся тому, что увидел – их домик был полуразрушен, все стены – в трещинах, во дворе – нечистоты. Из покосившейся двери ко мне вышла страшная, косматая старуха с серым лицом и безумным взглядом. Я с трудом узнал в ней Рут. Ведь еще год назад это была статная, миловидная женщина, всегда, несмотря на бедность, опрятно, чисто одетая. Сердце мое сжалось при виде ее отчаяния, я не стал ничего спрашивать и хотел, было, дать ей денег, чтобы она купила себе хотя бы хлеба. Но Рут швырнула монеты на землю и стала злобно плеваться в мою сторону. Узнала ли она меня, своего зятя? Винит ли она меня в том, что произошло? Не знаю. Кое-кто рассказывает, что раз за разом она выползает из своей жалкой конуры, выходит за городские ворота, подолгу стоит на дороге и смотрит вдаль, будто ждет кого-то…
* * *
Вдруг Накдимон отчаянным жестом схватился за лоб и тихо застонал. Потом резко вскочил, сделал пару шагов и оперся плечом о стену. Было очевидно, что воспоминания так мучают его, что ему трудно спокойно сидеть.
– Наконец мы подошли к каменной лестнице, соединяющей обе части города, и тут я, наконец, понял, что они задумали: Ревекку проведут по главным улицам к Храму, где сейчас толпится народ – пусть как можно больше людей увидит ее позор, пусть она услышит проклятья в свой адрес, пусть почувствует плевки на своем лице. Вот тогда она поймет до самой глубины своей души, как суров и неотвратим древний Закон.
Мерула слушал, не дыша. Сердце его колотилось. Перед глазами его встало искаженное страхом лицо Селены – такое, каким он видел его тогда, на улице Иерусалима, и ему отчего-то сделалось так больно на душе, что он в смятении вскочил на ноги. Темное покрывало ночи стало прозрачнее, к Кесарии на цыпочках подкрадывался рассвет. Мерула увидел, что Накдимон смотрит на него в изумлении, и поспешил заверить гостя, что у его сиденья подломилась ножка. Потом он вновь уселся на табурет, и потупился, стараясь скрыть свои чувства.
– Я, – продолжал Накдимон, и голос его дрожал от волнения, – как положено разгневанному мужу, держал Ревекку за худенький локоть. Она спотыкалась на каждом шагу, сандалии ее порвались, пальцы ног были окровавлены. Иногда она вскидывала на меня глаза, но мне казалось, что она не узнает меня и вообще не понимает, что происходит. В глазах ее был только страх и покорность, как у обреченного, замученного животного.
А я страшно томился, сердце у меня ныло. Я уже не испытывал к ней ни ревности, ни злобы – только жалость и отчаяние от своего бессилия. Прохожие останавливались, перешептывались, а когда узнавали, в чем она провинилась, кричали ей оскорбления и проклятия. Особенно неистовствовали женщины, они плевали и швыряли в нее мелкие камушки, стараясь попасть в лицо и грудь.
«Да-да, именно так», – маялся Мерула – прошлогодняя сцена так ярко встала у него перед глазами, словно все происходило вчера. Он вспомнил, что тогда хотел было спросить кого-то из прохожих, куда волокут эту женщину и что она сделала, но через миг равнодушно отвернулся и пошел по своим делам. Дойдя до конца улицы, он и вовсе выкинул увиденное из головы – выкинул, как тогда ему казалось, навсегда.
Поглощенный собственными переживаниями Мерула даже на какое-то время упустил нить рассказа.
– Я все шел и думал, как можно было бы спасти ее, – донеслись до него слова иудея. Мерула спохватился и напряг слух. – Все прокручивал в голове, как бы вырвать ее из их рук и убежать, но понимал, что это невозможно и спасения нет.
И вот мы вышли на храмовую площадь. – Накдимон вдруг прервал рассказ и выпрямился. Мерула почувствовал, что сейчас он услышит что-то особенно важное, и весь напрягся, чтобы даже вздохом не помешать рассказчику.
– На ступенях Храма сидел человек. – говорил Накдимон, понизив голос, будто хотел сообщить собеседнику сокровенную тайну. – Наша процессия на миг остановилась. «Вон он», – сказал кто-то у меня за спиной, и мы направились к этому человеку. Но он не смотрел на нас, сидел, опустив голову, длинные густые волосы закрывали его лицо. Он что-то палочкой писал на песке, показывая, что ему нет до нас никакого дела. Помолчали, потом я услышал голос Шимона Бен-Йоши, великого знатока Закона, чрезвычайно уважаемого у нас книжника. («О каком законе он все время говорит? – думал тем временем Мерула. – Какие у них есть еще законы, кроме нашего римского?»).
«Рабби! – надменно произнес Шимон, тыча пальцем в Ревекку, – эта женщина была поймана в тот момент, когда изменяла мужу. А в нашей Торе Моше повелел побить такую женщину камнями. Что ты скажешь об этом?». И все вокруг затихли, ожидая ответа от незнакомца. Он поднял голову, окинул нас взглядом, а потом опять склонился над своей палочкой, будто не желая отвечать. Но, Мерула, – произнес Накдимон, и голос его зазвенел, – этого одного взгляда мне хватило, чтобы надежда на спасение вдруг пронзила меня, как острая боль! Словно обезумев, я смотрел на склоненную голову незнакомца, не произнося ни звука, и в душе молил его спасти мою любовь. Но он молчал и все водил палочкой по песку, как бы давая понять, что мы должны сами решить это дело. Его продолжали спрашивать, и вот, наконец, он поднял голову и встал.
Мерула, не шевелясь и приоткрыв рот, во все глаза смотрел на иудея. Ему казалось, что того подхватила и несет какая-то неведомая сила – глаза его горели, рукава одежды развевались, как крылья птицы, слова лились свободно и вдохновенно:
– Знаешь, Мерула, прошлый год был очень беспокойным! Со всех сторон только и говорили о том, что явился необыкновенный пророк, и может быть даже – Машиах, что одним взглядом он поднимает больных с одра, что по его слову хлеба падают с небес в руки голодным, что разъезжает он на осле золотой масти и девы выстилают ему дорогу белоснежными одеждами. Мой отец чрезвычайно язвительно смеялся над этими россказнями и предупреждал нас, своих домашних, не верить сказкам глупой толпы. Но сейчас, стоя перед незнакомцем, я невольно вспомнил эти рассказы, и надежда охватила меня, как безумие. Я не сводил с него глаз и старался отыскать в нем необыкновенные черты.
Однако в нем ничего необыкновенного не было – обычная одежда, запыленные сандалии, как у путника, прошедшего много дорог. Но никогда, до конца моих дней я не забуду его глаза. Мне показалось, что он заглянул мне в самую душу. Рука моя непроизвольно отпустила худенький локоть Ревекки, и мои пальцы переплелись с ее ледяными пальчиками. И теперь мы стояли перед незнакомцем, будто брат и сестра, будто двое сирот, оставленные всем миром.
Мерула слушал с таким вниманием, что ему самому мгновениями казалось, что он видит своими глазами то, о чем говорит рассказчик.
– Тем временем незнакомец спокойным взором окидывал каждого из нас. А вокруг, ты не поверишь, Мерула, вдруг сделалась такая тишина, словно в глубоком подземелье. Может быть, только одному мне так казалось, но куда-то пропали и голоса людей, и пение птиц, и шепот ветра. И вот, наконец, я услышал его голос – нисколько не громоподобный, обычный человеческий, спокойный голос. «Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит в неё камень». И тот, которого называли рабби, опять сел на ступеньку, опустил голову и продолжал черкать палочкой по придорожной пыли, как бы показывая нам, что больше говорить с нами не будет.
Но этих простых слов и взгляда, которым он словно заглянул в душу каждого из нас, оказалось достаточно. Краем глаза я заметил, что мой отец вдруг повернулся и поспешил прочь, ссутулившись и втянув голову в плечи, как человек, обличаемый стыдом. За ним ушел Шимон, потом – другой, третий, молодые потянулись за старшими, и так один за другим разошлись все. И не стало страшной толпы, будто не было. Я было тоже отбежал в сторону, но, не сделав и нескольких шагов, остановился и обернулся. Странно, но никого больше не было на площади в эту минуту, только моя Ревекка, в одиночестве стоящая перед незнакомцем, я – поодаль от них, да в дальнем углу площади маячила несчастная Рут. Незнакомец опять поднял голову и смотрел на Ревекку, и я будто кожей чувствовал, как она внимает ему. Ветерок донес до меня их слова. «Женщина! – сказал ей наш спаситель, – где они? Никто не обвиняет тебя?». И она дрожащим голосом отвечала: «Никто, господин».
«Я тоже не обвиняю тебя, – сказал он, и легкая улыбка заиграла на его губах. – Иди, и более не греши». Ревекка повернулась, увидела меня и бросилась ко мне. Мы сжали друг друга в объятьях и так стояли – не могу сказать, сколько времени. Потом мы разом, не сговариваясь, обернулись туда, где недавно сидел наш чудесный спаситель, но никого уже там не было, только палочка валялась на песке. До сих пор не понимаю, куда он мог так быстро уйти?
Взявшись за руки, мы почти бегом ринулись с площади и столкнулись с полуживой от страха Рут. Дочь кинулась в объятья матери, и обе принялись громко рыдать. Я бормотал что-то невразумительное, гладил их по головам, пытаясь успокоить. Редкие прохожие на миг останавливались около нас и качали головами, наверное, думали, что видят перед собой троих помешанных. Впрочем, так оно и было.
Светильник в вестибуле почти погас, стало темно, но Мерула почувствовал по голосу Накдимона, что тот тихо улыбается своим воспоминаниям.
– Наконец, женщины успокоились, и Ревекка сказала: «Расстанемся здесь, матерь моя. Я должна идти в дом к мужу моему». И показалось мне, что даже голос у нее изменился и вся она в одночасье стала тише, строже и взрослее. Рут кивнула и ушла, а мы с Ревеккой… Нет, Мерула, мы не пошли домой, а покинули пределы города и углубились в рощу за потоком Кедрон. Все дальше и дальше уходили мы от городских стен, и, наконец, вышли к маленькому водопаду, весело скачущему по камням на обрывистом склоне холма. Вокруг было тихо. Мы скинули с себя одежды и полезли оба под холодные струи. И были мы тогда, как Адам и Хава в раю, нагие, среди листвы, под немолчным журчанием воды, и птичьи голоса над нами славили красоту божьего дня. Омывшись, мы легли на траву, и вдруг неистовое желание подхватило нас обоих, как ураган подхватывает листья. Наши тела сплелись, и наши громкие любовные крики прославили Творца всего сущего.
Потом, усталые, мы лежали на траве и слушали пение водяных струй. Мерула, ты знаешь, что такое счастье? – вдруг спросил Накдимон, и голос его вновь дрогнул. – А я знаю. Счастье – это лежать, смотреть в бездонное небо и чувствовать, как у тебя на плече покоится головка любимой…
Мерула вспомнил, как сам лежал на спине, глядя в увитый зеленью потолок садовой беседки, чувствуя на своем плече легкое дыхание юной танцовщицы, и у него вдруг так заныло сердце, словно в него воткнули иглу.
– Мы вернулись домой, – услышал он вновь голос Накдимона, – но… жизнь свою изменить не смогли. Ревекка, действительно, старалась изо всех сил быть покорной, послушной женой, смиряла себя, выказывала великое почтение моим родителям, не перечила им ни в чем, домашняя работа так и горела в ее руках. Но мои отец и мать так и не простили ее, и воспоминания о счастливом дне спасения, о часах, что мы провели около ручья, постепенно потускнели под влиянием этого непрощения и постоянного недовольства. Когда мы собирались всей семьей за общей трапезой, отец каждый раз тихо, будто ни к кому не обращаясь, говорил: «Как все же трудно живет наш народ! Являются некие, которые смеют нарушать священные Заповеди, якшаются с беспутными и нечестивыми, оскверняют своими так называемыми чудесами святой Шаббат, сбивают с толку слабых, неустойчивых в вере, спасают преступную жену от заслуженного наказания, пустыми словесами искушая ученых и праведных мужей. Воистину, сколь многие соблазны подстерегают нас! И как должны мы быть сильны и упорны в вере и Законе, чтобы не поддаться им!». Ревекка опускала глаза, понимая, о ком говорит мой почтенный отец, и я видел, как она сдерживает себя, чтобы не сорвалось с ее губ непокорное слово!
– А что же ты? Не смел возразить отцу и защитить жену? – подал голос Мерула.
– Не смел! У нас почтительный сын не перечит отцу, тем более, что моя жена действительно провинилась. И когда она наедине начинала жаловаться на моих родных, я с важностью, внушенной мне моими отцом и матерью, говорил: «Помолчи, женщина! Видно, ты считаешь, что мало наделала глупостей на своем веку и смеешь выражать неудовольствие, когда тебя пытаются вразумить почтенные, многоопытные люди.Тот прохожий спас тебя, я не спорю, но ты должна быть благодарна не только ему, но и нашей семье, и всем соседям, что приняли тебя, оступившуюся, обратно, а не выгнали вон, как паршивую овцу. Ступай спать и не серди меня более!». Вот так, Мерула, разговаривал я с той, что была мне на самом деле дороже всех, дороже родных, дороже всей моей жизни. Но я, глупец, в то время не сознавал этого! Она грустно внимала мне, вздыхала и покорно отправлялась на супружеское ложе.
Наступил жаркий месяц Нисан, а с ним и великий праздник Песах.В пасхальный вечер в родительском доме на праздничный ужин седер по обычаю собралась вся семья. Конечно, пришли и мы с Ревеккой. Горела пасхальная свеча, а стол ломился от праздничных кушаний. Меня огорчило то, что мой отец Рэувен, увидев меня об руку с моей женой, скривил губы в усмешке, которая показалась мне презрительной, и не ответил на наши поклоны и приветствия. Но вскоре я все понял.
Не успели мы возлечь за трапезой, как он, вместо положенных слов, которые говорит глава семейства, благословляя праздничное вино, сказал с неприкрытой ненавистью в голосе: «Слышали ли вы? Тот бродяга, что неведомым обольщением, будто колдун, заставил нас изменить древнему обычаю, священному закону, данному Моше народу нашему, был схвачен, судим, и самим префектом Понтием Пилатом приговорен к ужасной и позорной казни через распятие. Сегодня утром его распяли вместе с другими двумя разбойниками на Лобном месте, за стенами города. И никто из его так называемых учеников, никто из тех, что бегали за ним, слушая его безумные речи, не вступился за него! Все разбежались! Других, таких, как эта прелюбодейка (тут отец ткнул пальцем вРевекку), осквернившая дом уважаемых людей, он спасал, но Бога не обманешь – себя спасти он не смог!».
Ревекка вскрикнула и вскочила с места. Лицо ее сделалось бледным, как тогда, когда мы толпой вели ее по улицам Йерушалаима. «Бежим туда!» – крикнула она мне, и такое отчаяние звучало в ее голосе, что я было вскочил тоже, но отец крикнул нам: «А ну сидеть! Не смейте позорить наш дом! И так уже вы оба наделали нам достаточно бед!». Я послушно уселся обратно, но Ревекка вскинула голову, смело посмотрела отцу в лицо, потом без спроса взяла со стола пресный хлебец, повернулась и вышла из дома. И в этот миг вздрогнула земля, страшный удар грома раскатился по небу, и дождь хлынул сплошной стеной, будто Господь вновь наслал потоп на грешное людское племя. Тут уж я не стерпел и, не слушая окриков отца, кинулся на улицу за моей возлюбленной, но вокруг наступила такая мгла, что ничего и никого я не смог увидеть. Промокший насквозь, с разбитым сердцем я вернулся в родительский дом. Все смущенно молчали, потом приступили к трапезе, делали и говорили, что положено, но чувствовалось, что сердце каждого огорчено и мысли витают не здесь. Я возлежал за столом, уставленным яствами, но ни куска не мог проглотить. Тоска рвала мне сердце. Я понимал, я чувствовал, что никогда больше не увижу ту, которую любила душа моя. Так и вышло…
Накдимон замолчал, и Мерула не торопил его. Оба сидели в глубокой задумчивости. Потом Мерула все же спросил:
– Ну а потом? Потом что было?
– Потом? – как-то рассеянно переспросил гость. – Прошел Песах, протекло еще месяца три, и я дал свое согласие жениться вновь.Мою новую жену зовут Рахэль, она красива и благочестива. И вот уже она носит во чреве наше дитя, и наши родители счастливы и благодарят Бога за Его милость. Все хорошо… – Он немного помолчал, и вдруг оживился:
– А тот человек… наш спаситель… говорят, Мерула, что он воскрес!.. Его видели после смерти и похорон. («Да не может этого быть!», – чуть было не вскрикнул Мерула, но прикусил язык – не хотелось огорчать молодого человека и спорить с ним). Говорят даже, что это был не просто человек! Да-да, верь мне, римлянин! Он был необыкновенный!.. Он велел любить!.. Он велел прощать!.. Любить, даже если это очень трудно, прощать, даже если это кажется невозможным…
«О боги! И этот говорит о каком-то воскресшем человеке! – почти в испуге думал Мерула. Ему хотелось крикнуть: «Да не бывает такого, чтобы умерший воскрес». Но тут он вспомнил слова Руфа, и неожиданно для самого себя подумал: «А вдруг это правда? Чего только не случается на этой странной земле?» Он даже замотал головой, чтобы выбросить из нее эти нелепые мысли. А Накдимон тем временем говорил что-то совсем уж непонятное:
– Многие люди исповедуют его учение, и таких становится все больше, хотя их гонят, преследуют. Они помогают бедным, больным, оступившимся, презираемым. Если бы моя Ревекка была еще тут!.. Я бы попросил ее пойти к ним, может быть, они бы ей помогли найти свою дорогу в жизни. Бедная моя жена…
– Твоя Ревекка очень хорошо тут жила, – с некоторой обидой произнес Мерула. – У нее было все – еда, кров, наряды, украшения. Бессмертные боги одарили ее прекрасным умением танцевать и восхищать многих своим искусством.
Накдимон вздохнул. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит», – пробормотал он слова, которых Мерула не понял.
Тем временем ночная тьма рассеялась, в вестибуле стало светлее, и Мерула уже мог хорошо видеть печальное лицо своего гостя.
– Однако ночь кончается, – забеспокоился тот. – Мне надо поспешить обратно, в дом Амирама. Пожалуйста, римлянин, не говори никому, что я был здесь. А то мне не избежать беды. Только об одном прошу тебя – если ты найдешь ее могилку, принеси ей полевые лилии, она их очень любила. И скажи ей, что Накдимон, ее негодный и трусливый муж, просит у нее прощения.
Мерула кивнул. Он не стал говорить молодому человеку, что не знает и никогда не узнает, где упокоилась их прекрасная и беспутная возлюбленная. А Накдимон еще раз грустно взглянул ему в лицо, и, ссутулившись под тяжестью своего горя, вышел из ворот.
Мерула прошел во внутренний дворик и присел на край фонтанчика. Он любил журчание это тихой мирной струйки, и всегда присаживался здесь, когда ему надо было что-то обдумать, справиться с беспокойством и сумбуром в мыслях. А сейчас в его голове творился такой сумбур, что голова Мерулы готова была вот-вот лопнуть. Он вспоминал то подробности рассказа Накдимона, то страшную процессию, ведущую Ревекку на смерть по улицам этого вечно беспокойного города. «Да кто он, этот человек, о котором они все говорят?» – думал он в некотором раздражении. Сколько себя помнил Мерула, его мысли всегда вертелись вокруг практичных и понятных дел: сначала – как угодить хозяину, чтобы заслужить похвалу и избежать плетки, потом, когда вырос – как накопить денег на освобождение. После того, как свобода была приобретена дорогой ценой, мысли вольноотпущенника завертелись вокруг полезных связей и выгодных сделок, а главной его мечтой стало завоевание прочного, достойного места под беспощадным солнцем Рима.
Никогда он ни в ком не нуждался, не знал ничьей любви и сам никого не любил. И вдруг откуда-то к нему явилась, будто соткалась из воздуха этой загадочной страны, бесшабашная девчонка-плясунья с огромными печальными глазами, а с нею, словно схоронясь в ее котомке, донеслась до него весть о непонятном человеке, казненном в прошлом году перед этим их праздником Песах. Год назад Мерула краем уха слышал о том, что префект приговорил к распятию каких-то разбойников, но не обратил никакого внимания на эти россказни – это его совершенно не интересовало и не волновало. Казалось бы, какое ему, Меруле, верящему только в свою удачу и не надеющемуся ни на каких богов, дело до этих безумных иудеев с их Храмом, единым Богом, пророками и проблемами? Отчего он, римский вольноотпущенник, удачливый и дерзкий торговец, сидит и размышляет о каком-то иудее, распятом по приказу всесильного префекта? И отчего такая тяжесть наваливается на сердце, едва он вспомнит черные глаза с плещущейся в них тоской, изгибы юного тела, сплетенье нежных рук и негромкий голосок с волнующей хрипотцой?
И тут Мерула открыл потайные дверцы памяти, дал волю воспоминаниям, разрешил себе заглянуть туда, куда запретил себе заглядывать еще семилетним мальчишкой-пленником, впервые ступившим на землю Рима. С неиспытанной доселе болью он вспомнил небольшой домик под соломенной крышей на берегу большой реки, название которой он позабыл, веселого козленка, с которым любил играть и бегать вперегонки, женщину в светлой одежде, которая, склонившись, целовала его в лоб. И от этого поцелуя, и от мягкого прикосновения ее рук, пахнущих молоком, ему становилось так радостно и тепло, как уже никогда потом не бывало. Еще он вспомнил, как встретил какого-то прохожего, назвавшегося Пролом, как охотно побежал за ним, чтобы посмотреть настоящий корабль, и вдруг потерял родной дом из виду, и стал плакать, кричать и проситься обратно, но уже ничего нельзя было исправить…
Потом его вместе другими такими же несмышленышами привезли в огромный и шумный порт Остию и продали всех в разные дома. Его перепродавали несколько раз, и наконец, он попал в дом Кезона Сестия. Здесь он тяжко работал, и лез вон из своей рабской, исполосованной плеткой шкуры, чтобы приобрести вожделенную свободу. Но никогда, до этого самого утра, он не позволял себе вспоминать домик под соломенной крышей и ласковую светлую женщину с руками, пахнущими молоком. Раз и навсегда закрыл он свое сердце для любви, дружбы, воспоминаний и сожалений, потому что это было слишком больно, а боль делает человека слабым.
Но зачем ему его сила? Кому он, Мерула, нужен? Кому нужны его деньги, его богатство, заработанное на слезах детей, потерявших отчий дом? Умри он сегодня-завтра, все его имущество и эта вилла перейдут к патрону и его семейству, и ни один человек под звездным небом не вспомнит о вольноотпущеннике Меруле и не скажет о нем ни единого слова.
Другие электронные книги автора Ирина Михайловна Шульгина
Antisex




 0
0