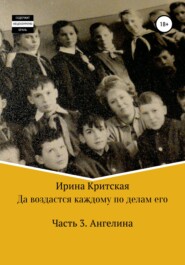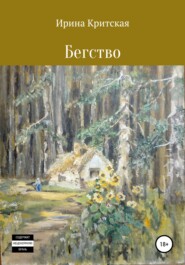По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три судьбы. Часть 2. Нежить
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Луша снова, как на той неделе, чувствовала себя неважно, что-то холодно обрывалось в груди, слева, тенькало тошнотно, от этого неприятно немели ноги, на ладонях выступала липкая влага. Она понимала, что что-то случилось, но даже думать об этом не хотела, а если и думала, то с радостью – кто знает, вдруг встретится она со своим любимым, там, чертой. Да и что ей здесь терять, чего ждать, кончена жизнь, дочь взрослая, тётка ушла на небо ещё в прошлом году, да и сына своего захватила, Маринка… Вот только они – Машуня да Маринка, да ещё сынок Нинкин и держали её на этом свете. Больше и некому.
Луша снова села на лавку, заправила седые пряди под чёрный платок, сгорбилась, чтобы не так тянуло внутри и замелькала спицами – к Рождеству дочери шарф будет – белый, пушистый, как у снегурки. Шапка уж лежала спрятанная, вот только бы не нашла.
– Мам. Я что сказать тебе все хотела. Ты бы встряхнулась немного, волосы хной подкрасила, губы помадой, что ли. Знаешь, какую красивую в сельпо завезли? Алую. Тебе пойдёт. Ты же не старая ещё. Красивая.
Маша ластилась к матери молодой козочкой, но вдруг разом осеклась, встала перед Лушей на колени, положила руки ей на плечи, вытянувшись в струнку и свела брови так, что на гладкий лоб пересекла морщинка, а глаза вспыхнули, и в них кто-то зажег чёрный огонь.
– Сиди так. Молчи. Сейчас я.
Луша замерла, полностью потеряв волю, силы, она как будто превратилась в камень, или, скорее в губку – волглую, пористую, холодную. Но сразу, буквально через минуту, холод из груди начал исчезать, испаряться, так испаряются последние лужи на майском солнце, воздух ворвался в стесненную грудь, и дышать сразу стало легче. С глаз спала пелена, которая не давала ей нормально видеть мир последнее время, и она с ужасом посмотрела на дочь. Та все стояла на коленях, уставившись в одну точку, на ней лица не было. Бледные до синевы щеки, фиолетовые губы, запавшие глаза, скрюченные пальцы, вцепившиеся в лавку, ещё немного и упадёт, покатится на пол. Луша бросилась на кухню за водой, но когда вернулась, Маша уже стояла у окна и всматривалась в вечереющее небо.
– Мам. Я чуть поправила… там…внутри у тебя… Травы ещё свои заваришь. Лучше будет. Вот надолго ли, не знаю. К врачу бы сходила. Сердце все – таки, не шутки.
Луша близко – близко подошла к дочери, взяла её за подбородок, посмотрела в глаза.
– Ты вот этого, что сейчас делала, никому не показывай. Нежитью её называют!!! Сожгут заживо, не поморщатся. Я этих людей знаю. Помню…
Маша вскользь глянула на мать, чуть кивнула и стала натягивать шубку, сунула ноги в валенки.
– Ты куда?
– Да тут… в школу. Димке, новенькому надо помочь. С математикой у него не очень. Да и с химией…
Только что выпавший снег блестел за околицей, под огромной, серебристой луной, как будто кто-то щедрый рассыпал бриллианты. Маша всегда замирала, глядя на такую луну, она как будто протягивала к ней лучи – лесенку, и Маше казалось, что она однажды вспрыгнет на нижнюю ступеньку, а дальше её не остановить. Они с Димкой никак не могли расстаться, все рассказывали друг другу что-то, смеялись и грустили, понимая даже не каждое слово – букву, звук, мысль
– Маш. В твоих глазах отражается луна. Вот честно – в каждом по серебряной лунночке. Так красиво.
Маша молчала, смотрела на парня, и её маленькая ручка совсем согрелась в Димкиной здоровенной варежке.
Глава 4. Козленок
– Лукерья. Ты дома? Зайду, нито, дело есть.
Луша стыдливо забрала распущенные, влажные пряди в пучок, накинула косынку, увидит Верка болтливая, что вдова волосы красит, по всей деревне разболтает, а народ злой. Луша уже пожалела, что поддалась дочери, позволила это безобразие, но уж больно радостно она взялась, сама купила краску, сама развела, усадила мать, долго возилась, промазывая каждый волосок – и пропала седина, снова зазолотились волны Лушиных волос, не таких густых, как раньше, но все равно, красивых. И вроде, как десять лет стёрли с её лица, чуть притушили острую боль в глазах, смягчили черты, успокоили. Маша довольно чмокнула Лушу в щеку, шепнула: «Сиди, суши. Я сама пойду скотину закрою, не переживай». И, мотнув чёрными змеями своих толстых кос, натянула Лушину старенькую шубку, намотала платок и выскочила на тёмный двор, лёгкая, как ласточка.
Луша, не одеваясь, прямо в платье и тапочках по свежему снежку добежала до калитки, распахнула её и обратно в сени, не королева гостья эта, сама войдёт. Но Верка вошла не одна, с ней вкатилась шариком Маринка, усталая после работы, но как всегда весёлая, светлая.
– Ты, Вер, заходи, я тут конфет принесла, чай будем пить. И дети сейчас прибегут, веселей будет. Луш, а ты что в платке, не заболела?
Луша махнула на шебутную сестричку, показала Верке на диван – садись. Та, отдуваясь, села, пыхтя стянула пуховую шаль, синей от мороза ладонью вытерла мокрые губы.
– Нет уж. С вашими дитями этими чудными чай пить что-то неохота, давайте лучше сами, до девичьи. Луш, по секрету бы..
Маринка понимающе кивнула, ушла на кухню. Верка наклонилась поближе, зашептала Луше прямо в лицо, обдавая запахом холодца и лука.
– Слышь, ты мужика нового видала? Его с району прислали, Димка евойный с твоей Машкой в одном классе. Ваще мужик, просто отпад. Словечко бы замолвила, есть тут, мол одна брошенка, сладкая, медовая.
– Вер, я его и в глаза не видела, откуда. Да и про Димку от тебя впервые слышу. Маша не говорила ничего, странно.
– Во-во. За околицей обжимаются, а мать и в ус не дует. Гляди, в подоле принесёт тебе. В общем, ладно. Чай пить мне недосуг, магазин ещё не считала. А насчёт меня вспомни, коль мужика увидишь. Век благодарна буду. Своему гаду, предателю роги наставлю, хоть. Вот ведь, блин. Я думала, вы познакомились уж.
Когда за Веркой закрылась дверь, Маринка присела рядом, налила Луше чай, насыпала конфет. Отхлебнула из своей чашки, пригорюнилась.
– Колька совсем чего-то, Луш, прям дураком становится. Сядет, морду свою красивую набычит, смотрит в одну точку. А тут нож у него из кармана пиджака вытащила. Где взял только, маленький, острый. Что-то боюсь я. Ты бы травы свои заварила, как в том году, попил, лучше стало. Просто ведь хороший был, как здоровенький. А теперь опять.
– Заварим, Мариночка, все сделаем. Ты ужинать зови его.
– Не пойдёт. Не ест ничего уж два дня. Воду только глушит, вёдрами прямо. Луш, боюсь.
Пока Маринка уговаривала мальчика, Луша пошла в сарай, посмотреть не окотилась ли коза, да и Машу встретить. Во дворе была такая ночь, что захолонуло сердце – казалось, что это бриллиантовое сияние снега отражается в фиолетовой черноте неба, а приглядишься – нет, не снег, мелкая россыпь звёзд. И у Луши впервые со дня смерти Андрея немного ослабла дикая боль внутри, как будто вытащили спицу. Вытащили… Но рана осталась…
Маши нигде не было, и Луша пошла в сарай, где у натопленной буржуйки который час мучалась коза, никак не могла окотиться. Они весь день бегали к ней по очереди, а сейчас уж пора было вмешаться. Луша вбежала, да и обмерла на пороге – коза лежала на боку и тяжело дышала, а у ног её, запутавшись в тряпках, вытянул ноги мертвый козленок. Луша в сердцах толкнула ногой ведро, оно загремело и покатилось, и пока она его доставала из под полатей, в сарай зашла Маша. Ойкнула, бросилась перед козленком на колени.
– Маш, он дохлый. Не дышит. Козу давай подымать.
Но Маша матери не ответила. Она положила обе руки на голову козленку, вытянулась в струнку, так что её тонкое тело затрепетало, издала странный, клокочущий звук и замерла. Потом глубоко вздохнула, закрыла лицо узкими ладонями и Луша, вздрогнув, уставилась на козленка – он пытался в встать и дёргал длинными, ломкими, как соломинки, ногами.
Глава 5. Дар
Маша сидела на маленьком диванчике в своей комнате, расчесывала волосы частым гребнем, доставшимся ей ещё от бабки Пелагеи, смотрела на себя в зеркало и думала. «А и вправду, откуда у меня такие волосы чёрные, брови эти, глаза? Мать вон светленькая, отец тоже не особо тёмным был, странно. Тётя Марина? Ну да, может быть, но совсем ведь другая она – маленькая, круглая, как шар. Да и это еще… Что за сила на нее находит – неуправляемая, страшная, необъяснимая, торкает изнутри, разрывает душу. И становится тогда она, Маша, всесильной. И не знает она тогда границ, захлестывает эта сила её волной, поднимает на гребень и несёт без остановки, без удержу. С этим жить трудно, без этого – не получается. Само оно…
Потерявшись в мыслях, Маша даже не заметила, что кто-то вошёл в её комнату, встал за спиной, согрел тёплым дыханием затылок. Маша обернулась – Колька. Бледный, с золотыми кучеряшками густых волос, вставшими вокруг круглого лица, как лучики у солнца, смотрит на Машу остановившимся взглядом пустых, голубых глаз, а на полных розовых губах красивого мужского рисунка, повисла слюнка, как будто замёрзла.
– Что, Коленька, спросить чего пришёл? Или скучно тебе? Вон, гляди – мячик у меня есть, возьми, иди поиграй.
Но Колька не обращал внимания на Машины слова, он подошёл ближе, отнял у неё гребень и начал чесать её чёрные пряди – медленно, размеренно, качаясь из стороны в сторону китайским болванчиком. Маша попыталась тихонько отобрать у парня гребень, но он, не выпутав крупную прядь из частых зубьев, вдруг дёрнул сильной рукой так, что Машина голова чуть не отлетела от рывка, парень чудом не вырвал у неё из головы клок волос.
И в этот момент Маша впервые почувствовала по-настоящему, как ЭТО возникает в ней. Сначала огнём обжигает кожу, потом холодом накатывает волна где-то в области сердца, она разливается внутри, сначала теплеет, а потом начинает палить. В голове вдруг сжимается, а потом выстреливает пружина, и тогда с глаз, как будто падают шоры, и мир становится другим. В этом мире она уже не Маша с чёрными, длинными косицами, а воительница, колдунья – в длинном, серебристом платье, с распущенными чёрными волосами до пят, всесильная, непобедимая, страшная. И тогда перед ней расступаются горы, высыхают реки, падают ниц леса..
Маша, почти не понимая, что делает положила обе руки, объятые пламенем, на голову Кольки и спокойно смотрела, как занялись желто-красным огнём его кучеряшки, как он начал дёргаться, как будто через него пропустили ток, как медленно кровь начала покидать его тело, превратив кожу в серый лёд, как он начал оседать на пол, мягко, плавно, вроде из него разом вытащили все кости.
– Маша. Что ты делаешь?
Визгливый крик Марины замер, оборвавшись на полуслове, Луша накрепко зажала ей рот и придавила к стене. Сестры, как в жутком сне смотрели – Маша полностью закрыла бездыханного парня водопадом иссиня-черных волос, раскрыла руки, словно огромные крылья, что-то говорила, быстро, утробно, непонятно. Потом встала на колени и, вдруг, повалилась на пол рядом с Колькой, скрутилась в клубок, поджав ноги и забилась, затрепетала, как птица, попавшая в силки.
– Стой, Марин. Не лезь. Нельзя.
Еще через минуту, Колька порозовел, открыл глаза и вдруг прямо, явно узнавая, уставился на Марину. Та оторвалась от Луши, медленно пошла к парню, попыталась его поднять, и он встал. Сначала на колени, потом поднялся, обнял Маринку за плечи, припал и что-то говорил тихонько, повторял – «Мама, мама… мама»
Луша присела рядом с дочерью, приподняла её голову, заставила сесть, заплела ей волосы в одну толстую косу, обтерла платком вспотевшее лицо. Маша потихоньку пришла в себя, встала. Потом они втроём уложили Кольку спать – у парня не было сил даже снять рубаху и пошли вниз, на кухню, поставили чайник.
И пока закипал чайник, Луша принесла из комнаты фото старое, потрескавшиеся, жёлтое. С него улыбалась Маша, и её за плечи обнимал молодой, плечистый, статный мужик – дед Аким..
–Мам. Откуда там я? Это же старая фотография, люди какие-то незнакомые…
Луша внимательно разглядывала фото, гладила пальцем лица, потом подняла на дочь глаза, полные слез.
– Это, девочка, не ты. Это бабка твоя, и прадед. Кровь наша родная. Спрячь фото у себя. Помни их. Бабушку свою особо. Да она и не даст тебе, вижу, себя забыть. Не даст…