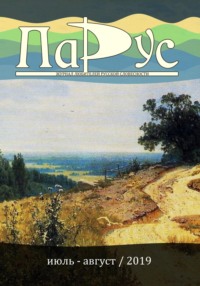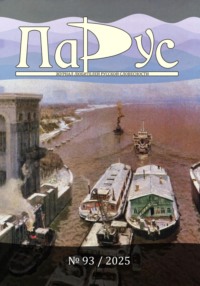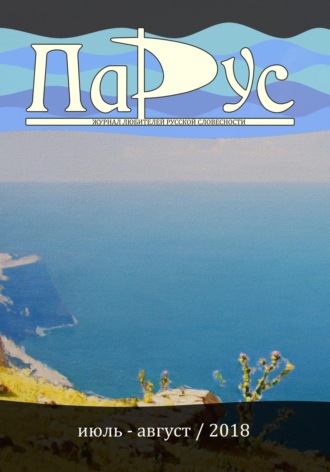
Журнал «Парус» №66, 2018 г.
Снова начал пить чай, курить… О, Паулина, Паулина! – неужели это я написал?.. для чего?..
Одни авторитетно советуют отсекать концы и начала, несомненно, для того, чтобы ни чаинки, ни табачной крошечки к изящной беллетристике не пристало. Другие – наоборот, наращивать – быть с читателем на «ты»: объясняют в обманчивых предисловиях, по каким причинам они пишут, где якобы обнаружили публикуемую рукопись – и еще большим туманом настоящие причины задергивают.
Всё это говорит лишь о неуверенности сочинителей в истинности своего дела. То они считают, что писать можно лишь для воспитания: сердца собратьев исправлять, давать нам смелые уроки, например, для того, чтобы помочь строительству лесокомбината на реке, где в тайге еще затаился монастырь с мракобесами, либо двинуть время вперед на бетонных работах нового завода… А то просто стыдятся признаться в будничных, тщеславных или пустяковых причинах, приваривающих их к столу протирать штаны и локти.
И мы не видим корней их словесных цветов и злаков – одни вершки. Сказка про вершки и корешки, про мужика и медведя вспоминается не случайно: медведь в нашем случае – читатель, любознание его так и остается голодным.
А еще два с половиной века назад и вершки, и корешки не скрывали от читателей. «Восторг внезапный ум пленил, Ведет на верьх горы высокой!» – с первой же строки признавался сочинитель. Рассказывал подробно, что увидели его духовные очи, благодаря этому восторгу… Просит помощи у богинь пения, а не у редактора… И пошел, пошел, пошел уже: «Корабль как ярых волн среди…»
Восторг внезапный и музыка чистых сестер, а не нужда в цементе или лесоматериале! Таким образом, восторг внезапный за чаепитием, явление бытовое – на бумаге, один к одному становится явлением космическим, высоким – ибо что же есть выше оды? Как её ни ругали и ни осмеивали завистники… Скачут в лирическом восторге метафоры, перепрыгивают трещины и провалы между мыслями – сказать сразу всё или очень многое…
Восторг внезапный в нас пробуждает память, мы сразу всё вспоминаем, удивляясь вместе с Григорием Сковородой: «Что бо есть дивнее памяти, вечно весь мир образующей, семена все тварей в недрах своих хранящей, вечно зрящей единым оком прошедшие и будущие времена, как настоящие!.. Память есть недремлющее сердечное око, видящее всю тварь, незаходимое солнце, просвещающее Вселенную. О память утренняя, как нетленные крылья!»
Я, следуя за певцом старого времени, как уже стало ясно, постарался написать тоже оду; но соответственно нашему времени она в прозе. И ей украсить наш судовой журнал…
Парус надулся. Берег исчез, восторгался некогда Евгений Баратынский. Наедине мы с морскими волнами… Цветной «Парус» памяти в нематериальном пространстве прошедшего и будущего… И открываются, как таинственные острова… Открываются Слово, Смысл, Образ…
А слово – хлеб ангельский, весна невидимая
Умерла старушка, соседка в Глинске. Последние месяцы у неё было какое-то просветленное лицо. За день до смерти она тихо повторяла ослепшей на один глаз, жаловавшейся на жизнь моей матери: «Надо терпеть»…
Вспоминая её, я бродил по маленьким, весенним улочкам старой Москвы: из двора в дворок – как из коробочки в коробочку… Лицо у неё было просветленное, будто узнавшее что-то важное, новое. Так проступает весна. Осветляет капелью, сосульками, солнцем… Или первые дни зимы, первый снег… Вот, думаю вроде о высоких материях, а ночью снятся самые дурацкие сны: то стул сломался, то носки украли в общежитии…
Старушка поехала ни с того ни с сего в соседний город, к сыну, и всё жаловалась, что уехала так внезапно, «ни с того ни с сего». И как садилась обедать, то каждый раз вспоминала и жалела, что с соседями не попрощалась, не зашла…
Деревенское кладбище, где её, на родине, похоронили, заросло лесом. Ведет к нему просевшая глубоко дорога между оранжево-красных откосов глины, над ними сосновый покой, птицы поют в высоте смолистого, солнечного воздуха… В болоте внизу, за оградой клохчут, охают врастяжку лягушки, и будто действием этих звуков распускаются пушистые «зайчики» на вербах. Только мать-и-мачеха ядовито голым желтым цветом не нравится мне… А остальное всё вокруг – как живой сон весны, которым дышат, который видят, спя в своей яви ангельской, усопшие; днесь весна душ, как сказано в старинной книге «Пентикостарионе»… Весна невидимая, претворяющая светом своим наши земные звуки в слово – хлеб ангельский.
А смысл сам за себя говорит
Старичок-сторож… Лет ему уже к восьмидесяти, в черной тужурке, в валенках с галошами, уши у шапки вразброс, в стороны… Встретились на улице и пошли рядом: он стал рассказывать, как ездил в Углич за налимами:
– И нет их, налимов… Куда девались? – разудивлялся он…
Такое детское, смиренное удивление и вопросительность осветили некрупное, убравшееся в морщины личико. Голос медленный, ровный, скажет два слова – и удивляется их звучанию, сиянию, будто видят маленькие, острые глазки, как слова растворяются в весеннем, оголевшем мире: в остатках снега, песке и жухлой серой травке, прилегшей по обочинам улицы. Смеется глазами:
– Разве это налимы? Чуть побольше ложки – вот такие… Нет налимов в Волге… – снова полон удивления его лик под черной ушанкой…
– Я строителем работал. Пенсия у меня хорошая… У меня два сына… Один здесь живет, другой в Рыбинске… Я выпиваю с пенсии. Нет – не пью: пить – никаких денег не хватит. А выпиваю…
Я послушал – пошел. А душа пчелкой полетела: как по клеверу, перелетала со звезды на звезду, все ближе к маленькой, родимой, домашней вечности…
С тех пор всё чаще вспоминаю этого неторопливо ходившего по улицам старичка, и душа наполняется светом смысла… а какого?..
А такого: смысл сам за себя говорит.
А образ?..
…Как сказать об этом радостном небе, этих осенних шелках, парче, тонких, нежно выгнутых ветках, унизанных золотыми лепестками листьев? И высокие, торфяного цвета камыши затихли и будто смотрят в это, ласкающее их по-отцовски небо. Смотрят, хоть глаз у них нет, одни бурые шишки, бархотки; но чувствуется, что – видят, не видя, глядят, не глядя – всё знают: всё иное, над чем мы бьемся всю жизнь. И небо живет само по себе – тоже радо показать свою глубокую доброту… Вот, наверно, поэтому и обожествляли язычники и березы, и реки, и небеса.
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись вторая. Ах, как страшно!
Предисловие Ирины Калус
Приветствуем Вас, дорогой читатель!
Вот и настала пора раскрыть кое-какие секреты, касающиеся появления нашего судового журнала. Первая публикация вышла в прошлом номере «Паруса» после того, как в трюме мы нашли фрагмент пожелтевшей тетради с записью, сделанной странными чернилами неизвестного состава. Несмотря на свой возраст, текст сохранился очень хорошо, и мы легко смогли его разобрать, а также – установить имя автора.
Теперь, когда найдена вся тетрадь, с уверенностью сообщаем: записи из судового журнала будут регулярно появляться на наших страницах, чтобы каждый мог познакомиться с тем чудесным миром, который открывается при чтении рукописи. Это поистине волшебная находка!
Мириады брызг всеохватного искрящегося мира, солнечные блики на зеленовато-синих волнах смысла, сотканных из праматерии представления о себе, линия горизонта, уходящая в художественную бесконечность слияния моря и неба, тяжёлая темнота проглядывающей сквозь седую волну чарующей глубины и пронзающие её нити света – вот что обнаружили мы в этих бортовых записях!
И теперь уже вместе с Вами, дорогой читатель, мы продолжаем листать найденный журнал – пожелтевшие листы с ровными строчками открывают нам повествования о были и небыли, размытый ветрами памяти опыт прошлого, остановившиеся мгновения-слепки минувших и грядущих событий, изящные траектории полёта мысли – да много ещё чудесного таят в себе летописи кораблей…
Но потом обнаружилось и то, чего мы не заметили сразу. Тетрадь оказалась абсолютно живой – как будто едва уловимо дышала, овевая лицо нездешними потоками эфира. А записи в ней продолжали пополняться. Неужели автор здесь, с нами на корабле? Неужели, крепко сжав в руке остро отточенное гусиное перо, он ходит где-то среди нас, время от времени посылая проницательный взгляд не то на наши лица, не то в синюю морскую даль? Тончайшие извивы текучей души – как рисунок на воде, продолжающий своё бестелесное существование во времени – до сей поры не останавливают сердечной пульсации, проступающей сквозь переплетения чернильных знаков. И мы поняли, что тетрадь эта – не простая и хранятся в ней не просто записи из минувших времён, а и – мосты в нашу жизнь, захватывающие её до самого края и причудливо заплетающие разные времена и события, голоса и отголоски, начинающие аукаться, как только откроешь кожаную обложку. Как мы не нашли её раньше? И чей это силуэт на корме?
А может быть, судовой журнал и его автор сами нашли нас и теперь, наряду с рукописным текстом, чередой зашифрованных длинных и коротких сигналов передают именно Вам, читатель, ещё никому не известное послание?
Итак, начнём движение к разгадке?
Ирина КАЛУС
Учась в Литинституте, я редко ходил в кино – не до того было, хоть и Москва. А «Вия» все же решил посмотреть… «Не ходи, – сказала мне Нина, вологодская девушка с простодушными синими глазами. – Не дадут посмотреть! Как только ведьма встаёт из гроба – подростки в зале начинают хулиганить: кричат, смеются»…
Так оно и вышло: невидимые в темноте ребята в первых рядах нарочито громко хахалились: «Ах! Ой, как страшно!»
А зачем? – выйдя, удрученно досадовал я на светлой улице. Если так наивна и забавна ведьма-панночка, чего и кричать, да и смотреть – не по одному разу?..
Призрачные, сказочные декорации – степи лазурная дымка, козаки-ряженые… Как хорошо бы было в тишине посмотреть – после общежитской комнаты! Во время экзаменов я почти не выходил из неё, так впрягался в книжное чтение. Только в гастроном – хлеба да триста граммов колбасы купить, пачку чаю да пачку «Примы»…
Гастроном – через улицу от общежития. Продавщица мясного отдела, явно презирающая мои бедные покупки – с заячьим белесым личиком – и заячьей же губой. Некрасивая, поэтому злая. Порой и пожалеешь её про себя… Я уже, купив колбасы, был у выхода – как вдруг двери отпахнулись навстречу… И в них… Ах! Сердце во мне замерло по-настоящему, дыхание остановилось. Крик судорожный едва не вырвался:
– Ведьма!..
Она, злобно блеснув на меня стеклянно острым взглядом, прошла мимо. Она была точно такая же, что в хлеву, протянув руки, ловя, шла на Хому Брута. Та, что после крика петухов хлопнулась в гроб – с мертвецким, широким, плоским лицом старуха, и с ожившими, точно из глубины ледяной смерти, глазами. Я и теперь не могу понять, откуда такое сходство страшное? И она – учуяла мой не вырвавшийся крик, мой ужас. Это еще в миг страха почувствовал я… Поэтому и отвернулась злобно, и прошла мимо, широкая, горбатая…
Одно дело хахалиться над киношной ведьмой, другое – встретить живьем её в московском гастрономе… И сердце чуть не остановилось, замерло – впервые понял я убойный смысл этого книжного, притершегося вроде слова… Приземистая, с квадратным, тяжелым лицом, и одета так же: на голове какая-то повязка. Она, та самая, из «Вия», моего любимого сочинения Николая Васильевича Гоголя…
Потом, как пришел уже в комнату и одумался, по новой страшно за себя стало. Ведь мог бы и приступ случиться…
Я рассказал об этой встрече Нине. Она поудивлялась, поулыбалась… А темно-синие подснежники вологодских глаз – не изменились: оставались со своим светом, говорящим о чем-то таком, что далеко-далеко отсюда… Но уточнила, что эту ведьму в «Вие» играет мужчина, старик… Да какое это имеет значение? – подумалось мне.
Я и сейчас вижу под низкой повязкой её щучьи глаза и щеки в крупных, к ушам, злых морщинах, и всю её выступку, как она выявилась горбато из распахнутых дверей. И как недобро пометила меня взглядом, догадываясь о моём смятении, о том, что я понял, кто она. (Ну, раз понял – посмотри, посмотри… студент!) Ведь говорила же Нина: не смотри!..
Уже много лет спустя в черновиках «Вия» нашел я описание видения философа Хомы Брута. Гоголь его в окончательном варианте сократил, подравнял, чтобы чересчур не выпирало:
…«Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. В месте ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая… На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы на верху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног. Эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться»…
И душа и тело рассыпалось на самостоятельно живущие куски… Может, и явление в гастрономе – какая-то черновая часть моей души, урвавшаяся от корня?..
Когда я рассказываю об этом кому-нибудь – улыбаются, как Нина. Да и я сам теперь улыбаюсь над ведьмой из гастронома. Как те ребята изрядного возраста, что смеялись и кричали понарошку в темном зале: «Ах, как нам страшно!..»
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
КОНЕЦ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
Восьмидесятым приходит конец.
Бьют вразнобой миллионы сердец.
Митинги, слухи.
Враз пропадают то мыло, то чай.
– Так вот и мы пропадем невзначай, –
Шепчут старухи.
У девяностых не видно лица.
Старый ли путь дошагал до конца?
Новый ли начат?
С гор возвращаются дети-бойцы.
Водку свою допивают отцы.
Матери плачут.
Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на расстоянье? Способен ли художник создать верный портрет конкретной эпохи, находясь в ней телесно и душевно, живя в ней? Шедевры мировой культуры убеждают нас в том, что это возможно – от создателя изображения требуются лишь талант, искренность и умение видеть наиболее существенные приметы своего времени. Тогда, вне зависимости от художественных и политических предпочтений автора, верный образ эпохи может быть создан.
Естественно, такое произведение не вправе претендовать на фотографическую точность: оригинальные черты всегда будут частично искажены авторским углом зрения, приемами, манерой письма, особенностями жанра, колоритом… Но сквозь личностное видение, вопреки всему, все-таки проступит лицо эпохи.
В маленьком поэтическом наброске, сочиненном весной 1989 года, я пытался осуществить именно такую задачу: увидеть самое существенное в проживаемом моей державой историческом миге, запечатлеть сиюминутные общественные настроения и ожидания, обнажить трепещущий нерв времени. Через год стихотворение было опубликовано в «Нашем современнике». Сам по себе этот факт, конечно, не является стопроцентным критерием художественной значимости произведения, но все-таки редакторы одного из лучших тогдашних русских литературных журналов, видимо, что-то такое почувствовали в этих безыскусных строчках…
Сегодня, когда еще живы многие из свидетелей того переломного времени, я могу спросить их: так ли всё было, как я написал? тот ли был воздух?
ВОЗВРАЩЕННЫЙ ХРАМ
Кирпичи и доски по углам,
Купола и кровля ждут замены,
Фрески обвалились… Божий храм,
От тебя остались только стены!
Но уже иной струится дух:
Ходит попик в будничной одежде
И поет нестройный хор старух
«Господи, помилуй», как и прежде.
И к сердцам раскрывшимся, как встарь,
Подступает сладкая истома.
И мрачнеет первый секретарь
За окошком местного райкома…
Неужели тени Октября
Не сожгло мучительное пламя?
…Говорят, что дочь секретаря
Чудеса творит с колоколами,
Что летит веселый перезвон
Над монастырем и над райкомом,
Над галдящей бандою ворон,
Над простором, вечным и знакомым.
Первые приметы грядущего массового обращения моих соотечественников к православной жизни я увидел в самом конце 80-х годов, накануне крушения советской империи. Это случилось на ярославской земле, в Борисоглебском монастыре. Узнав о трудах Светланы Лапшиной и ее соратниц по сбору колоколов для монастырской звонницы, увидев своими глазами, как в древней обители возрождается церковный канон, я понял, что в русскую жизнь самым естественным образом вернутся вскоре не только христианская вера – она никуда не исчезала, несмотря ни на что! – но и обрядность.
Семидесятилетнее пленение Русской православной церкви подходило к концу. И я был рад отразить приметы этих радостных для меня перемен в своих стихах. «Возвращенный храм» был опубликован в журнале «Наш современник» в мае 1990 года.
Но радость моя была тревожной: в державе было неспокойно…
ХРОМОЙ БЕС
Облетевший цвет ярославских лет.
Собеседник пьет и глядит хитро:
– Сашку помню. Хромал да хромал в свой «пед»,
И гляди, дохромал до Политбюро…
Собеседник пьян и не шибко мудр.
Или люб ему ярославский бес?
Или сам он тоже из тех лахудр?
Но и я ведь родом из этих мест.
Я ведь тоже не ведал, куда идти
На осклизлых тропках прошедших лет.
Сашку помню… На гребне его пути
Мы спросили, как нам идти на свет.
Помню так, словно было оно вчера,
А не в тот далекий бурлящий год.
– Говорите, власть избирать пора?
Но ведь Гитлера тоже избрал народ…
Что ответил нам ярославский бес?
Он забыл немедля про свой ответ.
…Вековая плесень осклизлых мест,
Облетевший цвет незабытых лет.
Это стихотворение родилось на фоне моих размышлений о судьбе Александра Яковлева, ярославского уроженца, сыгравшего одну из ключевых ролей в развале Советского Союза. В голове моей долго не укладывалось, как мог инвалид Великой Отечественной войны, фронтовик, защищавший империю с оружием в руках, стать в ряды ее могильщиков. Что-то тут не то, – думал я, – простой вербовкой такую метаморфозу не объяснишь…
Но потом я все-таки пришел к выводу, что обожествление наших фронтовиков, присущее в 80-х годах очень многим моим соотечественникам, было, увы, результатом влияния властной пропаганды. Среди фронтовиков встречались очень разные люди, в том числе и ненавидевшие империю, желавшие, чтобы она поскорей развалилась.
Вот и Яковлев… Прожив на Ярославщине полвека, я много чего услышал об этом человеке. Но лично с ним не встречался, за исключением, пожалуй, одного случая. В конце 80-х годов на встрече «хромого беса» с главными редакторами молодежных газет я послал ему из зала записку: «Вы всё время говорите, что нас спасет демократия. Но ведь Гитлер пришел к власти как раз демократическим путем…»
Яковлев и глазом, конечно, не моргнул. Вот его тогдашний ответ, дословно:
– Да, вы правы, Гитлер пришел к власти демократическим путем. Но нас спасет только демократия.
Что хотел этим сказать хромой ярославский бес? И что в итоге сказал? Может быть, совсем не то, что хотел?
ГАЗЕТА
Газета, смутьянка и сводня,
Сегодня – победа твоя!
Не я в тебя глянул сегодня,
Тревожные мысли тая,
А ты, – среди гама и гула,
Средь ясного белого дня, —
Раскрыла меня, заглянула,
И – скомкала, смяла меня!..
Как и сугубое большинство моих соотечественников, я узнал о том, что моя страна распалась на несколько независимых государств, из прессы. Сначала об этом нам сказали по телевизору, потом написали в газетах.
Помню, как меня поразило тогда, что глобальное историческое событие уместилось в нескольких типографских строчках… сам будучи опытным газетчиком, я все-таки с трудом смог угнездить этот факт в своем сознании.
Страна рухнула!.. распалась!.. и не раздался ничей крик, не потекла кровь. Даже слёз ни у кого не выступило на глазах. Что же это такое? – смятенно думал я. – Выходит, мои соотечественники не считают нашу страну своей родиной? Или понятие «родина» для них просто абстракция, слово из шести букв, напечатанное типографским шрифтом?
Тогда-то и сочинилось это стихотворение о газете, скомкавшей и смявшей меня.
А слезы у людей все-таки потекли… но значительно позже: когда разделенный народ почувствовал на своей шкуре, что это такое – новые границы, новые начальники, новые беды…
ИГРА
Русский рынок – блатная игра
На столе из державных обломков.
И воры наиграли добра,
Обеспечив себя и потомков.
Ну, а ты снова гол, как сокол,
Просторожий Иван-горемыка,
И глядишь на расшатанный стол,
Как в туман, – и не вяжешь ни лыка.
А кругом веселятся воры,
Обернувшись в трехцветное знамя:
– Что ж ты ждал до остатней поры?
Ну, садись – поиграй вместе с нами!
Проступают сквозь редкий туман
Сотни харь, биржевых и оптовых.
Никогда не играл ты, Иван,
В эти игры блатных и фартовых.
Но поставлена карта судьбы
Не на выигрыш, а на спасенье.
Плачут дети у отчей избы —
И тебя искушает сомненье:
То ли кликнуть остатнюю рать
И вернуть себе кровные крохи,
То ли сесть – и учиться играть
В сатанинские игры эпохи.
Играть в карты с блатными и фартовыми – занятие неблагодарное, но гоголевская «Пропавшая грамота» учит нас, что достойный выход возможен и из этой ситуации: просто нужно почаще крестить свои карты. Иначе говоря, строя свое экономическое поведение в соответствии с законами рынка, мы, русские люди, должны постоянно соотносить свои поступки с ценностями Православия. Это позволит нам всё ясно видеть даже в густом тумане, напущенном дьявольским отродьем, не дать себя обмануть всеми этими «инновациями», «кластерами» и «ставками рефинансирования».
Выиграть у бесов, конечно, невозможно, но речь, я подчеркиваю, идет не о выигрыше, а о спасении того главного, без чего не будет русского народа. И здесь каждый из нас выбирает тот путь, который ему более близок. Кто-то вместе с детьми точит слезы у отчей избы, кто-то регулярно скликает под свои знамена остатние рати, занимая затем на четыре года уютное думское кресло, а я вот, вслед за дедом гоголевского дьячка Фомы Григорьевича, еще в самом начале 90-х годов решил перекинуться с рыночными ведьмами в дурня. Да так вот и играю уже без малого четверть века: то без штанов меня ведьмы оставляют, то дают пожить более-менее сносно.
А Иван-горемыка, похоже, никак не выберет окончательную линию, всё колеблется…
ВОЙ У ОГРАДЫ
В тиши покоятся давно
Те, что бесчувственны и немы…
Но рядом – «форды» и «рено»,
И воют стереосистемы.
Как будто сонм нечистых сил