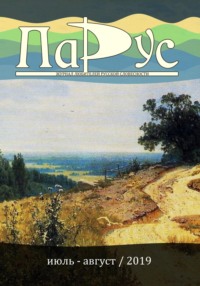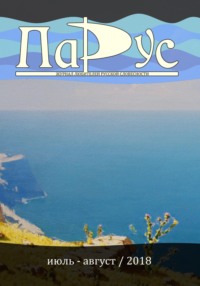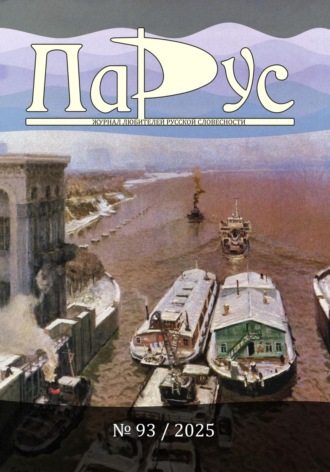
Журнал «Парус» №93, 2025 г.

Ольга Александрова, Игорь Елисеев, Максим Эрштейн, Ольга Коврова, Владислав Бударин, Михаил Попов, Елена Кешокова, Евгений Разумов, Георгий Кулишкин, Григорий Гачкевич, Ирина Калус, Николай Смирнов, Андрей Строков, Александр Савельев, Д. Красный
Журнал «Парус» №93, 2025 г.
* обновление 18.04.2025
Цитата
А. А. БЛОК. Жизнь медленная шла, как старая гадалка…
Жизнь медленная шла, как старая гадалка,
Таинственно шепча забытые слова.
Вздыхал о чем-то я, чего-то было жалко,
Какою-то мечтой горела голова.
Остановясь на перекрестке, в поле,
Я наблюдал зубчатые леса.
Но даже здесь, под игом чуждой воли,
Казалось, тяжки были небеса.
И вспомнил я сокрытые причины
Плененья дум, плененья юных сил.
А там, вдали – зубчатые вершины
День отходящий томно золотил…
Весна, весна! Скажи, чего мне жалко?
Какой мечтой пылает голова?
Таинственно, как старая гадалка,
Мне шепчет жизнь забытые слова.
1902
Слово редактора
Дорогие авторы, читатели и друзья журнала «Парус»!
Приглашаем вас на авторские посиделки в наших Кают-компаниях
«Писателю-современнику»,
«Моя акватория» и
«Не продаётся вдохновенье?».
В Кают-компании «Писателю-современнику» Вы сможете оставить свои пожелания или «вредные советы» современным авторам; написать письмо человеку, который берется за перо; пофилософствовать-порассуждать на темы «Зачем писать?», «О чём писать?» и «Что такое “писать хорошо”?».
Последнее – не «из Маяковского», а «из Достоевского», который, определяя, что такое художественность (подчеркнём, что это качество, отличающее художественную литературу от массовой) замечал: «…Художественность, например, хоть бы в романисте, есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение. Следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать хорошо. Следственно, те, которые ни во что не ставят художественность, допускают, что позволительно писать нехорошо. А уж если согласятся, что позволительно, то ведь отсюда недалеко и до того, когда просто скажут: что надо» (Ф. М. Достоевский. Г-н —бов и вопрос об искусстве», 1861).
Думается, вопросы не праздные, а кому-то из наших современников (впрочем, и для нас самих) необходимые для осмысления;
Кают-компания «Моя акватория» обращена к тому поддерживающему любимому пространству, «родной гавани», которое подпитывает наше творчество и придаёт нам силы. А вдруг оно и сформировало вас и теперь – нуждается, чтобы вы это почувствовали, осознали и, в свою очередь, посвятили ему несколько слов?
Это может быть малая родина или другое место – где вы живёте сейчас или жили когда-то, или – где вы хотели бы жить и только выстраиваете контуры такой локации в своём воображении. Предлагаем вместе порассуждать о незримой связи между «словом» и «местом», между писательским сознанием и пространством, между внешним и внутренним нашим мировосприятием.
Можем вспомнить периоды из жизни А. С. Пушкина, названные исключительно по географическим привязкам: Царскосельский, Петербургский, период Южной ссылки, Михайловский, Московский, Болдинская осень… Кавказ и Восток в творчестве других русских классиков, Замоскворечье в судьбе Ивана Шмелёва, Арбат в жизни Юрия Казакова – продолжать можно бесконечно. Насколько тесно связана траектория писательского пути с реальной биографической траекторией его жизни? Так существует ли наверняка и в чём проявляется эта метафизическая привязка к «составу почвы» или «морской воды», где возрастает свойственный только этому месту (тогда уж и времени) гений – воплощающийся в даре художественного слова? Приглашаем рассказать о «своей акватории» и поделиться своими мыслями на этот счёт. Давайте вместе создадим огромное географическое полотнище нашего общего литературного «паруса».
Кают-компания «Не продаётся вдохновенье?..» поднимает вопрос о монетизации литературного труда. Памятуя о мягко говоря нестабильной финансовой стороне жизни классиков в разные времена, спросим себя: можно ли сегодня прожить, зарабатывая писательством? Каков статус писателя в современном мире? Является ли он властителем дум, задающим векторы развития общества? Всякому ли писателю полагаются государственные субсидии? Возможно ли свободно творить, живя «при дворе»?
Как будет выглядеть инструкция по выживанию, если Вы – уже писатель?
Эти и другие сопутствующие темы предлагаем поднять, собравшись в Кают-компании «Паруса».
Присылайте свои размышления через форму отправки рукописей на сайте журнала «Парус». Объём реплик – от одного абзаца до авторского листа. Сроки – до 21 апреля 2025 г. (публикации в выпуске № 93).
В поисках жемчужины
Евгений РАЗУМОВ. Прислушайся…
* * *
Прислушайся – всего лишь стрекоза.
Нет – мак растет. Нет – пенится крыжовник.
Июнь – вовсю. Нет, нет – во все глаза.
Глядит на нас, как будто я – садовник,
а ты… Нимфея этих рек и гор?..
Ессентуки?.. Нет – Греция скорее.
«Эллада», – уточняет Пифагор,
рисуя что-то на песке аллеи.
А виноград?.. Имеет место быть.
А мраморные головы зевесов?..
Устала?.. Окуни девичью прыть
в речушку эту, лилию мне срезав.
На память. Нет – на два десятка лет
(хотя бы). Нет – мне двух десятков мало.
Пусть даже нас на этом свете нет —
прислушайся: душа прокуковала.
26.03.2025
Григорий ГАЧКЕВИЧ. Подлодка
Хочу подлодкой лечь на дно,
Цепляя облака,
Быть с синим небом заодно
И думать, как река.
Владислав БУДАРИН. Тропинка

Я медленно иду, и дождь идёт,
Задумчивый и тихий, чуть с грустинкой.
То лугом, то кустарником ведёт
Забытая прохожими тропинка.
Я знаю, как тоскливо ей одной,
Под шорох капель, с думою тягучей.
Мне некуда спешить, мне всё равно,
А ей со мной, быть может, станет лучше.
И я иду неведомо куда,
Тропа в траве услужливо змеится.
Как хорошо бывает иногда
Что никуда не надо торопиться.
Кают-компания «Писателю-современнику»
Александр САВЕЛЬЕВ. Сколько людей, столько и мнений
Принимая приглашение порассуждать в Кают-компаниях уважаемого «Паруса», могу повторить общеизвестную пословицу: «Сколько людей, столько и мнений». Одним нравятся трагедийно-драматические, мрачноватые сюжеты, другие предпочитают весёлые и жизнерадостные, третьи – с глубокими философскими рассуждениями, четвёртые – романтические, с любовной лирикой, пятые – приключенческие, детективные и фантастические, а кто-то сочетает всё вместе в самых разных пропорциях… Ну, а кому-то ближе мемуарное повествование – небольшие, простые рассказы о жизни. Многое зависит от человека – его внутреннего мира, образа мышления, настроения… и возраста!.. Всему своё время… Я, например, с удовольствием перечитываю Паустовского («Мещерская сторона», «Повесть о жизни»), жизненные рассказы других писателей с аналогичными темами путешествий с описанием природы, интересных встреч, современных и былых событий…
Также следует обратить внимание на то, что при написании автор использует различные литературные приемы и, думается, в гармоничном художественном произведении, всё должно быть в меру… (впрочем, как и везде в природе и в мире).
Лет пять назад, в Первоапрельском выпуске газеты «Волоколамский край» был опубликован мой шутливый рассказ, затрагивающий вопросы, обсуждаемые сегодня Кают-компаниями «Паруса». Возможно, его версия, представленная ниже, вызовет интерес также у читателей «Паруса» и окажется уместной к публикации?
Судовой журнал
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись 28.
Пустодом
Вместо того, чтобы ехать на автобусе в Рыбинск, а оттуда в село Большое, я загулялся до вечера, напился допьяна. А завтра надо быть на работе. Осталось – с утра на первом перевале парома переехать Волгу и напрямую пехом дуть по проселочным дорогам. Может, хоть к концу рабочего дня и успею…
Утро заревое, еще прохладное, в шесть часиков я уже шел по мосту через Юхоть с рюкзаком за плечами, а впереди еще двадцать километров по жаре, с похмелья. Но как я бодрился! Повторял себе: когда-нибудь лет через десять я буду вспоминать эту тяжелую дорогу со смехом, всё пройдет, что теперь кажется тяжелым, а останется лишь – каким я был счастливым – ведь мне было семнадцать лет! Как будет сиять тогда из прошлого и эта даль солнечная, сентябрьская, отдающая уже осенней ясностью…
Теперь там давно асфальт, а тогда автобусы не ходили, попутки были редкостью, лишь версты на три-четыре меня подбросил до деревни мужичок на телеге…
Я шел, чтобы не сбиться на путаных отвертках лесных дорог, по речке Юхоти, скоро превратившейся в ручей, и бежала она всё быстрее, словно поддразнивала меня, сверкая струйками по камешкам на перекатах. Вышел на ясное, солнечное место – на фоне диких зарослей выглянула заброшенная изба, вся в пожаре иван-чая, крыша драночная покоростела мхом, проломилась, и особенно удивил меня светло-синий цветок, не больше пиджачной пуговицы, выросший вверху наличника из оземленелой, сгнившей деревянной резьбы.
Я постоял с набеглым чувством внезапного смятения, будто что-то предрекали мне эти развалины своим одиноким, загадочно глядевшим ярко-синим глазком…
Солнце пекло рыжие травы, высокая, в седой паутине крапива косо клонилась к срубу, к таинственному мраку черневших оконных проемов, иван-чай тянул к ним свои массивные, багровые копья. Я необъяснимо почувствовал, что я здесь не один, как эта изба – не одна, а со своей глубокой тенью прошлого.
На минуту, будто потерял я чувство реальности, попав душой в холодок ее памяти, побывав, словно в не своей, отрешенной жизни, и тотчас же отступил, вернувшись в солнечные кусты осинника, птичий пересвист, стрекот насекомых…
Черные провалы окон втягивали солнечную ясь – и там она словно исчезала… В облике избы, особенно в крыше, испроломанной, как от удара, и в этих черных провалах застыла предсмертная судорога… Передо мной дом-мертвец, не похороненный, а брошенный при дороге… И еще долго я задумчиво шел с этим чувством, вцепившись в лямки рюкзака, подпрыгивающего на спине. И уже устало глядел, как лепеча своё, переламывались на мели струйки речонки по камешнику.
Вышел из лесу в побуревшее, травянистое ополье, к стогам перед селом. Вид его отрадный и простой, словно глазурью, облит синеньким зноем. Издалека смиренно высится церковь, встречает. Но это только издалека… Вблизи церковь тоже в развалинах, с заросшим, косматым кладбищем. Отсюда уже ходят автобусы…
Цветок, выросший там, где не растут цветы. Братец в синей шапочке тем березкам и рябинкам, что забираются на своды заброшенных церквей…
Почему эта изба среди ясного полдня, стрекота кузнечиков, перелета шмелей: всего того звона живого, превращающегося в чувство, которым полнится мир, так поразила меня? И то похмельное утро, и тревога из-за опоздания на работу – все забылось, как я и мечтал. Но лишь синий цветок-глазок глядит по-прежнему из прошлого. И я сейчас вспоминаю ту дорогу, как будто с большой высоты падаю и падаю в бездну памяти к тому дню, к той усталой крапиве и притихшему иван-чаю перед черными провалами окон заброшенной избы, лечу – и не могу долететь… Прошел я дорогу жизни, понимаю, о чем молчала изба, что мне сказала её темная отрешенная тень, о чем, переламывались по камешкам, беззлобно поддразнивали струйки речушки… Я уходил, а теперь снова медленно возвращаюсь к ним… Зачем? Кто мне объяснит?..
Синий, почти бирюзовый цветок – глазок заброшенной одинокой судьбы, нависшей над крапивой и пустодомом, как у нас в деревнях называли иван-чай. Почему так поразил, запомнился? Я падаю, лечу в бездну вечности, и она всё им видит, глядит на меня… А что, если этот маленький цветок-глазок и есть сама вечность? И она втягивала мир таинственным мраком оконных провалов, и вокруг стояла её тишина, что громче всякого пророческого глагола: Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои… Сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием крапивы.
Синий цветок пробился сквозь развалины и пустырь, сквозь мертвую деревню… И всё сказал о ней… И я прошел жизнь, и вспоминаю её, но все уже сказал за меня тот цветок развалин. И мой телесный дом скоро опустеет, уже клонится к нему, заглядывая в душу, кладбищенская крапива и крестастый, сытый иван-чай. И всё, что от моей дороги, может, и останется – это мой синий цветок слова, странный, несуразный, забравшийся чуть ли не под застреху на оземленевшую причелину. Одинокий, неведомо как пробившийся, расцветший не на своём месте, на высоте, где никогда не растут цветы. Он пророс сквозь сгнивший русский сруб – сквозь всю мою жизнь и плоть, как сквозь землю.
Коралловые рифмы
Евгений РАЗУМОВ. Сто сорок дней июля
На мотив И.А. Гончарова
Дочитать «Обломова» осталось.
С книжной полки паука согнать.
Выпить кофе (разгоняет вялость).
Лечь с другою книжкой на кровать.
«Перспектива та еще!..» – с усмешкой
скажет Штольц из местных (немчура).
Догорает вечер головешкой,
как вчера и как позавчера.
Суетился?.. Кажется. Должно быть.
(Это как откуда посмотреть.)
На кофейнике такая копоть,
что под нею не проглянет медь.
Надо бы песочком или пемзой
жизнь вернуть кофейнику. (И мне.)
Эх, Обломов, хорошо под Пензой
с Оленькой Ильинской при луне!..
(Было бы.) Иль где-то у Калуги.
(Кто вас с Гончаровым разберет?..)
Не пошить ли у портного брюки,
что не шью уже который год?..
Не найти ли смысла в человечьем
(куплен Штольцем был) календаре?..
«Что мы водкой (не припомню) лечим —
той, что на лимонной кожуре?..» —
это я Агафьюшке вопросец
(как бы) адресую. Тишина.
Сдам в ломбард одну из папиросниц
и куплю хорошего вина.
И приснится жизнь на этой почве,
где ротонда, лебеди и пруд…
Оленька Сергеевна, не прочь вы
выйти в парк на сорок пять минут?..
На присуждение премии имени Ю.В. Бекишева
Эта премия упала, Юра-Юрочка, с небес.
Не просил ее у тучек, а тем паче – у людей.
Получилось: на минутку ты сюда оттуда слез.
И сказал: «Бумажку эту – на! Покудова владей».
Мы ни стопки не вкусили, не нашли ни огурца
в кадке, что ещё стояла, но – бесхозная уже.
Помолчали возле дачи. Покурили у крыльца.
Ты закашлялся (отвычка). Обнялись – душа к душе.
Улетел. Моя фуфайка не махала рукавом.
Положила ту бумажку, безутешная, в карман.
Хорошо, что ты оттуда, Юра, вспомнил о живом.
(Не уверен, что народу нужен медный истукан.
А бумажка… Может статься, будет пропуском в раю.
Или около, где черти у шлагбаума стоят.)
На плите твоей надгробной редко видят тень мою,
но поверь – душа тоскует, друг, а может быть, и брат!
Предчувствие
«Под пером Тынянова воскресну», —
Кюхельбекер Пушкину твердит.
«Интересно, Виля, интересно», —
отвечает нехотя пиит.
Он не знает, кто такой Тынянов.
Но воскреснуть – в этом есть резон.
Вон, Гораций пережил траянов
и неронов. Это ли не сон
в райских кущах?.. Это ли не искус
пистолету подставлять живот?..
«А морошку кто-нибудь из близких
непременно, Виля, принесет».
…На часах передвигает стрелки
позапрошлый праотцевый век.
…И приходят вместо нянь сиделки.
…И морошка окропляет снег.
На мотив Сулеймана Кадыбердеева
Настольной лампы маловато —
почти метровая картина
(точней – рисунок) воскрешает
когда-то город Кострому.
И самолет висит на небе.
И тащит яблоки корзина.
И я живу-там-проживаю,
листаю с бабушкой «Муму».
А домики – по сантиметру,
а люди – надо с микроскопом
смотреть, откуда эти булки
они несут и молоко.
Кадыбердеев чёрной тушью
нас не рисует сразу скопом —
он в самолетике, наверно,
а самолетик – высоко.
И даже кошка (как комарик)
уместна на такой картине.
Ведь кошки жили на планете
до нас за десять тысяч лет.
А мама где?.. А мама, фельдшер,
к детишкам, что на карантине,
шагает – выписать рецепты
от кашля и от прочих бед.
Как высоко Кадыбердеев
висит на белом парашюте!..
А самолет?.. Он улетает
на кукурузные поля.
И дядя Петя покупает
духи и пудру тете Люде.
(Недаром карты ей сулили
трефового-де короля.)
Белый билет
Не в коляске инвалидной,
но с билетом белым
он из армии приехал,
ох, не на побывку.
Больше сердце не дружило
почему-то с телом.
Больше дембеля не били
пряжкой по загривку.
Доживай. А как, скажи-ка,
доживать, ефрейтор,
нет, сержант, а может, маршал
(сам товарищ Гречко)?..
Не уронит электричка,
так уронит ветер.
И не купишь в магазине
нового сердечка.
Кое-как приладил тело
хилое к рыбалке.
В тихой заводи водились
полторы плотвички.
Он о женщинах не думал
(даже о русалке),
но однажды сон приснился —
сон о медсестричке.
И она ему сказала:
«Встань, Володя, утром.
И отдай мне это сердце.
И возьми – другое».
Встал. И чудо совершилось.
Эскулапам мудрым
развести пришлось руками —
«Это что такое?..»
…Сорок лет искал он деву
в беленьком халате.
И однажды встретил бабку,
ветхую старуху.
«Здравствуй, – та ему сказала. —
Жив?.. Я – тоже, кстати».
Он узнал ее.
Обнять бы. Не хватило духу.
Ну, а та засеменила —
еле-еле-еле…
Видно, сердце не стучало
под кофтенкой серой.
«Как зовут тебя?..» – вдогонку
он спросил у ели.
«Сорок лет назад, – сказала, —
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: