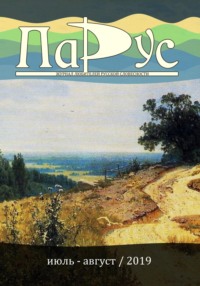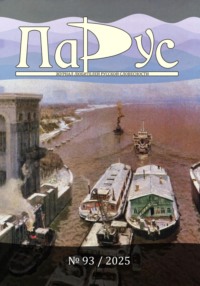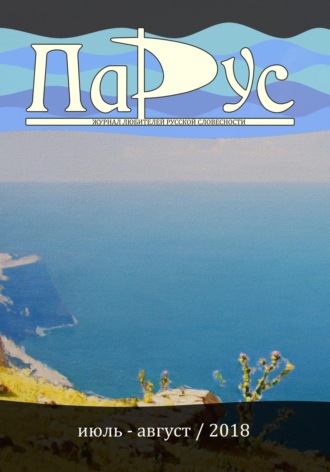
Журнал «Парус» №66, 2018 г.

Николай Смирнов, Михаил Смирнов, Борис Колесов, Валерий Сузи, Владислав Пеньков, Ольга Корзова, Нина Щербак, Василий Пухальский, Ирина Калус, Евгений Разумов, Елена Александренко, Георгий Кулишкин, Евгений Чеканов, Диана Кан, Алексей Котов, Юрий Павлов, Андрей Румянцев, Вячеслав Александров, Адам Гутов, Валерий Серяков, Александр Пшеничный
Журнал «Парус» №66, 2018 г.
Цитата
Иван БУНИН
В ОТКРЫТОМ МОРЕ
В открытом море – только небо,
Вода да ветер. Тяжело
Идет волна, и низко кренит
Фелюка серое крыло.
В открытом море ветер гонит
То свет, то тень – и в облака
Сквозит лазурь… А ты забыта,
Ты бесконечно далека!
Но волны, пенясь и качаясь,
Идут, бегут навстречу мне
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.
И что-то вольное, живое,
Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
То, что забыто навсегда!
1903–1905
Художественное слово: поэзия
Евгений РАЗУМОВ. На ангелов смотрит душа
***
На дачу – навьюченный не «Солнцедаром»,
но: вервием, ботами, новым гвоздем —
идешь ты, и солнце проснулось недаром —
работать пора. Значит, вместе идем.
Туда, где уже появилась редиска,
а скоро потянется к ней огурец.
Туда, где Вселенная – вот она – близко.
А думам о смерти, пожалуй, конец.
Ведь сказано кем-то (еще Достоевским,
еще Иоанном) про то, что зерно
должно умереть на юру деревенском,
чтоб хлебушком стало пшеничным оно.
Пожалуй, затем и придуманы боты
и прочий под небом земной инвентарь,
чтоб что-то осталось потом от работы,
от жизни твоей, как заведено встарь.
А дача?.. Сараишко просто под небом.
Чтоб думать оттуда о той простоте,
которая зернышко делает хлебом,
с которою звезды не тонут в воде.
***
Ю. Бекишеву
«В этом перечне природы где мои стоят калоши,
Юра?..» – Бекишева спросишь в огороде босиком.
Даже пугала не носят больше наши макинтоши.
Под веселой стрекозою. Под веселым мотыльком.
Мы из прошлого из века снова вынесли скамейку
побеседовать, погладить тети Таина кота.
И плевать уже, наверно, нам на ржавую на лейку,
из которой раздается – вроде эха – пустота.
Нам бы шорохи послушать муравьиного масштаба,
из которых прорастают человеческие дни
с этой лейкой, папиросой, колуном, словечком «кабы»,
человеческой слезою (кепкой ты ее смахни)…
Там – наверное, разгадка этой каменной планеты,
где стоит скамейка эта, где присела стрекоза
рядом с Бекишевым Юрой – поглядеть в глаза поэту.
Не смахни ее случайно, кепкой вытерев глаза.
***
Внуку Саше
Всех бронзовых жуков по имени бронзовка —
раз: не переловить, два: незачем. Ага?..
День. Улица. Фонарь. Аптека. Остановка.
Автобус № 7 «Для сердца курага
полезна», – телефон чревовещает. Точка,
откуда горизонт уже не виден, но…
Ведь надо как-то жить. (Считает оболочка
потрепанной души, глядящая в окно.)
Во имя внука?.. «Да», – мне говорит будильник.
И чайник на плите поддакивает: мол,
у Ромы нет отца. Глазами в холодильник
смотрю, смотрю, смотрю… Пилюли. «Простамол».
Я – дедушка? «Ага, ага», – кивает кепка.
«А Саша, Саша где?..» – почти немой вопрос.
«Уехал, – говорит для ползунков прищепка,
для трусиков его. – А может быть, подрос».
А как же мы с котом?.. А паровозик этот?..
Куда ему ползти, забыв радикулит?..
И вообще: ЗАЧЕМ КУДА-ТО ВНУКИ ЕДУТ?!.
Ведь это не карман – болит, болит, болит…
А (думаю) душа, где обитают внуки —
и Саша, и Роман. С пелёночек. Не плачь,
небритая щека!.. Заштопай Роме брюки.
Купи велосипед (или хотя бы мяч).
***
Ближе к осени природа
совпадает с человеком,
у которого не мысли —
тоже листья в голове.
«Накормлю себя сегодня, —
лист кленовый, – чебуреком».
«Почему, – береза это, —
жизнь кончается в траве?..»
А вокруг – шмели и пчелы,
яблоки и то, что вишней
заготовлено в компоте
Марьивановной в саду.
Под скворечником без птицы
я и сам какой-то лишний.
«Это – август, – понимаю, —
что бывает раз в году».
Надо к этому привыкнуть —
шарканью по листопаду,
где когда-то начинались
эти пчелы и шмели,
и смеялась в небо Маша
(хохотала до упаду),
и во мне, наверно, мысли
тоже ландышем цвели.
Надо истоптать ботинки
на периметре природы.
Надо улыбнуться кепке,
что повешена на гвоздь.
Надо убедиться: были
до-потопные народы.
Надо Землю пересыпать —
всю – в кармашек или в горсть.
***
Стрекоза пролетела, а с нею – и лето.
Башмаки не успели поспать на траве.
Всё тащили куда-то. Всё шаркали где-то.
Всё бродили, как мысли в его голове.
Там другая трава обступала босые
очевидно-тела в очевидно-раю.
Это было когда-то, но с ними – впервые.
«Перед кем до сих пор, – он подумал, – стою?..»
Там была пустота с очертанием тела.
Он нагнулся поднять одежонку с травы.
И тогда стрекоза сквозь него пролетела,
а за нею – и лето. И лето, увы.
Он подумал: «А ладаном пахнет ромашка?..»
На вопрос не ответила даже пчела.
Липла к телу последняя в жизни рубашка.
Пустота с очертанием тела была.
***
А.А.
Бросить все и – к черту на кулички!
Или Бог за пазухою ждет?..
Только соль в кармане, только спички,
только хлеб – от костромских щедрот.
Но сначала – дописать рассказец,
где она – последняя – в окне.
Чтоб сбылось. Чтоб светом – для подглазиц,
что слезами омочил во сне.
Но сначала – залатать ботинок
(подвязать хотя бы бечевой).
Вышел к Богу (как бы) как бы инок,
а пришел… юродиво-седой.
Кто-то пальцем у виска покрутит:
Дескать, у Толстого моду взял.
Кто-то скажет: «Что-то скажут люди-т?..»
(Из-под пледов, из-под одеял.)
…Он стоял, и странная улыбка
по седой стекала бороде —
будто в ухе заиграла скрипка
той, что ходит (как бы) по воде.
***
От корки до корки прочту Пастернака.
«Изменится что-то?..» – подумает кепка.
Зевнет возле будки цепная собака.
Чего не хватает?.. Посмертного слепка.
Где лавром утыканы уши, должно быть.
Должно быть, поэта такого-то. «Глупо», —
из зеркала глянет песок или копоть,
которой даны были детские губы.
Когда-то. При жизни еще Пастернака,
в двухтомник которого вдета закладка.
Порви эту кепку, цепная собака!..
Забудь обо мне, огуречная грядка!..
Я тоже копался в земле и Шекспире.
В земле и Шекспире искал я ответы
на то, почему в переполненном мире
должны поселяться еще и поэты.
Они – не отсюда. Им тесно в калошах,
которые топают по перегною.
На ангелов смотрит душа на прохожих.
Молчат. А вчера – говорили со мною.
Ольга КОРЗОВА. Над вечной, как небо, рекой
***
Отчего ускользает главное?
Как за ниточку ни держись,
над пригорками, над дубравами
поднялась, улетает жизнь.
Мы глядим, заслонясь ладонями,
чтоб никто не заметил слёз.
Шар цепляется ниткой тоненькой
за сучки, за стволы берёз,
и сжимается сердце горестно:
Боже мой, сколь далёк и мал!
Если б сбросил немного скорости
и подольше бы не пропал…
***
Заснеженным лугом иду не спеша,
и мёрзнет во мне, и болеет душа,
и в сумерках тает дорога.
Здесь раньше ругались за каждую пядь,
а нынче и стога нигде не видать.
Луга без единого стога…
Репейник хватает меня за рукав:
«Зачем ты бредёшь между высохших трав?
Зачем не даёшь нам покоя?»
Разжав его пальцы, спускаюсь к реке
с немою тоской постоять на песке,
но скрылся песок под водою.
И стынет – не может застынуть река,
и грозно глядят на меня облака,
повиснув над полем вчерашним.
Лучиной сгорают деревни во мгле.
Мы лишние люди на лишней земле.
И горько, и больно, и страшно…
ПОЛОВИНА ЗИМЫ
Половину зимы
проживу, будто сонная птица.
Лишь встряхну головой —
и опять окунусь в забытьё,
оттого что метель
подступила и в окнах клубится,
оттого что молчит
заплутавшее слово твоё.
Половину зимы —
будет время – наверно, не вспомню,
словно снег никогда
над моею судьбой не летал
и не пряталась я
в тишине цепенеющих комнат
за работу, за книгу,
за женский пустой сериал.
Половину зимы —
да к чему мне её половина? —
если где-то в лесу
притаилась под снегом трава,
и о родине грезит
отчаянный клин журавлиный,
и грустят на реке
в ожиданье весны острова.
***
Как вязок зимний быт…
В шуге застряла лодка,
и лёгкое весло
сломать не может лёд.
Затворницей живу,
а зимний день короткий
меж сонных берегов
плывёт себе, плывёт…
Я на него гляжу,
глядеть не успевая,
пока бреду с ведром
среди моих синиц,
пока топчу тропу,
пока слеза живая
нет-нет и упадёт
с заснеженных ресниц.
Как сладок зимний быт…
Просторы избяные
гудят печным теплом,
разреживая тьму.
И просто, и светло
живу в глуби России,
и радуюсь снегам
и твоему письму…
***
Будешь в землю положено, злое зерно,
и во тьме, средь тончайших сплетений,
растворишься, смешаешься с ними в одно,
станешь тенью, печальною тенью.
И лежать будешь долго, без думы, без сил,
без надежд на своё воскресение,
монотонно, как дождь, что вчера моросил
или нынче. Осенний, весенний…
И, пресытившись тьмою и этой водой,
ледяной, до уныния пресной,
ты потянешься к свету, росток молодой.
А взойдёшь ли? – Ещё неизвестно…
***
Не верилось, а всё-таки пришло.
Кричит кукушкой, зреет земляникой,
утят окрепших ставит на крыло,
цветёт ромашкой, пахнет мёдом диким.
Короткое, желанное, постой!
Дай надышаться вольною прохладой,
пропасть на миг – навек – в траве густой,
с дождём пройтись по высохшему саду.
В лесную даль лукошком помани —
грибов набрать, малины, зверобоя,
почувствовать, как безмятежны дни,
когда они наполнены тобою.
***
Вхожу я в дом, где нынче только гость,
а в доме знаю каждый скрип и гвоздь,
и трещинка на погнутой стене,
наверное, тоскует обо мне.
На лестнице перила льнут к рукам.
Бежит слеза по веку – по векам
оставленным… Отброшенным, как сор,
в эпоху разрушительных реформ.
***
Ночник материнский и лампу отцову
в субботу зажгу я опять.
Их свет, точно отблеск далёкого слова,
которого не разобрать,
пока не послышался звук из заречья,
пока на другом берегу
хромой перевозчик с котомкой заплечной
устало стоит на снегу.
Пока он цигарку свою не потушит,
пока не откроет замка
и ржавой тоской громыхнёт в мою душу
старинная цепь челнока,
пока я люблю, вспоминаю и плачу,
пока ожидаю восход,
помедли, весло, потому что иначе
кто лампы в субботу зажжёт?
РОМАНС
Отчего мне так душно? —
Конечно, окошко закрыто,
и задёрнуты шторки. —
Никто не нарушит покой.
Ночь давно отошла,
но её грозовые копыта
ещё цокают тихо
над вечной, как небо, рекой.
Нужно было рвануть
вслед за ней. —
И куда привела бы?
Да и время ушло —
все порывы мои позади.
Только голос любви —
отголосок, стихающий, слабый,
бередит иногда,
но уже замирает в груди.
Распахнуть ли окно,
чтобы запахи
летнего сада
взбудоражили дом,
всколыхнули его
забытьё? —
Но внутри тишина,
и былого тревожить
не надо,
и во сне называть
невозможное имя твоё.
***
Сама себе кажусь большим кустом,
задумчиво бредущим через поле.
Остановлюсь, вздохну о прожитом.
О том, что стало тихо нынче в школе,
закрыт большой сельповский магазин.
Хоть флаг ещё торчит над сельсоветом —
дверь заперта. И сколько лет и зим
в деревне жизнь протеплится? – Об этом
не знает куст. Да и к чему кусту
тревожиться и будоражить память?
Иду вперёд, цепляя пустоту
для всех ветров открытыми корнями.
Влад ПЕНЬКОВ. Жемчуг обречённых
РУССКОЕ
1
Перевернётся новая страница
замысловатой повести недлинной,
и то, чего так сердце сторонится,
вонзится в сердце лапкой голубиной.
И вынет сердце. Запахи аптеки
смешаются со сквозняком извечным,
которого не ведали ацтеки —
благоуханным и бесчеловечным.
Немного праха и немного духа —
им лучше по отдельности, наверно.
И быстро перекрестится старуха-
сиделка. Набожно? Скорее, суеверно,
пока приоткрываются Сезама
прекрасные и страшные ворота
на яркой репродукции Сезанна.
Но это не её уже забота.
2
Жили-были, горевали
и садились в поезда,
целовались на вокзале,
целовались навсегда,
не пропойцы, не убийцы —
дети русские зимы.
Жили-были натуфийцы.
Жили-были так же мы.
Ничего не остаётся,
кроме «Ты меня прости».
Над вокзалом голос льётся —
«с тридевятого пути…»
3
Заболело утром сердце и
стало капельку страшнее —
на италии-флоренции
я гляжу со дна траншеи,
посветлеет в полдевятого —
за стеною то же самое:
«Я убью тебя, проклятого!»
Сложно жить с Прекрасной Дамою.
Проще с кошкой или птичкою
и привычкой к одиночеству —
самой вредною привычкою,
но бросать её не хочется.
И смотреть оттуда – с донышка —
вот Флоренция, вот семечки —
Беатриче с нежным горлышком,
певчим горлом канареечки.
4
мавритания, испания,
где угодно побывай —
многоскорби многознание
испекло нам каравай,
антарктида, эфиопия,
хочешь – вглубь, а хочешь – вдаль,
так и этак встретишь копию,
и в глазах её – печаль,
кампучия, каталония —
всё в одном твоём лице,
кататония, эстония,
с померанией в конце.
5
Выпей с горя керосину,
а не сладкого вина.
Выпей горькую осину,
керосин допив до дна.
Да, хотелось о высоком.
Так его и попроси —
керосинового сока,
сока едкого осин.
Всё другое – против правил.
У всего – не тот размах.
Жил-да-был художник в Арле,
тоже керосином пах.
А ещё вокруг – болотца,
пусть вода не глубока,
но водица пахнет оцтом —
для последнего глотка.
6
Иван Венедиктович
День опять не ходит прямо,
снова ставит мне в вину
трагифарс и мелодраму
и пристрастие к вину.
«У кого-то ночью чёрной…»
День бывает почерней.
Свищет с ветки обречённой
обречённый соловей.
Не бывает жизни ладной
и «нетрудной смерти» нет.
Только лёгкий и прохладный —
самый-самый вечный – свет.
7
Пятый томъ
Горше, чем горчица,
музыка-старуха.
Буду горячиться,
словно Пьер Безухов,
буду за свободу,
буду кушать кашу,
тасовать колоду,
целовать Наташу.
Музыку не слушать,
ребятишек нянчить,
утром кашу кушать,
наливать в стаканчик.
Может быть, уеду.
Может быть, останусь —
ревновать к соседу
ту, что мне досталась.
Слышать в час вечерний,
на закате, что ли —
музыку-свеченье,
слаще всякой боли.
ЭТРУССКОЕ
Н.
1
Мирт, кипарис, гранат.
Сосна, рябина, клён.
Закат, закат, закат
эпох, миров, племён,
особенно – звезды,
особенно – сердец.
Тирренской бороды
всё тяжелей свинец,
всё ниже голова
и флейта солоней,
как будто бы слова,
а где же соловей?
Я вскину руки так,
как танцевали вы,
идущие во мрак
на фоне синевы.
Как день с утра глубок
(и как неуловим
вечерний голубок,
заплакавший над ним).
Из улетевших птиц —
его последний час,
последний взмах ресниц
его этрусских глаз.
2
И тех и эту, может быть, – и ту,
я всех любил – и жалобней и звонче,
чем женщину, держащую во рту
серебряный старинный колокольчик.
Но вышло, что любил её одну.
Любил, люблю – неточные глаголы.
Люблю, и вместе мы идём ко дну,
так и пошли, из древней выйдя школы.
Нас там учили разбирать цвета
на запахи, на звуки и на строчки,
что основная музыка проста —
все будем умирать поодиночке.
Куда-то проплывали облака,
стекала кровь по лезвию минуты,
и не давалась юноше строка,
а девушки давались почему-то.
Слепые губы тыкались в плечо,
и замирало сердце в перегрузке.
И плакали светло и горячо
над этим счастьем мудрые этруски,
и плакали откуда-то со дна,
куда я не стремился, но откуда
пришла строка о том, что «всё – она,
и всё – её серебряное чудо».
В густой траве сверкал стеклянный бок,
этруски обнимались после смерти, —
и каждый был хмелён и одинок,
и говорил: «Я не один. Не верьте».
КАК БУДТО
У жизни – козья морда,
а ты вполне хорош,
бедняга Квазимодо,
но сгинешь ни за грош.
Горгульи смотрят хмуро,
глядят со всех сторон
и веруют в натуру
бастардов и ворон,
желают навернуться
канатным плясунам,
а те свистят и гнутся,
взлетают к небесам —
обычные подонки.
Чудны Его дела!
Душа их, как пелёнки,
то смрадна, то бела.
Их ждёт внизу плясунья,
она им дорога,
на ней не шубка кунья,
не шёлк, не жемчуга.
Но что тебе-то, братец —
горбун, горгулий брат!
Есть лишь она и платьиц
волшебный аромат,
есть небо для влюблённых
и для любви – земля
и жемчуг обречённых —
пеньковая петля.
Пускай слюну и скалься,
мычи, шепчи, гляди,
скреби мохнатым пальцем
по впадине груди —
там сердце есть из мяса,
там небо и т.д.
И вот ты плачешь басом —
в Париже и везде.
Елена АЛЕКСАНДРЕНКО. Познать свою дорогу
***
Разорву паутину,
Сплетенную ложью и гневом.
Нарисую рябину
Под теплым безоблачным небом.
И найду те слова,
Что от слез прорастут в белом поле.
Может, тем и жива,
Что люблю одинокую волю.
ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ…
Никакого мне дела нет
До пустой молвы…
Буду жить я тише воды,
Ниже травы.
Буду слышать лишь,
Как вода поёт,
Как трава растёт,
Как трепещет лист.
Как земля моя
Шумный дождик пьёт,
Как речной перекат речист.
Затаюсь вот так
И услышу вдруг,
Что не слышит никто нигде,
Как бренчит серебром паутин – паук,
О чём рыба молчит в воде.
До людской молвы
Мне и дела нет —
Всё никчемная болтовня…
Сквозь лучи травы
Протекает свет,
Как молчание, сквозь меня.
ЛАНДЫШ
Тропинка, солнце и лоза
Спускаются к реке.
В тени жемчужная слеза
Дрожит на стебельке.
То первый ландыш задышал,
Всплакнув в лесной тиши.
И ветер аромат смешал
С теплом моей души.
ОДУВАНЧИК
Одуванчик весь бел, на него только дунь —
Разлетятся пушинки, как снег, на траву.
Птицы в юной листве воспевают июнь,
И мечтательно бабочки в небо плывут.
Земляничные ветры навстречу летят
И несут теплых ягод божественный вкус…
И обрызганный солнцем встревоженный сад
Полон света и душу волнующих чувств.
ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ
Так трудно прикипеть к порогу
Тебе, познавшему дорогу
И волю вольную полей,
И зов осенних журавлей.
Когда уходит день вчерашний,
Как трудно быть тебе домашним
И грусть водить на поводке,
И жить в уюте и тоске.
Ах, это все необъяснимо!..
Как хочется порою дымом
Скользнуть в спасительный проем,
Смешаться в небе с вещим сном,
Осилив путь далекий Млечный,
Познать свою дорогу в Вечность.
Художественное слово: проза
Георгий КУЛИШКИН. Домашнее хозяйство
Рассказ
– На что вы живете? – спросил прокурор пристрастно.
– Кручусь… – ответил Хаймович.
– Что значит – кручусь? Ну, покрутились бы вы вокруг меня – и что?
– Вокруг вас? Что вы! И вы бы имели, и я бы имел, и все были бы довольны!
Этот нестареющий анекдот Василий Степанович держал при себе как словесную трудовую книжку, описывая им при случае род своих занятий.
Когда на пятнадцать частей разломилась армия великой страны и сделались в одночасье никому не нужными тысячи и тысячи служак, наш герой, выведенный в отставку, испытал затяжную гнетущую растерянность. Ни умения в руках, ни знаний, способных обеспечить куском хлеба. Но врожденная неподатливость к унынию не позволила Василию Степановичу замкнуться и опустить руки. Все они, служаки, оставленная не у дел военная косточка, невольно тянулись друг к другу, поддерживая связь, и стоило кому-то одному поймать удачу, как он тут же скликал своих, на кого мог положиться.
Однокашник нашего героя, с которым вместе, бывало, напропалую бедокурили в училище, ловко, совсем как они в юности на подножку трамвая, запрыгнул в политику. И вдруг, пожалуй, что неожиданно и для него самого, заделался городским головой.
Василий Степанович был призван одним из первых. Перечень возможных вакансий не имел конца. И широта ли выбора была тому виной, или потому, что всё предлагаемое доставалось как бы на дармовщинку, однако ни к чему не потянулась душа. Несколько дней Василий Степанович так и эдак пробовал прислушаться к себе и в итоге пришел к убеждению, что его давнишний, по сути, детский еще выбор армейской службы, как и первая половина жизни, – были ошибкой. Сейчас, не по своей воле отлученный от армии и так долго просуществовавший никем, он с удивлением открыл в себе, что ему не хочется снова идти кому-то в подчинение и кем-то командовать. До того не хочется, что сама уже мысль о бесспорно завидном служебном положении воспринималась отталкивающе неприятной.
И он отказался. И это – что он не пошел под начало друга юности – сохранило их отношения в прежней ничем не обременяемой простоте. Василий Степанович, как и прежде, был участником всех отмечаемых новым градоначальником семейных торжеств, без церемоний наведывался к тому домой или на службу. И вскоре знакомые нашего героя стали обращаться через него с просьбами к первому лицу города.
Ничто сомнительное или способное поставить друга перед затруднением категорически не принималось Василием Степановичем. Но даже самой незамысловатой бумаженции, подписанной наверху, требовалось для ее следования по всем нижестоящим инстанциям «приделать ножки». Понимая, что, сказав А, нельзя не сказать и Б, наш герой взял на себя и эту задачу. Перезнакомившись постепенно с ответственными людьми в подразделениях городского управления, он зачастую мог уже не беспокоить Самого, а утрясать дело с непосредственным исполнителем.