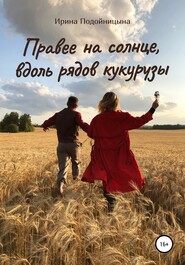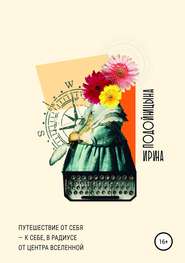По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневник одного директора
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«7 ноября 1999 г. Великий Октябрь. Дежурю с семи утра. Снежок и ветерок на улице. Хорошев И.Ф подмел парадное крыльцо, другая уборщица – «не заросшую тропу» к памятнику А.С. Пушкина. Дома и в театре полный порядок. Какой я упрямый и сильный! Но насколько меня еще хватит?! Болит сердце очень». Таких записей – о мучительной боли в области сердца немало. Но эти записи всегда сопровождаются важными уточнениями о том, что директор преодолевает эту боль. Для него стакан всегда был наполовину полон, а не наполовину пуст, то есть он был оптимистом. Директор постоянно что-то делал в театре, порой даже мелочи, для него было важно продвижение вперед, даже мелкими шажками. Наш упрямый и сильный герой неустанно проводил работу над собой, не давая возможности недугу одержать над ним победу. И, надо отметить, что эта борьба – за собственное здоровье, за продолжение жизни, за результаты в работе – всегда давала впечатляющие плоды.
14 ноября 1999 года директор театра сделал запись, которая свидетельствует о том, как он любил цифры, их причудливые комбинации, их взаимосвязь. Он свято верил, что цифры влияют на нашу жизнь. «14 лет 14 дней в ГРДТ. Остается 122 дня (полгода) до 7777 дней директорства (13 мая 2000 года). Доживу ли? Доработаю ли? Доживу и доработаю! Мы такие!». К цифре семь, когда-то еще древними египтянами возведенной в ранг святых, наш директор вообще относился с пиететом. Все важные дела он назначал на седьмое число. И если ему говорили, что в какой-то мере это «подстроено» им специально, он не желал в это верить. Он был уверен, что ее величество Семерка помогает ему. «Вот и все! 333-й день 1999 года. 5007 день строительства и доводки всего комплекса театра. Все сделано! Скольких же нервов мне это стоило! Знаю только я и Бог!». Несмотря на то, что новое здание театра было построено, выкрашено, выбелено и от пожара не осталось и следа, директор постоянно, как мы уже рассказали выше, перманентно проводил ремонт. Вот, к примеру, что он записал 02.12.1999 г. «День начал, как всегда, с обхода своего любимого театра, выискивал самые-самые мелочи, кое-что нашел – пятна на лестничной клетке, обшарпан низ зеркала… Все исправлю, театр должен блестеть чистотой».
1999 год был ознаменован в театральном мире выдающейся постановкой, о которой много писали и говорили, даже на всероссийском уровне. Но вначале посмотрим, что об этом написал один из вдохновителей этого шедевра – наш вездесущий директор. «15-16-17 декабря 1999 г. Подготовка к «Одиссее Инока Якутского». Все идет по непохожему образцу, все-таки Андрей Борисов – талант! Как делает, загляденье! Будет что-то!». Не стоит забывать, что заслуженный деятель искусств РС(Я) и лауреат многочисленных премий Андрей Борисов был в Русском театре далеко не новичок. В январе 1994 года с большим успехом прошла премьера спектакля «Три разговора» (Повесть об Антихристе), которую поставил А. Борисов. Автор пьесы – теософ и поэт В. Соловьев, сын академика С. Соловьева, написавшего «Историю России с древнейших времен». В газетах Борисова, по национальности саха тогда назвали «русским философом-режиссером». На большой красочной программке спектакля «Три разговора», прошедшего с триумфом в Русском театре А. Борисов написал тогда мне: «Театр творит еще и зритель, талантливый зритель. Я думаю, Вы принадлежите к такому зрителю». Горжусь этой ремаркой мастера!
Мне посчастливилось присутствовать также на премьере «Одиссея Инока Якутского», режиссером которого был имярек. Это был полный аншлаг. Все радовались, что «Одиссея…» посвящена местной тематике. Тема освоения Севера всегда была горячо любима якутянами. Можно сказать, что это была и есть тема Number One в якутских театрах. Актеры играли на полном подъеме, каждый выкладывался на подмостках без остатка. Особенно удалась сцена крушения корабля, да и вообще все технические составляющие спектакля были очень эффектны. После премьеры в кабинете у директора мы очень интересно поговорили с обозревателем журнала «Страстной бульвар» из Москвы, она собиралась писать о премьере. Помнится, мы очень горячо спорили, нужны ли технические эффекты в «серьезных» спектаклях, не обесценивают ли они его. На второй день опять-таки в кабинете у директора собралась неплохая компания – сам хозяин кабинета, его заместитель и будущий заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Козловский, заместитель директора Александра Звонкова, один из лучших актеров театра, его корифей Валентин Антонов и виновник торжества, главный творец шедевра Андрей Борисов. «Самый хороший разговор, на эмоциях», – зафиксировал директор, обрадовавшись полному консенсусу в своем коллективе, удачной премьере, которая всех сдружила.
А вот вторая премьера «Девушка с большим ртом», где режиссером-постановщиком выступал Г. Нестер, прибывший в Якутию из Белоруссии, оказалась очень слабой. Директор записал в своем дневнике-органайзере: «25.12.1999 года. 3-й спектакль-премьера 80-го театрального сезона «Девушка с большим ртом» А. Рида. Архи не понравилось. Завтра, да, скорее сегодня, выдам товарищу режиссеру и Козловскому. Думаю, что экзамен не сдан… Экспромтом все-таки выдал и снова заныло сердце». На мой взгляд, этот спектакль был обычным проходным вариантом, «летним и несерьезным», хотя и шел зимой. Такие постановки всегда были приняты у антрепризных театров. И этот спектакль был ничем не лучше, не хуже остальных среднестатистических перформансов. Я немало таких посмотрела, поэтому отнеслась к «Девушке…» весьма спокойно, как, наверное, многие зрители. Самого Г.Ю. Нестера директор считал человеком неплохим, но вяловатым, пресным, и постановки были похожи на своего творца. Хотя если быть справедливым, во второй половине своей деятельности Нестер уже стал ставить хорошие спектакли, разошелся: «Дамы и гусары», «Сердце Луиджи», «Мою жену звать Морис». Вообще ко двору Русского драмтеатра подошли только два режиссера – Келле-Пелле и Борисов, два местных талантливых деятеля.
Нестер на самом деле восхищался директором театра, он честно признавал, что ему не хватает такой напористости и силы воли, как Ивану Ивановичу. Однажды он подарил директору книгу «Сталин в жизни» и так надписал ее: «У меня сложилось впечатление, что Иван Иванович умеет глубоко и хладнокровно взвешивать все обстоятельства и не тешит себя никакими иллюзиями». Хорошая характеристика собственного босса.
Директор много ожидал от миллениума, «новейшей эры», как он говорил, и считал, что это явно последний год его работы, а на самом деле он доработал до 2008 года, то есть до своего восьмидесятилетия. «Еще 366 дней работы непростого високосного года. 05.06.2000 года будет 5555, то есть четыре пятерки в ГАРДТ им. А.С. Пушкина, – рассуждал директор-нумеролог. И, как всегда, строил планы. – Я проработаю с 01.11.85 года до 15.01.2001 года. А еще 13 мая 2000 года будет 7777 дней директорства. Надо хорошо пожить, хорошо поработать, как я это умею!»
Что же было хорошего, знаменательного у персоны номер один Русского драмтеатра в начале миллениума? Что удалось осуществить? Находим ответы в дневниках. Это подготовка к гастролям в Благовещенске и сами гастроли, конечно. Очень радовался директор тому, что была найдена мощная, «архи интересная» пьеса для гастролей. Далее по тексту у него упоминаются две пьесы – «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера (в трактовке М.Бычкова) и «В сумерках» А. Дударева. Скорее всего, речь все-таки идет о пьесе Дударева. На разведку в Благовещенск директор послал художника Н.Н. Попова и зав. лита Г.В. Иванову, даму требовательную, справедливую и активную. Но подготовка к гастролям шла не очень уж и радужно. Как мы видели выше, вообще театру все давалось нелегко – все премьеры, гастроли, все нововведения. Посмотрим, что об этом пишет Иван Иванович: «Гастроли видоизменили, обрезали. Денег тоже не очень хотят давать. Надо мне добиваться денег любыми средствами. В Нерюнгри, наверное, не поедем. Не хочется унижаться, пусть будет так. Это, получается, жизнь прожита зря?! Некому мне в театре передавать свое мужчинство, а как я об этом мечтал!!! Но, увы, не судьба…». Что ж, такова планида дневника – принимать не только радостные записи, но и горькие сомнения, терзания души, даже минутные слабости сильного человека.
1 марта 2000 года директор с удовольствием констатировал, скорее эмоционально восклицал: «Улетаем в мой любимый град Благовещенск на фестиваль!». А 14 марта того же года наш везучий и неунывающий театральный босс отчитался перед дневником, знававшим разные моменты в его бурной жизни: «Бог дал еще какую удачу! 14-дневная поездка в г.г. Благовещенск и Нерюнгри закончилась архи здорово! Вчера на планерке рассказал при всех и получил благодарность от министра, аплодисменты. Все получилось просто грандиозно! Это очередной верх театра и мой! На планерке в Минкульте выступил перед 34 человеками и сорвал аплодисменты». 16 марта 2000 г. «Был у Президента. Архи здорово! Господи, как же я был им принят!». 17 марта 2000 г. «В газете «Якутия» вышла статья «Три дня, которые потрясли Благовещенск». Провели собрание с коллективом, еще раз обсудили гастроли. Все красиво. Еще раз был у министра, доложил ему о походе к Президенту, узнал, что я теперь – член Совета старейшин РС(Я). Теперь я буду одним из тридцати трех старейшин нашей республики! Еще одна вершина моей жизни. Итак, страница «Благовещенск родной» перевернута! Пойдем к новым удачам! А, может, и до Москвы доберемся?!». Запомним эту фразу «до Москвы доберемся», потому что позже директор добьется своего – ему крайне необходимо было, чтобы о Русском драматическом театре из Якутска узнали в центре земли русской, ведь это будет говорить о большом общественном признании. Мы еще расскажем о «битве за Москву».
А пока кратко – о событиях 2000 года, первого года нового века, отраженных в дневниках этого необычного человека. Творческий процесс, как всегда, не останавливался ни на день, все время что-то репетировали, искали формы выражения, творили. Готовили к генеральному прогону спектакль «Концерт Высоцкого в НИИ», хотели посвятить его строителям театра. Готовили «В сумерках» Дударева. Второй постановкой директор был особенно доволен. Он зафиксировал в своих исповедальных заметках: «29.04.2000 года. Ухожу домой с чувством исполненного долга. Все делалось и делается добросовестно, старательно. Грядет спектакль «В сумерках». Это победный спектакль. Вызываю, если он сможет, А. Дударева!». Премьера «В сумерках» прошла отлично, 05.05.2000 года. Но про Дударева директор ничего не пишет – видимо, драматургу не удалось прилететь в Якутск.
Зато удалось украсить театр к Дню Победы. 8 мая, перед зданием театра собрали ветеранов. Варили для них полевую кашу, угощали боевыми ста граммами водки. Все это подавали в алюминиевых плошках и кружках, как на войне. С парадного крыльца театра пели военные песни. «09.05.2000 года. Вот и Победа! День хороший, теплый. Из всех театров так хорошо украсились только мы. Дежурю с шести утра, люблю восход солнца, я – жаворонок! В. Голуб из Санкт-Петербурга приедет ставить «Мудрец» по Островскому». Иван Иванович, как и любой другой ребенок войны, любил праздновать День Победы. Война глубокими незаживающими рубцами осталась в его сердце: это и уход отца на фронт, и его работа на станке, и зарабатывание денег на семью из пяти человек, обеспечивание всех хлебом, и гибель дяди… У Ивана Ивановича была медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», он ее очень ценил. Одевал эту медаль и медаль отца «За победу над Японией» 9 Мая обязательно.
Но праздники закончились и. как это обычно бывает, начались трудности, серые дни буден. Директор записал с явным неудовольствием: «11.05.2000 г. Утро началось с неприятностей. С «разговора» с Поповым, и с худруком о постановке Островского «Мудрец». Я велел собрать Худсовет. Пришлось опять звонить В. Голубу в Питер». Постепенно все вроде бы урегулировалось, но через несколько дней директор расстроенно отметил: «Опять сердце. Видимо, опять был эмоциональный перегруз, и не всегда аккуратно пил лекарства. Только бы не умереть! Я должен, я просто обязан все сделать в театре! Надо достойно отметить восьмидесятилетие ГРДТ». Как сказал классик: «О, ступайте в театр! Живите и умрите в нем, если сможете…»
Еще раз обратим внимание на нумерологические опыты автора дневников. 05.06.2000 года он записал: «Сорок семь лет работы в Якутии! Вышел на побитие рекорда, хочу перекрыть результат бывшего директора театра Константина Ануфриева и проработать дольше, чем он. А для этого нужен еще год! До этого же числа 2001 года! А завтра будет 200-летие А.С. Пушкина». Иван Иванович всегда праздновал день своего прибытия на Крайний Север, ибо считал этот поворот, этот зигзаг судьбы удачным и жизнеутверждающим.
Стоит отметить, что с другом-дневником директор делился не только записями о самых важных делах в театре или о «мелочах» ремонта , но и в целом размышлениями о жизни в обществе, о новых постперестроечных временах. Иван Иванович был настоящим советским человеком, и кое-что не принимал в новых временах. Вот что он, к примеру, записал на политические темы: «01.12.1999 года. В этот день погиб С.М. Киров. В этот день лет десять тому назад мы были в аэропорту «Полярный», только-только начал разваливаться СССР. По радио как-то нехорошо говорили о гибели Сергея Мироновича. Начали рушиться устои. Тяжело, обидно». А вот еще одна запись из «политической» серии: «26.03.2000 г. Выборы Президента РФ. Коммунисты уходят со сцены, вероятней всего, навсегда. Страна догибнет скоро. Неужели этого не понимает народ?! О, Боже, какие же мы русские безмозглые… Мы с бабкой отголосовали. Я точно – за Г. Зюганова». «10.08.2000 года. 5407-й день работы от 1 ноября 1985 года. Видел не лучший сон – крутые, отвесные, скалистые горы. О них в сонниках ничего хорошего не говорят. Придется, видимо, что-то серьезное преодолевать. А, может, это к тому, что России больше нет, она в агонии…».
Сентябрь 2000 г., новый театральный сезон начинается с чистого листа. Директор, как вы уже, наверное, успели заметить, очень любил делать записи по поводу радостных событий в театральном коллективе, воспринимал их как вехи на своем жизненном пути. У него была цель – прославить театр по всему Дальнему Востоку, по всей России. Он старательно набирал очки успеха. 23 сентября 2000 г. директор зафиксировал: «Сто дней до очередного века! «Одиссея Инока Якутского» – это спектакль для поэтов и писателей, для якутской интеллигенции. Это особое эстетское произведение, его не испортили даже жесткие исторические рамки. Ко мне в кабинет явились человек десять поэтов и писателей. Андрей (Борисов) пришел уже после спектакля. От души отметили получение премии им. П.Ойюнского, который мы с Андреем получили за Инока. А вечером в ресторане «Тыгын Дархан» один из главных в этой команде клятвенно пообещал, что он «решит» с Алексием II вопрос о поездке в Москву».
Увы, справедливости ради, стоит отметить: в театре у директора были не только друзья и единомышленники, но и завистники. Вот, например, такая запись: «В правительстве меня поздравляют с успехами и поют дифирамбы. А. Борисов подарил книгу с архи теплой надписью. Дни в сумбуре! Сладкие дни! Но есть и подлость. Кто-то перевесил мой портрет на гадкое место. Кое о ком думаю, но не пойман не вор». Иногда и со «своими» – с теми, кого директор считал своими – у директора были достаточно сложные отношения. Но характер у Ивана Ивановича был мягкий, отходчивый, он прощал своим коллегам многое, мстить по-восточному коварно и ударять нож в спину – это не про него! Он ни разу не применил этого приема, даже тогда, когда держал в руках козырные карты против кого-то из неприятелей. Он старался никого не увольнять, потому что понимал, что человек может остаться без средств к существованию, да и вообще может потерять себя в жизни.
Люди ценили человечность Ивана Ивановича, они понимали, что на этом магистральном качестве их руководителя держится благополучие всего коллектива. Об этом я много раз слышала от актеров и даже от посторонних людей, от простых горожан. Я как-то зашла проявить американскую пленку директора в фотомастерскую, негативу было 65 лет, но, как ни странно, фотографии получились отличные. И в мастерской встретила одного человека в возрасте. Увидев на фото нашего героя, театрального вождя в молодости, на проспектах Бостона случайный доброжелатель вдруг выдал мне такую тираду: «С коллективом в театре у Ивана Ивановича были проблемы. Ух, как сложно было! Но он справился, он сплотил труппу». Подчеркну еще раз, это было мнение человека из города, зрителя, стороннего наблюдателя, и тем оно ценно. А однажды я нашла книгу, надписанную актерами Антюховой, Мигалкиной, Чудновой и многими другими. Это было 15.01.1990 г. Вот признания актеров: «Милый, добрый, мудрый Ванюша Иванович! Эта жизнь настолько сложна, что только доброта выводит нас из кризисов. А доброты в вас ровно столько, сколько помещается в большого слона. Так пусть же ваш слон никогда не худеет!».
В театре активно готовились к 80-летию ГРДТ. Директор хвастался, что посадил восемьдесят березок в честь 80-летия театра. «Доволен, мечта сбылась, люблю садить деревья!». Еще одно маленькое тоненькое деревце добрые люди посадили у памятника А.С. Пушкина 7 октября 2000 года, хотя земля уже замерзла. Инициативный директор придумал акцию «Восемь главных дел к восьмидесятилетию театра: 1. Украсить экстерьер и 2. интерьер театра; 3. Облицевать мрамором памятник А.С. Пушкина; 4. Сделать пристрой к гаражу; 5. Посадить деревья; 6. Сделать хороший спектакль к юбилею; 7. Провести организационные подготовительные работы; 8. Студия МХАТ в Якутске». И далее директор постоянно отслеживал выполнение этих задач, брал все на карандаш. «Покрасили гараж…; «Получили деньги на юбилей»; «Встретился с представителем школы-студии МХАТ» и др. Восьмидесятилетие ГРДТ отметили 20 октября 2000 года, все прошло на высоком уровне.
Отгремел еще один юбилей, и на следующий день после него директор вновь впал в озабоченность по поводу поиска денег для своего театра, и снова отправился в правительство в поисках полутора миллиона долларов, которые были обещаны с высокой трибуны. Ни минуты покоя! На второй день в дневнике появляется такая запись: «21.11.2000 года. Это было нелегко и даже очень – восстановить театр, поднять его из руин! 5201 день от первого кирпича изуродованного пожаром здания, от первой лопаты мусора вахтового отряда из Нерюнгри Олега Пухкалова по восстановлению театра и вот все кончается! Но начинается другое время, еще будет Великое!».
7 января, Рождество всегда было любимым праздником Ивана Ивановича, ведь он родился 1 января, был типичным Козерогом и имя свое Иоан он получил от родителей в Рождество. В то Рождество 2001 года Иван Иванович на праздничном вечере в «Тыгын Дархане», как он пишет, «был в фокусе», получил премию, приятное шуточное звание «Лучший директор века» (видимо, того века, который закончился), а еще он был рад и удовлетворен собственной речью при первом Президенте РС(Я) Михаиле Ефимовиче Николаеве, с которым дружил всю жизнь. «08.01.2001 года. Вчерашний вечер в его прекрасном виде уже вряд ли повторится. Я ярко выступил, ярко сказал. Это было первое выступление о возможности третьего срока президента, первое по всей республике – и я рад, что именно я это сказал! Если честно, я этого хотел!».
В дневнике 2001 года директор подводит итоги, что за двенадцать лет своего труда в Государственном Академическом Русском Драматическом театре им. А.С. Пушкина – а это был экватор, середина пути – он сделал на сцене 79 премьерных спектаклей, и лучшие из них: «На дне», «Смех лангусты», «Мудрец», «Кошкин дом», «Концерт Высоцкого в НИИ», «Одиссея Инока Якутского» и многие -многие другие. В театре побывало около 1 миллиона зрителей.
Вот еще несколько небольших ремарок из дневника, приводить все бытовые, текущие записи не имеет смысла. Первая ремарка директора касается отношения к деловитости и лени. «28.02. 2001 г. Последний день сорокалетия вхождения в сан директора, скорее – руководителя. Надо и, одно из главных, не выходить из себя, как змея из кожи. Ей это надо, а зачем мне? Их, лентяев не переделаешь, лентяи и подлецы живущи! Я же ищу работу постоянно, я без этого не могу жить …». И вторая ремарка, содержащая в себе сразу две новости. 27 июня 2001 г. директор очень радостно записал, точнее даже воскликнул: «Архисчастливый день! Президент издал Распоряжение о том, чтобы выдать театру десять миллионов рублей. И второе. Переговорил по телефону с Ленинградом, с Александром Ользоновичем Бороноевым, научным руководителем моей дочери и он сообщил, что ей присвоена степень доктора социологических наук, на двухсотый день после защиты, на которой я присутствовал». Далее директор, радуясь, даже ликуя, пишет, что скорее хочет отметить эти судьбоносные события, но дети – дочь и внук – улетели во Владивосток. Он позвонил им, а они отвечали «какие-то напыженные». «Это хорошо, значит, им хорошо!», – делает вывод директор. Он успокаивал себя тем, что все будет отмечено позже, главное, что дочь стала доктором наук, он когда-то даже читал ее диссертацию и правил орфографические ошибки. Главное, что у дочери и внука все ладится в жизни.
Семья играла для директора не только роль хорошего тыла. Семья давала живительные соки для удачной карьеры и проявления себя. Ему повезло с семьей. Его супруга, Екатерина Валерьяновна всегда была добрым советчиком в сложных театральных коллизиях, помогала строить удачные коллаборации актеров для новых спектаклей. Он обожал дочь и внука, свое продолжение. Всегда во всем помогал своим родным брату и сестрам: Геннадию, Лауре, Валентине. С ними он рос в Забайкалье, с ними прошел трудную войну, точнее, войны: два раза они встречали с победой своего отца Ивана Венедиктовича – после Русско-Японской войны в Мукдене, 1945 года и после Великой Отечественной войны. Иван Венедиктович был настоящим русским мужчиной, настоящим героем. Геннадий, Лаура и Валентина выросли достойными людьми. Геннадий Иванович, как мы говорили выше, достиг больших успехов, работая главным инженером управления «Якутавтодор», всю республику покрыл шоссейными дорогами. Лаура Ивановна трудилась научным сотрудником Якутского Ботанического сада. Валентина Ивановна долгие годы проработала бухгалтером завода «Амуркабель» в Хабаровске, она осталась в столице Дальневосточного края. Но главное – его брат и сестры были хорошими, человечными людьми.
23 июля 2001 года директор сделал запись о событии, которое имело для него огромное значение: «Возможно, это исторический День. Написал, вернее подписал Заявление в Верховный суд РС(Я), по Николаеву М.Е. Подписался и Антонов В.Д.». Сделаем одно замечание к этой важной, действительно, исторической записи. Это, если можно так сказать, «заявление» я нашла в книге «Хроника одного избирательного скандала». В этой книге говорится, что нет никакого сомнения в том, что против М.Е. Николаева осуществлялась целенаправленная акция со стороны Центральной Избирательной компании, Верховного суда и Прокуратуры РФ. Деятели ЦИКа, выступавшие против Николаева, проявляли «тенденциозность, истеричность, бездискуссионность» – они не хотели допускать его к очередным выборам. Но многие якутяне поддержали своего Президента, его желание быть избранным еще на один срок, в том числе и директор театра. Он выступил с исковым заявлением в Верховный суд РС(Я) с предложением считать недействительным одну из статей Конституции РС(Я), выступил против ее неточностей, неправового характера некоторых терминов и несоответствия федеральному законодательству. Затем директор театра вылетел в Москву, чтобы присутствовать лично на заседании Верховного суда РФ. Прибыл на знаменитую Ильинку, удивившись тому, что он был с Якутии далеко не один, сюда заявилась целая делегация противников президента, намеревавшихся сорвать предстоящие выборы на ранних «подступах». Они тоже были удивлены в свою очередь, увидев в центре Москвы земляка и, судя по всему, сильного оппонента. Сторонники Николаева победили. Еще раз отметим, Иван Иванович, директор по жизни был также и победителем по жизни и ставка на его поддержку в горячей политической гонке была правильной.
Директор был убежденным коммунистом, советским человеком, участвовать в политических игрищах не любил. Но это единственное исключение из правил он позволил себе потому, что не мог не помочь человеку, которого глубоко уважал, Михаилу Ефимовичу Николаеву. Изучая «эти странные якутские выборы», автор книги «Хроника одного избирательного скандала» искренне воскликнул: «Не перестаю удивляться тому, как, казалось бы, мало что значившее, рядовое юридическое событие, происшедшее 25.09.20001 г. в Верховном суде РС(Я), повлияло на весь ход так называемого «дела Николаева». Мало кто разбирался в юридической казуистике политических событий начала «новейшей эры», но все знали в кулуарах, кто конкретно тогда, в 2001 году помог Николаеву.
***
Директору было 79 лет. Он хорошо выглядел – длинные вьющиеся волосы, добротное кожаное пальто, шарф в черно-белую полоску соответствует тельняшке. Он был похож на актера, потому что всегда был погружен в водоворот творческого процесса. На музыканта – потому что всегда пел. На красного комиссара, потому что был верен коммунистической партии. На старого, вышедшего на пенсию боцмана, на правой руке которого красуется татуировка «БРУ», потому что всегда ходил в тельняшке. Вообще у него было много ролей. Он был умен, сложен и многолик – и здесь нет ничего удивительного, ведь он долгие годы выступал руководителем лицедеев.
Изучим последний дневник этого человека. Он датирован 2007 годом. Итак, что мы имеем? Директору – 79, у него болит сердце, у него уже не так много ресурсов, чтобы управлять театральным «кораблем», чтоб направлять его в обход рифов неприятностей. Но все же ему очень хочется еще отправиться в «плавание». Да, в одной газетной статье Ивана Ивановича, действительно, назвали капитаном. А театр сравнили с парусником, где паруса – театральные афиши. И с попутным ветром парусник мчится по неспокойным волнам нашей жизни. К некому желанному голубому берегу, как о том писал Андрей Борисов.
Открываем последний рабочий дневник стареющего боцмана театрального мира, с неким даже трепетом и волнением. Что же там происходит на его страницах? Какие они, эти страницы – сонные и уставшие? Равнодушные и опустошённые? Или нервные и эмоциональные? Или какие? То, что они не сухие и скучные – это точно! Не будем гадать – будем просто читать и комментировать. Прежде всего я нахожу несколько небольших бумажек, на которых вижу столбики цифр. Разобраться в этих записях не просто. Ясно одно, в этой «коллаборации», скорее, нет, в этой путанице цифр директор снова искал семерку, чтоб опереться на нее и запланировать на эти дни нечто «великое». На первой странице дневника записано: «Орденоносный пушкинский ГАРДТ. Мой любимый Русский! Весь в коврах, дорожках, люстрах, белых шторах, телевизорах, картинах и многом другом. Настоящий Храм искусства», – эта запись сделана 03.07.07 года. Директор находился в отпуске. Он подчеркивает, что этот отпуск будет для него последним, он это чувствовал. Зашел в театр пообщаться со своими замами. «Поговорил от души, от сердца с замами. Люблю их. Они обе честные, но работают как женщины и ничего не поделаешь. Иначе их не останется на ночь! Буду мириться с недостатками…», – рассуждает в тишине своего кабинета директор.
В этот же день, ниже сделана еще одна запись. И хотя она и бытовая, но процитируем ее, в ней есть «изюминка»: «03.07.07 года. Съездил в «Энергосбыт», расплатился за электричество, театр не платил аж десять месяцев. Могли нас круто наказать, но опять помогла моя фамилия и милые «электродамы» насчитали как могли меньше – 4,5 тысячи. Надо не забыть этих дам пригласить на выступление Жириновского в моем театре. В театре все тихо. Работает бригада армян во главе с Борисом Саакяном. Снова потребовался ремонт. А вот Ванькин переулок пока не ремонтируют». Вы, наверное, спросите, а где же «изюминка»? Поясню. Директор заботился о Ванькином переулке, называл его так в шутку, не подозревая о том, что через четыре года после его ухода в мир иной переулок возле театра (в народе Ванькин) официально назовут его именем.
А пока о том, как проходил отпуск директора перед последним, 88-м театральным сезоном. В дневнике он записал, что осталось 147 дней работы. На дворе тогда было только начало июля, а директор каждый день приходил в театр, искал своих замов, чтобы обсудить с ними планы 88-го театрального «забега», но, увы, никого не было на работе – это и понятно, театр был на каникулах. От нечего делать этот беспокойный человек изучал свой кабинет, писал о вещах, наполнявших его, к которым привык и подсознательно чувствовал, что с этими вещами скоро придется расстаться. Он писал, что в его кабинете имеются уютный камин, картины якутских художников, Постановление о присвоении театру имени А.С. Пушкина, Постановление о присвоении наименования Академический, грамоты, Знамя театра, Орден Знак Почета, присужденный театру ( при предыдущем директоре А. Ломако, знаменитом тем, что театру присудили орден, а потом случился грандиозный пожар здания), еще два знамени – России и РС(Я), книга «История Русского государства» в металлической «корочке» и многое другое. Из самых любимых вещей – большой самовар и стакан с советским кондовым подстаканником. Директор любил пить чай, это был каждодневный ритуал с особыми правилами, установленными его замом Риммой Тимофеевной. Из нестандартных вещей, вызывающих иногда вопросы гостей кабинета – фото с пьедесталом И.В. Сталину. На вопрос, как директор относится к вождю народов, театральный босс отвечал, что с его именем прошел войну. Спорить на эту тему босс не любил, споры давались ему нелегко, он всегда нервничал, пытаясь доказать свою правоту.
Далее неожиданно появляется еще одна политологическая запись. «06.07.07 года. Жду, как директор, во вверенном мне театре, когда его посетит В.В. Жириновский. Жду своего политического антипода, чувствую, «Большой» театр (наверное, имеется в виду Театр оперы и балета в г. Якутске – прим. автора) ему не дали. Предоставили Русский театр еврею, да какому?! Не только российскому, а мировому! Все у меня в порядке в театре, этим и горжусь. Надеюсь, ему понравится. Удивляюсь, почему никого нет с Правительства?!».
На встрече с Владимиром Вольфовичем я присутствовала. Он вышел из дверей гостиницы «Полярная звезда», что располагается напротив Русского драмтеатра, и пошел со своей свитой сразу через дорогу, игнорируя дорожные правила. Автобусы остановились, пропуская «мирового еврея», пассажиры прильнули к окнам. Директор театра стоял на просторной театральной площади, залитой июльским солнцем, прямо перед своим рукотворным детищем, возродившемся как феникс из пепла и ждал Жириновского. Я видела, как они крепко пожали друг другу руки и о чем-то недолго поговорили.
В зале театра был полный аншлаг – зал был набит битком. Директор иногда выходил в свою ложу и слушал Жириновского, внимательно разглядывая сверху его самого и гостей театра. Но он не выслушал речь знаменитого политика до конца, так как, судя по дневнику, Жириновский был его антиподом. Мы же с друзьями досидели до победного, потому что было очень интересно. Речь великого ЛДПР-овца была страстной, горячей и немного непоследовательной. Он перескакивал с темы на тему. То говорил, что якутяне не должны пустить в столицу республики китайцев, так как они «украдут алмазы». Потом почему-то заметил, что «китайские 40 градусов ниже нуля совсем не то, что якутские 40 градусов ниже нуля». «Володя! Володя! – вдруг закричал, обращаясь к Жириновскому какой-то простецкий мужик. – А водка китайская тоже 40 градусов?». «Нет, китайская водка – 52 градуса», – нехотя ответил Жириновский, который совершенно не хотел поддерживать разговор с «лохом из толпы». Потом Жириновский призвал всех якутян строить бассейны и купаться в них, так как это спасет северных жителей от всех напастей и болезней.
«Володя! Спой что-нибудь!» – закричал тот самый «лох». Жириновский не выдержал и попросил вывести нарушителя спокойствия из зала, заявив, что он приехал, чтоб по-серьезному поговорить с северными жителями, а рэп пусть читает кто-нибудь другой. Московский политик еще долго говорил, довольно важные вещи – о суверенитете республики, развитии горнодобывающей промышленности, мигрантах и др. Но в конце почему-то прямо со сцены стал раздавать всем присутствующим по сто рублей, иными словами, снова скатился в дешевый популизм. «Выпейте за меня пивка», – сказал он каким-то бравым ребятам. Кому-то расписался на своем диске с шансоном, кому-то поставил автограф прямо на сторублевке. Но веселого лоха к тому времени уже отвезли в отделение милиции и он, бедолага «не дожил» до этого счастливого момента единения лидера и толпы, жаждущей зрелищ.
Однако вернемся к директору театра и его замечательным записям в последнем деловом дневнике. Через 2 дня, 08.08.2007 года директор снова пришел в театр, хотя знал, что все в нем пусто и сделал ностальгическую запись: «Осталось 147 дней в моем любимом театре. Это архи мало! А как жить мне потом дальше, без моего любимого! Как?!» Вот и ответ на вопрос, какими были записи в дневнике: равнодушными, «уставшими» или динамичными, эмоциональными? Конечно, второе. Никакого профессионального выгорания здесь не ощущается. Несмотря на возраст и болезни директор постоянно стремился в театр. И говорил он о нем, как о живом организме, с которым чувствовал тонкую родственную связь. 17 августа директор-отпускник записал с лапидарностью: «Как же прожить эти десять дней, до 27 августа до продолжения работы в Русском?! Выпью чай и пойду в церковь, хочу успокоиться». Фактически все люди с большим стажем работы так и воспринимают пенсию – как неприятное событие, как потерю связей с социумом, как откат назад. Очень он переживал о том, кому передать театр «по наследству», каждый директор должен готовить себе преемника. «Двадцать два года я строил театр, поднимал его из пепла. И кто им теперь будет руководить? Кто придет на готовое? Нет таких, кроме Шурки (Александры Яковлевны Звонковой -прим. автора). Но ей, в ее возрасте это ни к чему. Значит, надо взять «Шашке» Лобанову. Но он молод, коммерчески озабочен. Это ведь не артистов из Москвы заказывать». Имеется в виду привоз антрепризных театров.
28 августа директор отметил день рождения своей любимой супруги, Екатерины Валерьяновны, которую называли «верной подругой театра». И, действительно, она читала пьесы вместе с супругом, подбирала репертуар, бывала на репетициях, обсуждала с Иваном Ивановичем самые острые проблемы театра, помогала ему принимать важные решения. Она была ангелом-хранителем мужа. В период депрессий, сомнений только она и была рядом со своим «страдальцем». На день рождения супруги Иван Иванович подарил ей цветы, модную белую кофточку и …строчки из Пушкина. Вечером он прочел их супруге и, конечно, отразил это событие в дневнике: «И сердце вновь горит и любит оттого, Что не любить оно не может». И вот это: «И разве ты могла меня забыть, Забыть согбенного душою».
29 августа директор наконец-то вышел на долгожданную работу, это было начало 87 -го театрального сезона, последнего…Директор постоянно употреблял это слово – «последний». Не совсем понятно – это напоминание самому себе, что нужно все-таки уходить?! А может, это какое-то болезненное смакование своим состоянием? А может даже – самоуспокоение. «Сбор труппы в 12.00. Выступил я перед своим колхозом. Я многое сделал. Но что смогу, еще сделаю. Так я сказал, подбирая слова. Волновался…Остаются последние 125 дней».
Самым главным в этот оставшийся период для директора было то, что было решено поставить пьесу про Бекетова, вольного сибирского казака, основавшего острог Якутск. Мы уже писали о том, что зрители любили пьесы на местные темы и всегда принимали их с теплотой. Поэтому пьесу про Бекетова директор театра воспринимал как мощный заключительный аккорд своей длительной и достаточно успешной театральной деятельности. Наверное, всем или многим хочется покинуть подмостки театра под бодрые песни литавр, на вершине творческого триумфа. В дневнике это настроение отражалось не раз. «Поговорили с главным режиссером о будущей Премьере, моей последней. О Бекетове! Здорово! Очень здорово!!! Это Матерь Божия видит и помогает. И А.С. Пушкин – тоже».
Кроме подготовки к премьере о Бекетове под названием «Апостол Государев», местного драматурга В. Федорова, были в театре и другие дела. Директор, как всегда, был озабочен наведением чистоты и внутри театра, и снаружи, возле памятника А.С. Пушкина. «28.09.07 г. На улице, возле памятника Пушкина вроде все в порядке, надо попасть под снег. Сейчас накачал замшу об усилении противопожарной обстановки в театре. Проверил все приказы по нашим старикам. Порядок! Да и вообще везде порядок. Была Светка, так я ее зову, моя первая секретарша. Молодец, у нее семь детей, а с внуками получается двадцать. Она всегда в кого-то влюблена, и у нее всегда хорошее настроение». «Суббота, морозец и солнце. В театре никого. С такой дисциплиной Москва плакала, вместе с Бекетовым. А я мечтаю о Москве. В понедельник сделаю полный разнос всем».
Но 01.10.07 года в дневнике появилась такая эмоциональная запись: «Видимо, будет планерка в Министерстве культуры. Но это «видимо», а лучше бы ее не было. С завтрашнего дня мне должны докладывать, что и где сделано!!! Осталось 92 дня, последний квартал. Но это не значит, что я отпустил власть». И сбоку, на полях дневника читаю дополнение, сделанное нервно-неразборчивым почерком, скорее радостно-неразборчивым: «Хорошо, что планерка была! Добился поездки в Москву с Бекетовым! Ура! Ура! Ура! Поедем 03.12.2007 г. Это будут Дни культуры и искусства Якутии в Москве. Поедут Министр и актеры».
Директор каждый день совершал обход театра, очень любил чистоту. Проверял, чисты ли и пропылесосены ли дорожки в театре, как выглядит парадное крыльцо, как там аллея у Пушкина. А не намело ли классику на голову снежную папаху? 12 октября 2007 года он отметил: «Морошно, но снега нет, все подтаяло и вымерзло. Но возможен сегодня или ночью снег. До Покрова осталось полтора дня. Люблю Покров день! Люблю белый дождь! Надо бы поощрить дворника Хорошева! Скребет изо всех сил и безжалостно голову великому поэту. Дело знает!». «08.11.07 года. Снег выпал, настоящий, не снежок. Мой последний снег в театре, двадцать второй. Вот Хорошеву и Ромашке прибавится работы! Дел не убавляется ни на йоту: надо решить вопрос с зарплатами, с поездкой в Москву, с работой замов, с моим преемником…»
Как-то директор лежал в больнице, в его палате было четыре человека. Один из них был дворником, скромным малым, родом из деревни. Двое из лежащих в палате людей с дворником принципиально не общались, они были начальниками средней руки, но сами себя мнили крупными боссами. А наш уважаемый директор Русского театра, напротив, пил с дворником чай, тайно покуривал на лестничной площадке, болтал и смеялся. Когда деревенского мужчину выписали, директор театра помог ему собрать вещи и проводил вниз, до машины. На глазах у дворника засверкали слезы, он старался их скрыть и в итоге расплакался. «Но ведь вы же директор! – сказал он. – Я это понял. Но вы себя так просто, по-человечески вели, что я даже в людей поверил…». «Да, кто вам сказал, что я просто директор?! – ухмыльнулся Иван Иванович. И добавил: – Я – дворник-директор… Я всю жизнь сам мету, чищу, прибираю. Я ваш коллега. В больницах много полежал со своим сердцем. Мы все равны перед болезнью». Они обнялись. Оба были довольны коротким теплым знакомством.
«23.11.2007 года. На вопрос Министерства культуры, поеду ли я в Москву, я ответил отказом. Боюсь, прихватит сердце. Но ход подготовки к гастролям в столице я буду держать в своих руках! Никто не посмеет мне сказать, что я почти пенсионер. Все будет делаться под моим контролем, иначе поссорятся два режиссера – Борисов и Орлов, они уже и так на ножах». Андрей Саввич Борисов репетировал спектакль о Бекетове даже ночью, весь коллектив был как натянутая струна, все было подчинено одной идее – сделать отличную премьеру. Иногда директор подглядывал за работой Борисова, ему нравилось, как самозабвенно работает мэтр якутского и русского театров. Директор всегда видел спектакль в двух ипостасях, в двух измерениях: на репетициях и генеральных прогонах – в разорванности, мучительном несовершенстве, и на премьерах – с парадной стороны, в целостности и непревзойденности лицедейства.
Директор следил за процессом подготовки к московским гастролям: фиксировал, что уже увезли театральный реквизит в аэропорт, постаралась Тамара Иннокентьевна, описывал, как актеры готовятся к поездке. С утра 30 ноября 2007 года Министр культуры выступил в Театре оперы и балета и рассказал о плане гастролей и встреч в столице России. «Заканчивается предпоследний месяц работы и жизни в родном ГРДТ. И больно, и устал от всего, но больше всего от сложных людей. Их немного, но они есть», – такие мудрые, выстраданные слова поведал директор своему всепонимающему другу-дневнику.
«02.12.2007 г. С первой партией своих подчиненных (пятьдесят человек) съездил в порт, пробыл там три с половиной часа. Устал, но зато пятьдесят человек видели, что я их провожаю. Завтра утром сильно рано, но, видимо, все равно поеду провожать. Полетят двенадцать человек – в том числе В. Антонов, А. Кузнецов, А. Лобанов, который, видимо, переймет от меня директорство. Лучше бы он, чем «блатная Шуба» (В. Шубин – ремарка автора повести)». Дело с подготовкой к московским гастролям директор блестяще довел до конца.
Одна из последних позитивных записей дневника: «12.12. 2007 года. Очередное главное событие – Указ Президента РС(Я) от 8 декабря с.г., опубликованный в газете «Якутия» о награждении семидесяти человек Якутии правительственными наградами, в том числе и меня – медалью А.С. Пушкина. Этой же медалью наградили одного журналиста. Меня-то понятно, за что наградили, а вот его – не понятно. Хороший он журналист и не более того, написал кое-что, но этого мало. Надо Пушкина любить, и на всю жизнь, как это умею делать я». На этом записи директора обрываются… Он доработал до конца театрального сезона, то есть июня 2008 года.
Но не могу не сделать такое добавление к этому параграфу. Я нашла в последнем деловом дневнике директора несколько бумажек, они убористо исписаны. Уходящий со сцены уставший директор, который, впрочем, никогда не признавал, что он устал, писал о Театре Будущего, театре, который должны создать его преемники. Вот выжимки, квинтэссенция его мыслей.
Первое. Необходимо соответствовать высокому статусу академического театра в условиях экономического и духовного кризисов в России, которые имеют перманентный характер. Необходимо хранить традиции классической школы актерского мастерства. Поколения сменяют друг друга – и династийная связь может прерваться. Но русская культура в ее лучших ценностях и образцах должна быть сохранена. Следовательно, в репертуар должны быть включены классики, это стержневое направление репертуарной политики. Только это поможет самоидентификации с ценностями русской культуры. Но в репертуар вполне могут войти и модернистские пьесы современных авторов, наших современников. Только не надо «современного прочтения» Чехова, Гоголя, Достоевского – пусть оно будет старым, классическим. Зачем нам Раскольников, слушающий рок и ищущий сайт убийц и самоубийц в Интернете? Это извращение!
Второе. Надо воспитывать своего зрителя, готовить его к премьерам. Для этого стоит организовать театральные кружки, мастер-классы известных актеров, арт-лаборатории и др. Можно организовывать пресс-конференции после каждой премьеры и обсуждать увиденное. Надо наладить связи с Национальной библиотекой и совместно с ней делать читательские конференции. Можно обсуждать пьесу до премьеры и после. Чем больше мы будем говорить о спектаклях, тем больше будет разгораться пламя жгучего интереса к театральной жизни в Якутске.