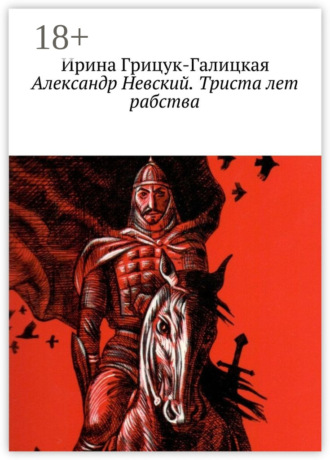
Александр Невский. Триста лет рабства
Плано Карпини напишет, что Туракинэ дала Ярославу есть и пить из собственных рук. Отказаться от такой чести Ярослав не смел, он принял чашу, в которую женщина опустила свой мизинец с длинным отполированным ногтем.
Возвратившись с приема, князь почувствовал себя плохо. На другой день важный чиновник принес приказ ханши, чтобы русское посольство немедленно покинуло пределы Каракорума. Спешно собравшись, Ярослав со свитой отправился в обратный путь. Недуг князя усиливался. Через семь дней пути он скончался. При этом тело Ярослава странным образом посинело, что дало повод летописцам утверждать, что русский князь был отравлен. Так печально закончилась последняя интрига Ярослава Всеволодовича.
А хан Гаюк, победив хана Мункэ на курултае, взошел на Великую кошму Монгольской империи. Он пылал ненавистью к Батыю и собирался свести с ним счеты. Огромная монгольская орда, выйдя из пределов Центральной Монголии, взяла направление на Запад. Начался второй поход монголо-татар на Русь.
Мать хана Мункэ, Соркуктуни-беги, отправила к Батыю «гонца-стрелу», со словами: «Бату, будь готов, Гаюк-хан с войском в тринадцать туменов28 идет в твои пределы».
Это известие вызвало тревогу Батыя – у него на вооружении в то время состояло только четыре тумена. Надо было принимать срочные меры.
17. Убийство в Орде
В разоренный Чернигов прибыли послы от Батыя и объявили князю Михаилу волю хана: «Михаиле, не годится жить на земле хана, не поклонившись мне!».
Настало время держать ответ перед завоевателем. Духовный отец, перед которым Михаил открыл душу, даже обрадовался, что князь идет на тяжкое, может быть, смертельное испытание: «Иди, Михаиле, иди, только не кланяйся идолам, и ничему сотворенному руками людскими, а только Богу Иисусу Христу!» Владыка сверлил взглядом князя, будто нутро выворачивал. Он видел, что колеблется душа Михаила и продолжал уговаривать. «А коли погибнешь, то за веру Христову! И в нынешнем веке будешь новосвятым мучеником на укрепление духа иным…», – священник высоко поднял перст свой.
Русская православная церковь тяготилась контролем Греческой патриархии. Русским церковникам хотелось свободы действий в собственной митрополии, собственных, независимых от поставления Константинополя митрополитов, и, конечно, своих русских святых мучеников. Требовалась кровавая жертва.
Смерть, хоть и за веру, не прельщала Черниговского князя.
– Как же без причастия на тот свет уйду! Буду отверженным у Господа нашего…, – торговался Михаил.
– А я тебе дам причастие с собой и благословение…
Михаил с боярином Федором, войдя в роль смертников, выехали в «низовскую землю», в Ростов. Там жила дочь Михаила, княгиня Мария Михайловна, вдова героя русского, князя Василько.
Михаил плакался перед дочерью, жаловался на незавидную судьбу свою. Он потерял всё. Земля Черниговская в его отсутствие разорена Батыем полностью. Киевом сейчас владеет Ярослав, который не допустит возвращения туда Михаила. Сын Ростислав, женившись на венгерской принцессе, отвернулся от отца. Михаил, пока прозябал в Европе, растерял старых друзей и союзников и остатки казны. Один боярин Федор до конца верен князю. Вот и вся поддержка. Самое страшное, что ныне Батый призывает в свой стан. Придется отвечать за всё: и за погубленных послов, и за поиски союзников, и за попытки создать коалицию с папой против Батыя. Все эти тайные интриги хорошо известны Батыю. У него везде глаза и уши.
Мария Михайловна, утешая отца, рассказала, что сыновья её, Борис и Глеб Васильковичи не раз ходили уже в Орду и возвращались оттуда живыми и невредимыми.
– Они же внуки твои родные. Не печалься, батюшка. Глеб сейчас с князем Ярославом в Монголию пошел, а Борис тебя проводит до Сарая. Василия Ярославского кликнем. Он не откажет. Вот тебе и подмога, и охрана, и проводники.
Из Ростова выехали в конце лета 1245 года. В ставку Батыя прибыли уже к середине сентября.
Батыю доложили о прибытии черниговского князя. Батый приказал шаманам провести Михаила через священный ритуал и только после того поставить пред очи свои.
Князь Михаил прошел через очистительный огонь. И кустам, несмотря на предупреждение черниговского епископа, поклонился. Тогда боярин Федор напомнил князю о наставлении отца духовного. «Михаиле, помнишь ли поучение духовного отца своего не кланяться идолам?» – сердитым шепотом прошипел боярин.
Шаманы жестами приказали Михаилу идти с боярином дальше и подвели их к шесту, на котором висела маска Чингисхана. Михаил устрашился грозного вида и заупрямился: «Негоже нам, христианам, идолам поганым кланяться. Ваш царь Батый кичится тем, что признает все веры на земле. Тогда пусть не заставляет меня быть идолопоклонником».
Послали в шатер Батыя слугу именем Елдега. Тот вернулся быстро:
– Царь Батый велел сказать тебе: почему он, царь, покоривший одиннадцать земель и народов, уважает твою веру, а ты, пес, который потерял землю свою, и народ свой отдал на волю победителям, не уважаешь веру Великого хана?
Михаил был оскорблен дерзкими словами Батыева слуги. Свидетелями унижения был его внук Борис и сыновец29 Василий Ярославский и множество бояр, дружинников и слуг. Княжеская гордость взыграла:
– Передайте Батыю: тебе, царь, кланяюсь, потому что Бог поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, – не поклонюсь!
Елдега, будто ждал вздорных слов, засмеялся:
– Михаил, знай – ты мертв!
Внук Михаила, Борис, испугавшись поворота событий, упал на колени перед дедом.
– Господин мой, отец родной, поклонись татарскому Богу. Убьют тебя слуги Батыевы! – умолял Борис деда, заливаясь слезами.
– Я того и хочу, за веру пострадать, за Христа кровь пролить…
Бояре ростовские и ярославские начали уговаривать Михаила не упрямиться. Обещали грех поклонения идола на себя взять. Но Михаила обуял гнев. Он сбросил с себя плащ, затопал ногами и закричал:
– Возьмите славу этого света! Вы только именем христианским называетесь, а поступаете, как поганые язычники!
Боярин Федор, чтобы прекратить уговоры, начал отпевать себя и князя своего. Михаил подхватил пение. Два престарелых человека, протягивали руки к небу, прося у Христа прощения и моля его о милости.
Борис и Василий, глядя на них, плакали. В толпе послышалось:
– Убийцы идут от царя! Кланяйтесь! Кланяйтесь!
– Мученики твои, Господи, не отреклись от тебя, и тебя ради, Христос, страдают! – повысил голос боярин Федор. Михаил вторил ему.
Убийцы подъехали верхом. Они спешились и стремительно набросились на Михаила. Двое растянули ему руки, а третий ударил под дых. Михаил содрогнулся, ловя ртом воздух. Ещё несколько ударов в грудь нанесли ему убийцы. Михаил стал оседать на землю. Его отпустили, и когда он свергнулся, ещё долго били ногами. Один из слуг Батыевых, бывший православный именем Домиан, поднял голову Михаила за волосы и, орудуя большим кинжалом, перерезал ему горло. Деловито отделил голову князя от тела и откинул прочь.
Елдега подступился к боярину Федору:
– Видел смерть господина своего?! Хочешь ли получить в управление княжество Михаила?
Боярина Федора била дрожь:
– Княжения н-н-не хочу! Богам вашим н-н-не поклонюсь! Страдать б-б-буду, как князь мой….
Елдега кивнул Домиану:
– Давай!
Боярина Федора растянули за руки, долго били в грудь, потом запрокинули голову и резанули по горлу кривым кинжалом.
Обезглавленные тела князя Михаила и боярина Федора вынесли за пределы Сарай-Бату и бросили на съедение псам, так же, как когда-то в Чернигове обошлись с ханскими послами.
Заказ Ярослава Батый выполнил.
18. Приказ Батыя
Дикие литовские племена вдруг осознали свою силу в единстве. Многие из них объединились вокруг князя Миндовга и устремились на новгородские, полоцкие, смоленские земли. Дружина Александра постоянно находилась в разъездах, то там, то тут воюя с разбойничьими шайками литвинов.
Полоцк, родина жены Александра, был захвачен Миндовгом и утрачен для полоцкого князя навсегда. Параскева с сыном Василием отправилась к родным в Витебск, навестить и утешить престарелых отца и мать. На обратном пути обоз, с которым шла Параскева, был окружен бандой литвинов. Жена Александра и сын Василий попали в плен. Гонец, прискакавший в Новгород с места событий, сообщил Александру о беде.
Как ветер наскочил Александр на литовских бандитов. Он отбил жену и сына, и так возвратились домой, по пути ещё семь раз вступая в бой с расплодившимися шайками литвинов. В дерзости Александру не откажешь, но защитить от Миндовга земли Северо-Западной Руси ему все-таки не удалось. Многие земли русских княжеств, вслед за Полоцком, надолго отошли к молодому Литовскому государству.
Когда из Монголии прибыло тело Великого князя Ярослава, Александр поспешил во Владимир оплакать кончину отца. Ярослав был для старшего сына не только отцом, но и соратником. Отец и сын хорошо понимали друг друга. Задуманный ими вместе политический проект по изменению системы власти и организации её по монгольскому образцу Александру предстояло осуществлять одному,
Во Владимир на прощание с князем Ярославом съехались многие князья русских земель. Съезд этот должен был законно решить вопрос о наследовании власти. Прибыли на собор князья Ростовские Борис и Глеб – братья Васильковичи. С ними пришли Василий Ярославский и Владимир Угличский, а также сыновья умершего Ярослава, Александр Невский, Ярослав Тверской, Василий Костромской.
После смерти Ярослава старшим среди его сыновей оставался Александр. Он и претендовал на Великое княжение, и уже веселился и потирал руки, видя себя повелителем всей Руси.
Но на съезде выступил его племянник и друг, Василий Ярославский, и со свойственным ему прямодушием напомнил, что еще жив их дядя, князь Владимир Константинович Углицкий, сын Константина Мудрого, чудом спасшийся от Батыя и уцелевший на Ситской битве. Именно он по древнему праву должен был принять старейшинство и стать Великим князем Русской земли.
Предложение князя Василия раздосадовало Александра: власть уходила из его рук. Голоса родичей, собравшихся на съезде, подтвердили старейшинство князя Угличского. Братина прошла по кругу, и прозвучала здравица в честь Великого князя Русской земли, Владимира Константиновича. Вдруг через считанные дни случилось непредвиденное. 14 января 1249 года Владимир Углицкий почувствовал себя плохо и неожиданно скончался.
Летописец напишет: «Плакася над ним Александр князь и с братиею и проводил его честно из Золотых ворот и везоше его в Угличе Поле». Так закончил свою жизнь во Владимире ветеран Ситской сечи, честный князь Владимир Константинович, пришедший по древнему лествичному закону получить Великое княжение, а принявший вместо того смерть свою. Умершему князю не было и тридцати лет.
Александр оплакал его, но далеко провожать не стал, только до Золотых ворот – дела, дела…
Вопрос с Великим княжением оставался открытым.
Неожиданно и некстати во Владимир явились кардиналы Гальд и Гемонт, которых папа Иннокентий Четвертый направил к Александру. Папа в письме уверял Александра, что его отец, Ярослав Всеволодович, находясь в Татарии у великого хана, «страстно вожделев обратиться в нового человека, смиренно и благочестиво отдал себя послушанию Римской церкви, через брата Иоанна де Плано Карпини, в присутствии военного советника Емера…»
Далее папа пишет: «Желаем, чтобы ты, как законный наследник отца своего, смог последовать по стопам своего отца и предаться исполнению заветов и поучений Римской церкви». Возможно эти строчки и не вызвали бы гнева Александра. Он знал своего отца как человека гибкой политики и хорошего интригана и предполагал, что под давлением каких-либо обстоятельств Ярослав мог отречься от православной веры и принять более удобную на тот момент, католическую, но далее папа пишет:
«Просим тебя об особой услуге: как только проведаешь, что татарское войско на христиан поднялось, чтоб не преминул ты немедля известить об этом братьев Тевтонского Ордена, в Ливонии пребывающих, дабы мы смогли с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать».
А вот это не входило в планы Александра. Он не собирался противодействовать Батыю, он жаждал союза с ним, чтобы воспользоваться его военной машиной, которая наводила ужас на весь мир.
Александр выразил громкое возмущение письмом папы. Кардиналам он ответил, что всё, что написано в письме о его отце, – ложь. Тогда ему предложили призвать в свидетели Федора Яруновича, боярина, прошедшего с Ярославом весь путь до Монголии и сопровождавшего труп господина на родину.
Старый боярин подтвердил Александру правоту изложенных в письме папы событий. Александр обвинил старика во лжи и до смерти запытал ненужного свидетеля отцовой измены.
Всё это происходило на глазах у Ярославского князя Василия, считавшего Александра своим другом. Воспитанный на принципах чести и совести, внук Константина Мудрого, князь Василий был потрясен всем увиденным. Возможно, он догадался о причинах смерти дяди Владимира Углицкого. Не исключено, что, будучи человеком открытым, он высказал Александру преступную неправоту его.
Летописец напишет: «Тое же зимы, Василий, князь Всеволодович преставился во Владимире на память Святого Феодора (25 января) и повезоша его на Ярославль, и Александр князь проводи его, и Борис и Глеб и мати их». Было князю Василию тогда немногим более двадцати лет.
Во Владимире, на одном и том же русском съезде произошли две загадочные смерти князей линии старшего Всеволодовича, Константина Мудрого. Молодые, полные сил мужи один за другим уходят на тот свет. Летописцы не поясняют причин смерти и говорят об этом скороговоркой, явно боясь обнаружить истинные мотивы и заказчика убийства. Поистине, чего не случится, когда решается дело о власти.
Вскоре до Александра дошел приказ Батыя: «Мне покорил Бог многие народы: ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но если хочешь сохранить за собою землю свою, приди ко мне: увидишь честь и славу царства моего».
Место старейшего князя ещё оставалось незанятым. От воли Батыя теперь зависело дать его тому или иному князю.
Александр с братом Андреем выехали в Волжскую Орду. По следам кочевья они нашли в степи многолюдный шатровый город, центром которого была разрисованная войлочная юрта хана Батыя.
Александр явился к Батыю не с голыми руками. Он нес хану письмо папы Римского, в котором тот просил Александра шпионить за передвижениями войск Батыя. Выдавая замыслы папы Римского, Александр выказывал свои верноподданнические чувства самому Батыю. Он выражал покорность татарской власти и побратался с сыном Батыя, Сартаком.
– Анды30, как одна душа, – произнес Сартак, снял с себя несторианский31 крест и отдал его Александру.
– Я твой верный брат, – Александр сдернул с груди православный крест и протянул Сартаку.
Сын Ярослава поклялся Батыю в верности и с радостью принял на себя звание улусника. Так волею Александра Русь на века становится улусом Золотой Орды. Костомаров пишет: «Руси предстояла другая историческая дорога, для русских … людей – другие идеалы. Оставалось отдаться на великодушие победителей, кланяться им, признать себя их рабами и тем самым, как для себя, так и для своих потомков усвоить рабские свойства».
Приказ Туракинэ прислать в Каракорум Александра Батый должен был выполнить. Это было в его интересах, борьба за власть в далекой Монголии продолжалась. И хотя на Великую кошму взошел Гаюк, Батый не оставил мысли возвести на неё своего друга и двоюродного брата Мункэ.
Он направил Александра в Монголию с поручением: связаться с Мункэ, передать ему серебро для дальнейшей борьбы и секретные наставления. Вместе с братом в Монголию пошел князь Андрей, который не раз поддерживал Александра в его делах.
В пути между братьями возникли разногласия. Пылкий и благородный Андрей почувствовал цинизм, с каким Александр рассуждал о предназначении власти, отводя русскому народу роль рабов. Впервые младший брат не согласился со старшим и остался при своем мнении.
19. Царица Огуль – Гаймыш
Хан Гаюк двинул свою орду на Запад, мечтая наказать Батыя за своё унижение. Вслед за ханом двинулся его двор и многочисленные жены. Главная жена Гаюка Огуль-Гаймыш была женщиной вздорной и недалекой. Она умирала от зависти, видя, как Туракинэ, мать её мужа, правит рядом с Гаюком и принимает дорогие подношения от многочисленных послов и купцов, постоянно прибывающих в Каракорум.
В кибитке, запряженной тридцатью лошадьми, обитой изнутри китайским шелком, Огуль-Гаймыш предавалась мечтам о собственной власти и несметных богатствах. Трястись по пескам пустыни и умирать от жажды и жары она не хотела. Когда её пальчики, утяжеленные перстнями, всыпали ядовитый порошок в чашу мужа, она и не предполагала, что снадобье получено от сторонников хана Мункэ.
Орда Гаюка не успела пройти и сотой части пути, как её повелитель занемог. Когда стало ясно, что Гаюк «собрался в страну предков», орда спешно развернулась назад, в Монголию.
Империю, созданную Великим Чингисханом в начале тринадцатого века, к середине того же века распирали уже внутренние раздоры, потому-то второй поход монголов на Русь не состоялся.
К концу пути Александр и Андрей узнали, что хана Гаюка нет в живых, а Монголия снова готовится к курултаю. Они поспешили в Каракорум.
Великолепие Монгольской столицы потрясло корыстного Александра. Шатры, шитые золотом, шелковые ткани, красивые женщины, богатые базары не шли ни в какое сравнение с суровой русской действительностью.
Ставку Огуль-Гаймыш братья Ярославичи нашли на берегу ручья, омывающего прекрасную долину. Великолепный шатер, поддерживаемый множеством, окованных золотом столпов, изнутри и снаружи был украшен шелковыми тканями. Огуль-Гаймыш восседала на троне, который был похож на мягкое ложе. Над её головой слуга держал зонтик, осыпанный драгоценными камнями.
Лицо женщины, облаченной в желтые шелковые одежды, было искусно накрашено, отчего скулы казались выше, а азиатские раскосые глаза, обведенные черной краской, казались широко открытыми. Высокая ботта32, глубоко сидевшая на лбу красавицы, была увенчана пучком страусовых перьев и звенела золотыми подвесками.
Александр восхищенно, во все глаза смотрел на приоткрытый, накрашенный кармином рот Огуль-Гаймыш, и та поняла, что произвела на русского багатура ошеломляющее впечатление. Ханша перевела взгляд на князя Андрея. Высокий красавец с русыми кудрями до плеч и здоровым румянцем на щеках, смотрел на Огуль с едва заметной насмешкой. Это задело её самолюбие.
Драгоценные соболя на царскую шубу и изделия русских золотарей больше не занимали её воображения. Огуль во все глаза рассматривала русских богатырей.
Братья Ярославичи выделялись из толпы монголов, окружавших трон царицы, словно львы в стае обезьян. Особенно младший, князь Андрей.
Вдова хана Гаюка, Огуль-Гаймыш, возжелала любви русского красавца – князя.
Каракорум братья Ярославичи покидали, став в одночасье врагами.
Младший брат Андрей Ярославич получил от Огуль-Гаймыш право на княжение во Владимире, что автоматически делало его Великим князем Руси. Александру ханша отдала разоренный Киев, который перестал существовать не только как столица, но и как рядовой город. Мечты Александра о Великом княжении и о беспредельном господстве на Руси в очередной раз рухнули.
20. Летописец – монахиня Мария
Сколько может страдать женская душа!? И что могут родить страдания!? Об этом ли мыслила княгиня ростовская Мария Михайловна, когда перебирала в памяти жизнь свою, расколотую на две части войной с татарами. В той довоенной жизни, Ростовский князь Василько, старший сын Константина Мудрого, собирая дань по поручению отца, кружил по городам и весям, приглядывая себе невесту. Когда въехал на двор черниговского князя и увидел в толпе девушек Марию, понял, что именно её искал так долго.
Перед нашествием Батыя в семье князя Василько и Марии было уже двое сыновей. Старшему Борису пошел двенадцатый год, младшему Глебу было около пяти. Призыв Великого князя Юрия выступить на бой с врагом Василько встретил так, как подобало воину и защитнику отечества. Не дождавшись помощи ни от Всеволодовичей, ни от Ярославичей, он вместе с родными братьями Константиновичами принял бой на Сити. В бою был пленен воеводой татарским Бурундаем, который восхитился силой и мужеством и красоте ростовского князя. Бурундай предложил плененному Василько забыть обиды и послужить хану Батыю. Русский князь с гордостью отверг предложение Бурундая и был убит в лагере врагов.
Оставшись вдовой, Мария Михайловна ушла в монастырь с желанием писать летопись событий, чтобы оставить память о злых годинах потомкам. Она написала житие своего мужа, в котором прославила его мужество и красоту и доброту:
«Был же Василько лицом красив, очми светел, и грозен, храбр паче меры на охоте, сердцем легок, до бояр ласков. Никто же от бояр, кто ему служил, и хлеб его ел, и чашу пил, и дары имал, тот никакому иному князю уже не мог служить за любовь его. Крепко же слуги своя любя, мужество же и ум в нем жили, правда же и истина с ним ходили. Был он сведущ во всем и искусен, и княжил он мудро на отчем и дедовом столе; а скончался так, как вы слышали».
Благодаря писанию Марии Ростовской мы можем удостовериться, что во времена Батыевой рати были на русской земле истинные герои, но, как и положено истинным героям, они отдали жизни свои за освобождение отечества от врага.
Только любящая женщина могла написать такое:
Уж нам к своим милым ладамРуками не прикоснуться,Очами не дотянутьсяИ думами их не достать.Застонал, братья, Киев от горя,От напасти Чернигов.Печаль обильная потекла по Русской земле…
Прошло время, и другое потрясение пережила Мария. В Орде был убит её отец, Черниговский князь Михаил. Монашеский чин обязывал Марию быть кроткой, терпеливой, безропотной. И она молчала, но изливала свои слезы на пергамент. Так родилось «Слово о полку Игореве», где в иносказательной форме, выражался страстный призыв к соотечественникам, мстить врагам за погубленные жизни, за слезы вдов, за искалеченные судьбы русских людей, мстить, мстить, мстить….
Вступите же, господа, в золотые стременаЗа обиду сего времениЗа землю Русскую…«Низовская земля» со столицей во Владимире при князе Андрее Ярославиче стала центром, куда съезжались те, кто мечтал о свободе своей родины. Мысли о сопротивлении распространялись по городам и весям и находили отклик в умах людей, заселяющих «низовскую» землю. Нужен был всеобщий призыв.
Тогда и появилось «Слово о полку Игореве», автором которого стала женщина, вдова князя Василько Константиновича, Мария Михайловна.
Мы же, русичи, бывалые воины!Под трубами повиты,Под шеломами взлелеяны!С конца копья вскормлены!Луки у нас натянуты!Колчаны отворены,Сабли навострены.Братья и дружина!Лучше нам порубленными быть,Чем без чести жить!«Слово» потрясло русское общество. Его читали, переписывали, распространяли. Ему верили и готовились к сопротивлению.
21. Принцесса Христина
Перед самой поездкой Александра в Монголию Параскева Брячеславна родила мужу третьего сына, которого назвали в честь брата Андреем. После похода в Монголию это имя было ненавистным Александру.
Александр не поехал в данный ему ханшей Киев. Он вернулся в Новгород, и стал там княжить, стараясь подлаживаться под новгородскую вольницу. Вскоре туда же приехал митрополит Кирилл, который покинул Киевскую резиденцию, будучи несогласным с политикой Даниила Галицкого.
Митрополит Кирилл – личность неординарная, широко мыслящая. Он задавался вопросом, почему Русь постигло такое бедствие, как нашествие варваров, чем объяснить это? Он искал ответ в библии и нашел его. В истории еврейского народа было нашествие на Иудею жестокого царя Навуходоносора. Тогда еврейский Бог ясно дал понять, что он наказывает людей еврейского племени за грехи, умножаемые ими без числа. А чем лучше иудеев русичи, презревшие законы добра, родства и веры? В проповедях, а потом и в летописях стали появляться объяснения татарскому игу – за грехи людские Бог наказывает. А посему следует не сопротивляться, но терпеть! Идея терпения будет звучать с амвонов православных церквей, смущая людей и бичуя их разум.
Вот так двое сильных мужей, разных по понятиям нравственности, найдут общий язык в вопросах порабощения народа русского. Один – митрополит Кирилл, идеалист, глава русской церкви, и другой – князь Александр, корыстолюбец и властолюбец, сошлись на идее непротивления врагу.
Мысль, что младший брат нарушил наследственное право и владеет старейшинством, вызывала горькую обиду. Александр искал случая отомстить князю Андрею и восстановить справедливость. Лелея в себе злые чувства, Александр навлек на себя болезнь сердца. Татищев пишет: «и была болезнь его тяжка весьма, но Господь Бог умолен был о нем».

