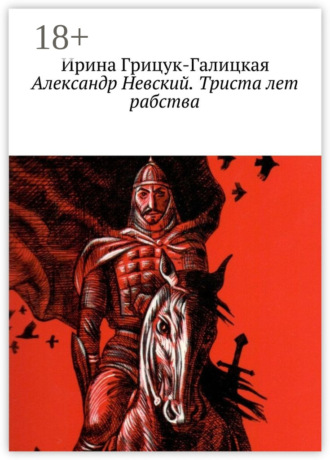
Александр Невский. Триста лет рабства
– Почто здесь эта чудинка? – загремел голос Александра.
– То Ильмара… – услышал он откуда-то со стороны.
– Пришла на невесту твою посмотреть, Александре, – прищурилась одним глазом Ильмара. – Чую я, что не будет ей доли с тобой. Народит она тебе разорителей отечества, да сыны твои будут твоим позором…
– Пошла вон, вон…, – схватился за нож жених.
Старуха засмеялась мелким дребезжащим смехом, шатнулась в сторону и исчезла в веселой толпе пирующих.
Не на пустом месте возникли предсказания чудинки. Александр был молодым человеком, не имевшим ни хорошего воспитания, ни врожденной мудрости, ни благородной жалости к побежденным. Неимоверная жестокость его выливалась во внезапные набеги на финские веси и кровавые расправы над пленными. Летописцы рассказывают, как слуги Александра, с его одобрения, привязывали пленных чудинов к хвостам коней и так предавали их смерти. А число повешенных и казненных мечом не смог бы сосчитать ни один летописец.
Поэтому проклятья сыпались на голову неуемного воеводы, и самыми страшными из них были проклятия чудского племени.
6. «Наследник меркитского плена»
После смерти Чингисхана во главе Монгольской империи встал его сын Угедей. Хитрый и умный, он всегда был рядом с отцом и ещё при жизни Чингисхана сделался необходимым ему советником. Другой сын Чингисхана – Чагатай – стал верховным судьей. Братья Чагатай и Угедей сосредоточили всю власть Монгольской империи в своих руках. Хотя они и не были первенцами Великого Чингисхана, но зато никто не сомневался в их законном происхождении. Не то, что в происхождении их старшего брата и первого сына Чингисхана – Джучи.
– Наследник меркитского плена! – бросал злое оскорбление в лицо Джучи младший по возрасту брат Угедей.
Джучи молчал. Он был воином и всё дальше уходил на запад со своим непобедимым войском. Всё сложнее становились связи его с Каракорумом. И всё больше требовалось Угедею соглядатаев для присмотра за старшим братом.
Джучи с раннего детства был знаком с «тобчи»8, в котором рассказывалось, как попала в плен к меркитам9 его мать, красавица Бортэ. История эта уходила в глубь поколений и подтверждала, что всё на свете происходит из-за женщины.
Дед Джучи, Есугей-багатур, когда-то доблестью добыл себе жену Оэлун, отобрав её у молодого мужа-меркита. Народ племени меркитов был злопамятен. Прошло много лет, и уже ушел «в страну предков» отважный багатур Есугей, но меркиты не оставили мысли о мести. Однажды на рассвете земля, по которой кочевал со своей семьей сын Есугея, Темуджин, содрогнулась от множества конских копыт. Меркиты! Они ждали случая двадцать лет и прошли более трехсот верст, чтобы захватить Борджигинов врасплох. Темуджин ещё не был Чингисханом, и поэтому его Бортэ попала в плен.
Через несколько месяцев, собрав небольшие силы и вооружившись отвагой, Темуждин разгромил меркитов и вернул свою Бортэ. Но Бортэ была беременна. И хотя она утверждала, что беременной попала в плен к меркитам, и Темуджин от большой любви к ней признал это, мысль, что первенец Темуджина не является его сыном, всегда витала в воздухе, если это было кому-нибудь выгодно. Особенно часто этим пользовался Угедей, который был вторым сыном Великого завоевателя и его первым помощником.
Когда Джучи «ушел в страну предков», его место занял Батый. Вслед за Джучи в «страну предков» ушел и сам Чингисхан. Умирая, он наказал своим наследникам продолжать войну за овладение всем подлунным миром.
– Идите до самого края земли… Завоюйте все страны и покорите все народы… – едва шевеля губами, отдавал последний приказ Чингисхан.
Великую кошму Монгольской империи занял Угедей. А Батый продолжил поход монгольского войска на Запад, преследуя ненавистных меркитов, которые бежали на землю Багдадского халифата, а оттуда через ущелья Кавказских гор вышли в прикаспийские и причерноморские степи. Так орда Батыя, преследуя ненавистного врага, оказалась на границе с Русью.
Сын «наследника меркитского плена», Батый, слишком отдалился от недреманного ока Великого хана.
Отослать сына Чагатая, Бури, и своего сына, Гаюка, в стан Батыя было очередной хитростью Угедея. Двоюродные братья Гаюк и Бури прибыли в ставку Батыя. Теперь каждый день в столицу Монгольской империи, Каракорум, через пески пустынь мчались гонцы от Гаюка и Бури, и верховный хан Угедей знал положение дел в Джучиевом улусе едва ли не лучше самого Батыя. В те времена связь с Каракорумом была налажена лучше, чем, извините за непатриотичность, работа сегодняшней почты. По дороге стояли хорошо оборудованные станции – ямы, отсюда пошло слово «ямщик». На станциях можно было поменять лошадей и запастись в путь продовольствием. Но у монголов для особых поручений был ещё курьер, звавшийся «гонец-стрела». Такой «гонец-стрела» не имел права на остановки в пути, он менял лошадей на ходу и дремать мог только в седле, потому что доносам с окраин империи монгольские ханы придавали особое значение.
У Батыя были свои соглядатаи, и двоюродные братья Гаюк и Бури были для него как заноза в зубах, как ресница в глазу.
В шатре Гаюка было тепло, сытно пахло вареной кониной. Золотая молодежь, сыны монгольской аристократии, собрались, чтобы провести время в досужих разговорах. Бури развязно смеялся и, отпивая из полукруглой чаши «тарасун»10, говорил:
– Э! Когда-нибудь, эта старая баба, Батый, получит от меня по башке!
– А я буду бить его поленом по животу, – Гаюк сделал вид, что сплюнул на кошму, себе под ноги.
– Наш брат Батый смел, как бык, с ним один на один никто не может справиться, – попытался остановить братьев осторожный Мункэ.
– Бык, испугавшись льва, десять лет поносом страдает, – хмыкнул Гаюк.
Стены шатра не были очень тонкими, но пропускали достаточно звука. Батый узнал о веселой беседе монгольских балбесов, но пока не посмел тронуть своих двоюродных братьев – за их спинами стояли могущественные отцы и Яса Чингисхана11.
Нельзя было допустить «замятню»12 в своем улусе13.
7. Невская битва
Описания Невской битвы 1240 года не совпадают в разных источниках. И много загадочного и не совсем понятного несут в себе эти описания.
Точных границ в те времена не существовало, и между Тевтонским Орденом и Новгородом то и дело возникали земельные споры. Отношения Новгорода с соседями можно назвать вялотекущей приграничной войной.
Однажды в Новгород пожаловал Андрей Вильвен, тогдашний помощник магистра Тевтонского Ордена Германа Зальца.
Андрея Вильвена историк Н. М. Карамзин называет «мужем опытным и добрым сподвижником Германа Зальцы», а автор жития Александрова величает его «именитым мужем Западной страны, из тех, что называют себя слугами Божьими».
Житие Александра открывает нам причину, по которой якобы Андрей Вильвен пожаловал в Новгород. «Пришел, желая видеть зрелость силы его (Александра), …, желая послушать мудрых речей его…»
Но не из любопытства глянуть на Александра прибыл Вильвен в соседнюю страну.
Вильвен приехал с важной миссией, которая заключалась в подготовке визита в Новгород особо важного гостя, зятя шведского короля Эриха, ярла Биргера, который управлял Швецией вместо своего тестя. Цель этого визита – урегулирование границ и торговых отношений Швеции с Новгородом.
С приходом на княжение неудержимого Александра Ярославича походы западных купцов в Новгород стали сопровождаться большими опасностями, но отказаться от великого пути на Восток через новгородские земли и воды Ганза не могла. Новгород оставался перевалочным пунктом Ганзейского союза, где хранились на складах товары из Европы и забирались со складов товары, поступавшие с юга, из стран Востока. Нужен был новый, более жесткий, договор с Новгородом, ограничивающий произвол их князя и обеспечивающий безопасность западных купцов.
Чтобы на пути Биргера не случилось каких-либо неожиданностей, Вильвен и прибыл в Новгород заручиться миром и безопасностью.
Посадник, не желая отвечать за действия князя Александра, который слыл большим забиякой и самовольником, направил Вильвена к нему, договариваться самолично.
Андрей Вильвен уехал из Новгорода с хорошим настроением, рассыпая комплименты в адрес новгородского князя и считая миссию свою выполненной. Летописец вкладывает в уста доверчивого Андрея Вильвена такие слова: «Я прошел многие страны. Знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением». Вероломный Александр обладал таким простодушным обаянием, что опытный муж поверил его обещаниям.
Доверяя Новгородскому князю, Вильвен согласовал с Александром, место и время прибытия шведских судов, а также состав свиты и сопровождавших Биргера представителей Ганзы с особо ценными товарами.
После ухода Вильвена Александр пошел к чудинам, возбудил их алчность рассказом о прибытии богатого каравана и договорился о нападении на гостей. Чудской воевода Пелгуй взялся встать дозором на берегу Финского залива, чтобы предупредить Александра о приближении иностранцев.
В начале июля на волнах Финского залива появились шнеки с большим числом шведов, норвегов, финнов.
Пелгуй, ходивший дозором по берегу, увидел караван. Он отрядил к Александру гонца с известием о силе и движении прибывающих гостей.
Александр, получив долгожданное известие, направился к посаднику Новгорода и попросил у того разрешения выступить против шведского правителя. Но посадник собрал вече и на собрании вящих14 людей Новгорода выступил против того, чтобы давать Александру разрешение на поход, и тем более отряжать ему вооруженную новгородскую армию Александр сделал попытку заинтересовать новгородцев и нарисовал им заманчивую картину: «С Биргером идут ганзейские купцы с дорогими товарами, можно хорошо поживиться». На вече спор решился не в пользу Александра. У Новгорода с Ганзой заключены договора о торговле, мире и обеспечении охраны купцов. Поэтому вящие люди категорически отказали Александру.
За Александра выступили шестеро новгородских ушкуйников, предводителей разбойничьих ватаг.
Александр понял, что его вероломный план срывается. Но новгородские мужички-вечники – ещё не вся сила. Александр направился в храм Святой Софии. Летописец рассказывает, что князь со слезами молился у иконы Пресвятой Богородицы, прося себе помощи. И помощь пришла от новгородского архиепископа Спиридона.
Александр настроил архиепископа против пришествия шведов, потому что среди людей Биргера находились католические священники.
Новгород не был монотеистическим городом. Кроме православного храма Святой Софии, в почете был храм Святого Олава15. Когда случались пожары или голод, то улицы Новгорода обходили с изображением этого скандинавского пророка, веря в его заступничество. Сильны были и язычники, сторонники Велеса. Выбор вер для четырнадцатитысячного населения торгового города был широким. Конечно, архиепископ Спиридон, боясь за своё влияние, не желал, чтобы ещё и католики усилили свою пропаганду. Он благословил Александра на вылазку против шведов. Александр на пороге церкви вытер слезы и повеселел. Заручиться поддержкой архиепископа дорогого стоит.
А шведы, прибыв к берегам Невы, рассчитывая на порядочность новгородцев и их князя, расположились в том месте, где Ижора впадает в Неву, и, разделившись на два лагеря, встали на обоих берегах Ижоры. Ничего не подозревая, они послали гонца к Александру с известием от Биргера: «Я стою уже в земле твоей». Летописцы добавляют еще: «Ратоборствуй со мною». Но были ли сказаны эти слова послом Биргера или в дальнейшем приписаны автором жития, чтобы обелить намерения Новгородского князя, неизвестно.
То, что Биргер оповещает Александра о своем прибытии, опять говорит в пользу того, что шведы исполняют договоренности Александра с Вильвеном.
Летописец поведал далее, что Биргер раскинул свой златоверхий шатер. По меньшей мере, странно, собираясь на войну, брать с собой шатер с золотым куполом. Шатер с сияющим золотом куполом сразу обнаружит для неприятеля нахождение шведов. На войну с золотыми куполами не ходят. Биргер явно прибыл с визитом, желал поразить новгородцев великолепием своего быта. То, что шведы шли с миром, подтверждает и тот факт, что Биргер взял с собой в поход сына сестры, Эриха, малолетнего принца. На войну детей не берут.
Александр Невский подошел к месту высадки шведов ночью. Его встретил чудин Пелгуй, тот самый, с кем Александр договорился заранее.
Александр осмотрел лагерь Биргера из укрытия и увидел, что охрана велика и что, напав, справиться с рыцарями ему будет нелегко. Чудской воевода Пелгуй понял замешательство князя и, чтобы подтолкнуть Александра к действиям, придумал байку: будто бы этой ночью на море увидел в тумане белом насад16 и гребцов, «одеянных мглою». А в насаде стояли два витязя лучезарных. Пелгуй говорит, что узнал этих витязей – то были святые Борис и Глеб. Борис обнял своего брата за плечи и сказал: «Поможем родственнику своему Александру», и насад стал удаляться в море и совсем исчез из вида.
– Воинство Небесное придет тебе на помощь, когда будешь изнемогать, – заверил Пелгуй Александра.
Чудской воевода, используя суеверность Александра, хитростью хотел заставить его вступить в бой с Биргером. Столкнуть лбами новгородцев со шведами было в интересах чуди.
В одиннадцать утра дружина Александра с ватагами новгородцев напала на шведов. То, что миссия Биргера была мирной, говорит и то, что нападения никто не ожидал. Лагерь не охранялся. Люди не были вооружены.
В лагере шведов возникла паника.
Летописец описывает отвагу ушкуйников. Гаврила Олексич гнался на коне за маленьким принцем. Тот успел заскочить в ладью, а новгородец пустился за ним по мосткам. Шведы, защищая ребенка, столкнули Гаврилу с мостков вместе с конем в воду. Тот успешно выбрался из воды и вновь вступил в бой. Новгородец Сбыслав Якунович бился топором в гуще врагов, а отрок Савва подсек столп шатра, и тот упал. «После чего россияне возгласили победу, – пишет Карамзин, – и покинули поле сражения».
Судя по тому, что шведы после боя остались на ночь в этом злополучном месте и стали хоронить своих убитых, они не были обращены в бегство. Занимаясь похоронными делами, они уже не боялись нападения. Погрузив тела своих знатных людей в одни шнеки и раненых в другие, шведы отбыли восвояси, гадая, что же это было.
Это была вылазка, вероломное нападение Александра на шведское посольство, идущее с визитом в Новгород, разбойничье нападение на купцов Ганзы с целью грабежа.
Сам ярл Биргер убедился в том, что путь западных купцов на Новгород смертельно опасен. Этот набег Александра должен был осложнить дальнейшие торговые отношения Новгорода с Ганзой. После этой Невской битвы торговая столица Северо-Востока, Новгород, надолго потерял свою привлекательность для Запада.
Конфликт с соседями породил долгую войну, и эпизодами этой войны будут битва на Чудском озере, и Раковор, и Копорье…
За самовольство Александр понес наказание. Новгородцы изгнали его из города и указали «путь чист» в «низовскую» землю, куда Александр и отправился, затаив обиду на Новгород.
Прозвище «герой Невский» в ранних летописях не встречается, Александр везде именуется князем Новгородским или Великим князем Владимирским. Значит, это прозвище ему дали намного позднее, после смерти, когда у его московских потомков возникла потребность в героическом предке. Тогда в устах послушных летописцев разбойничий наскок Александра на шведское посольство в устье Ижоры превратилось в героическую Невскую битву, а князь получил благозвучное прозвище Невский.
8. Первенец
Рано утром, когда новгородцы ещё спали, тяжело груженный обоз заскрипел ободьями о деревянную мостовую Новгорода. Князь Александр покинул место княжения, определенное ему отцом Ярославом.
Путь к «низовской» земле, к родному Переславлю лёгким не назовешь. Ладьи, груженые добром, шли по системе рек и волоков, используя физическую силу гребцов. Когда вышли к Волге, путь сделался легче, плыли по течению. Впереди были Тверь, где на княжении сидел родной брат Александра, Ярослав Ярославич. За Тверью – Углич, князь которого, Владимир Константинович, был участником битвы с Батыем на Сити. Потом Ярославль, где предстояло сменить ладьи на телеги.
По всему пути Александр видел пепел сгоревших изб, разоренные городища, запустение, безлюдье и человеческие останки… Впервые он столкнулся с большим числом калек и людей, потерявших рассудок. Одичавшие люди прятались по лесам, боясь приблизиться к проплывавшим мимо ладьям. Безумие русских глаз мерещилось Александру из-за каждого куста, из-за каждого холма. Вопли несчастных людей преследовали караван даже ночью. Впервые он увидел жестокие следы Батыева нашествия и ужаснулся. Он мог сравнить западную угрозу с угрозой южной. Выходило, что монголы были намного страшнее.
В Ярославле встали привалом. Там предстояло перевалить добро на повозки и идти до Переславля посуху. Князь Василий Всеволодович радушно встретил родственников. Александр с удивлением заметил, что Василий гораздо младше его, Александра, а расторопно хозяйствует в разоренном городе. Князю Василию в то лето тринадцать годов исполнилось, а брату его, Константину и того меньше, одиннадцать.
Такие молодые князья сидели на столах княжеских не только в Ярославле, но и в Ростове. Угличе, Белозерске. По всей «низовской» земле рано повзрослели сыны отцов, погибших в сражениях с Батыем. Они собирали людей, рассеянных по лесам, воздвигали свои города и села из пепла. На их плечах лежала задача обновить разоренное государство.
Тронуло ли сердце Александра эта всеобщая нужда, трудно сказать. Ведь до Новгорода Батый не дошел, и новгородцы войны с монголами не знали.
Пока гостили в Ярославле у радушного князя Василия, много было переговорено, о многом узнал Александр: как сражаются монголы, как быт свой строят, как раболепствуют перед буюруками17 своими и ханами.
Когда новгородские гости засобирались дальше в путь, князь Василий отрядил свои подводы для их поклажи и возки для матери Александра, княгини Феодосии, и непраздной жены его, Параскевы.
– От Ярославля до Ростова рукой подать, а там два поприща18 до Переславля, – с улыбкой успокаивал ярославский князь Александра. И столько неподдельной доброты было во взгляде внука Константина Мудрого, что Александр почувствовал вину за Ситскую сечу, где погиб отец Василия, и за обезлюдевшую землю, и за изнасилованные души людей, но признаваться в этом не стал.
Уже чувствовалось дыхание осени, когда тяжело груженный новгородский обоз выехал за валы Ярославля-града.
Параскева в дороге занемогла. Она молча кусала губы, боясь признаться себе и хлопотливой няньке, что боль внизу живота не проходит, а только отпускает на краткий миг и вновь схватывает приступом.
Возок, в котором ехала княгиня, приспособили для лежания. Мягкая рухлядь19, наваленная внутри возка, не давала ощущать дорожную тряску. И всё же Параскева чувствовала тревогу. Нянька, примостившаяся в ногах у княгини, полулежала, подоткнув свободную руку под голову, и тупо смотрела под ноги бегущей лошадки.
Боль становилась невыносимой, и Параскева, схватившись за живот, застонала глухим стоном, будто вырвавшимся из самой утробы. Нянька оживилась:
– Чего, голубушка? Никак схватки начались?!
– Нет, – сморщилась Параскева, – это так… Просто…
И застонала ещё громче.
Нянька выпрыгнула из возка, и её голос Параскева услышала уже далеко впереди.
Боль отошла и больше не возвращалась. «Вот ещё, взглумилась нянька, теперь переполошит весь обоз!» – подумала Параскева, испугавшись пустой суматохи.
И в тот же миг ощутила, как что-то липкое и теплое обтекает её тело, мгновенно промочив льняные одежды.
– Нянька! – крикнула, что было сил, – нянька!
И закряхтела натужно, удивившись своему безволию. Будто кто-то чужой изнутри командовал теперь её телом.
– Ой, потуги! Потуги! – заголосила подбежавшая нянька, и Параскева почувствовала, как чьи-то сильные руки заворачивают подол, стаскивают с неё исподние порты, раздвигают её ноги.
– Давай, голубушка, тужься, тужься, – Параскева почувствовала, как её живот накрыли полотняным убрусом20. Увидела, как с обеих сторон возка две девки-рабыни потянули концы длинного полотенца каждая к себе, низко приседая и упираясь ногами в землю.
– Давай, – командовала нянька. И приступ потуги снова потряс тело княгини. Она кряхтела, чувствуя, что при потуге боль уходит. И тужилась, тужилась…. Наконец, что-то скользкое выкатилось промеж ног, и волна горячей жидкости обдала тело княгини до самой шеи.
– Малой! – завопила нянька, крутя в руках сморщенное существо фиолетового цвета, – княжич!
– Сын… Сын…, – губы княгини Параскевы кривились, выговаривая слова, но звука не было. Сил не осталось.
Подъехал Александр, принял на руки младенца, ткнулся лицом в теплые пеленки:
– Василием назовем, – провозгласил, волнуясь до слез, – пусть таким же будет, как Василий Всеволодович, князь Ярославский.
9. Предательство
Батый осел в прикаспийских и причерноморских степях. Впереди был путь в Закарпатье, на Венгрию, Польшу, Чехию. Советники из числа русских бояр, которых взял Батый пленниками, в один голос твердили, что Венгрия богата землями, винами, серебром и золотом, прекрасными девами. Надо идти туда! На Венгрию! На Венгрию!
Батый и сам понимал, что ещё не выполнил завет деда Чингисхана. Он не достиг края земли. Но как уйти с границ Руси, когда не все ещё русские города покорились ему? Из почти двухсот городов, что стояли на русской земле, только четырнадцать он взял на меч. Остальные затаились за стенами и валами, за дремучими лесами и болотами. Нельзя уйти за Карпаты, оставив в тылу непобежденного врага.
Больше всего Батыя волновали отношения с двоюродными братьями. Гаюк, этот сын пестрой козы, всячески выказывает неуважение. Только вчера, когда важные родичи собрались пировать, и Батый, как старший среди присутствующих первым поднял и выпил провозглашенную чашу, Гаюк рассердился и проговорил, обращаясь к Бури: «Как смеет Бату пить чашу раньше нас, этот сын „наследника меркитского плена“! Зачем он лезет равняться с нами, законными наследниками своих великих отцов!»
А Бури, этот собачий хвост, только ухмылялся!
Затем Гаюк и Бури засобирались уезжать, не желая оставаться в шатре Батыя.
Что делать с ними? За их спинами стоят их могущественные отцы, а Батый, слывя мудрым, не может нарушить Ясу Чингисхана и посеять замятню в своих улусах.
И как идти на Венгрию, когда у венгерского короля Белы появились татарские жеребчики. Монгольские лошадки низкорослы и лохматы, как дикие зверьки, но они быстроходны и выносливы. Они сами добывают себе корм, и им не надо стойла для отдыха. Только на таких конях можно достичь победы. Яса Чингисхана запрещает продавать или дарить монгольских лошадок в недружественные земли.
– Повелитель, тот, кто продал в Венгрию жеребцов, изменил не только тебе. Этот человек нарушил Ясу Чингисхана, – советник хана, мудрый китаец Или-чут-сай, прочел мысли Батыя.
– Так кто же продал в Венгрию монгольских жеребчиков?
Батый заволновался, лисья шапка сползла с его выбритого темени, и жидкая косичка задралась высоко вверх
– Повелитель, поручи Сартаку узнать, кто это сделал.
Через день сын Батыя, Сартак, вошел в шатер Батыя с важным известием.
Соглядатаи доложили, что племенных коней в Венгрию отогнал худой русский князек Андрей из Сарвогла и получил за то большие деньги.
– Кто!? Кто продал русскому наших коней!? – гневом перекосило лицо Батыя.
– Гаюк, – тихо, но внятно произнес Сартак.
От такого важного и долгожданного известия пальцы Батыя затряслись мелким трусом.
– Кривому дереву лучше засохнуть, – Батый вскочил с кошмы, – казнить всех, кто причастен к измене! Но я не могу предать смерти сына Угедея!
– Вышли его за пределы своего улуса. Пусть отправляется в Каракорум к отцу, – Или- чут- сай всегда подает мудрые советы.
Батый взглянул на сына. Сартак понимающе кивнул:
– Я отдам приказ, отец.
– И Бури пусть убирается вслед за братом!
Злоба душила молодого хана Гаюка так, что сердце билось, как пойманный таймень. Злоба заполнила все его внутренности и распирала грудь тяжелым дыханием. Хан Гаюк покидал ставку Батыя с позором монгола, преступившего закон Великого Чингисхана. Вместе с Гаюком в Монголию был выслан и хан Бури, соучастник позорной сделки.
Рядом со злобой в сердцах двоюродных братьев Батыя поселился страх. Что будет с ними в родной Монголии? Когда рядовых воинов отправляют из действующей Орды к родному очагу, это означает только одно – позор семьи и рода. Такого человека ждала участь арата21 степной отары до конца жизни.
Какую участь приготовят им их влиятельные, но суровые отцы, монгольские балбесы могли только гадать. Поэтому путь до Каракорума обещал быть очень долгим. Спешить было некуда.

