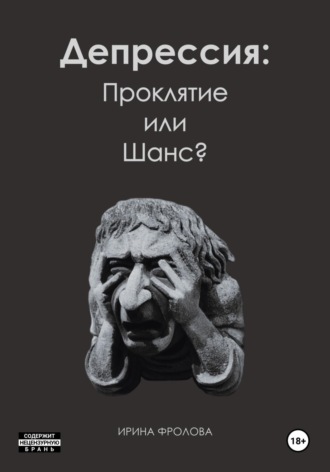
Депрессия: проклятие или шанс?
Я разорвала с ней всякие отношения. Думала, она одумается и покается, но увы. Она нажаловалась на меня моей сестре, и та забрала ее. Правда, не к себе в Москву, а купила однушку в Серпухове и туда ее переселила. Долго она там не прожила. Через год умерла. За два месяца до смерти у нее обострилась паранойя, она стала баррикадировать дверь, так что сестре пришлось пару раз вызывать МЧС, чтобы войти в квартиру. Сестра позже мне рассказала, что мать боялась, что я приеду и убью ее. Она запретила сестре давать мне ее адрес и даже телефон.
Хоронила ее моя сестра одна. Ни одного родственника не позвали. Я поехала, но меня не дождались, похоронили по-быстрому. Я съездила на могилу на следующий год. Что я могла ей сказать? Она была больным человеком, теперь-то я это точно знаю. Паранойя, которая у нее развилась, как раз это доказывает. Ко мне у нее было пристрастное отношение, поскольку у меня было то, чего не было у нее – душа. Я умела любить, а она нет. Поэтому, как в сказке «Муха цокотуха», она решила «меня съесть». И ей это почти удалось. К счастью, я вовремя одумалась, а точнее задумалась над вопросами: «Почему я так живу? Что со мной не так? Есть ли способ это исправить?» Когда я нашла ответы на эти вопросы, жизнь переменилась.
Моя жизнь до 57 лет
До шести лет я была относительно здоровым ребенком. Относительно, потому что была слишком тихой. Я старалась быть незаметной, интуитивно чувствуя, что матери моя активность не нравится. Самое первое мое воспоминание: мне два с половиной года, я на кухне встаю на стульчик и декламирую «Муху-Цокотуху». Выучила ее мгновенно, услышав один раз. Память была феноменальной, плюс декламировала я ее с выражением. Однако тетя Люба, старшая сестра матери, мне потом рассказывала, что мать после таких моих выступлений всегда кричала на меня и наказывала по пустякам, так что даже тетя Люба ей говорила: «Что ж ты так кричишь на нее, она же ребенок». Но, вероятно, мать несло. Что-то во мне ей очень не нравилось, поэтому я быстро перестала выступать и как бы затаилась.
Еще одна картинка из моего детства. Мне где-то три-четыре года. Мы в деревне уезжаем и прощаемся с родней, высыпавшей на улицу нас провожать. Мать всех приглашает в гости, поскольку мы городские и могли бы приютить деревенских, если они в город приедут. Она ко всем подошла и лично пригласила. Но одну восемнадцатилетнюю девушку не заметила. Это была двоюродная сестра матери – Нина. Я в свои три года почувствовала ее боль и обиду за то, что про нее забыли. Подбежала к ней, обхватила ее коленки, так как росточком только до коленок и была, и сказала: «И ты приезжай, голубушка». Все засмеялись, а Нина заплакала. Это было так трогательно: трехлетний ребенок пожалел взрослую девушку, бросился на помощь и даже слово нашел необычное: голубушка. В этом поступке была вся я: добрая, заботливая, чуткая, любящая. Недаром моей любимой сказкой была «Муха-Цокотуха». Я была от природы такой «мухой» – доброй, заботливой, готовой всех накормить и напоить.
Еще одно воспоминание. Мне пять лет, я в детском саду. Зима, идет мелкий снежок. Мы на прогулке, и наша группа строится парами, чтобы вернуться в детский сад. Я подхожу к воспитательнице и говорю: «Я хочу стоять в первой паре». Голос у меня был, вероятно, уверенный и твердый, от чего воспитательница решила, что это, пожалуй, наглость, и поставила меня в последнюю пару. Я надулась, но возражать не стала. Дошли до сада, вся группа зашла в здание, а я осталась на крыльце. Минут тридцать стояла, уже вся запорошенная снегом, когда в саду хватились пропажи, и испуганная воспитательница выскочила на крыльцо. Увидев меня, она обрушила на меня весь свой гнев. Позже вызвали мою мать и вместе с директором устроили мне обструкцию. Не помню, чтобы я плакала. Но я поняла, что «первой» меня тут не потерпят.
Позже, уже в шесть лет, моя мать «не потерпела» и моей душевности. Она меня до смерти напугала, отправив в больницу на операцию. Решила, что у меня перитонит. Никакого перитонита, естественно, не было. Меня зря разрезали и зря напугали. Хотя для матери, может быть, и не зря. После операции я стала совсем другим человеком – тихой, забитой девочкой без своего «Я». Это мать очень устроило. Через много лет она мне призналась: «Ты всегда делала то, что я хотела». В ее голосе звучала гордость. Она гордилась тем, что сломала мне «хребет» и пятьдесят лет вытирала об меня ноги.
После операции я превратилась в зомби: «что воля, что неволя – все равно». В школе я училась хорошо, но весь материал брала зубрежкой. Память стала плохой, поэтому уроки делала допоздна и очень уставала. Мать отдала меня в музыкальную школу. Музыку я любила, а школу нет. Но все-таки ее закончила. После школы пошла в медицинский, поскольку этого хотела моя мать. Позже выбрала себе мужа, какого хотела мать. Родила двух детей и дочь назвала ее именем, надеясь ей угодить. Но все мои жертвы были зря. Мать относилась ко мне пренебрежительно. Ни мое увлечение гомеопатией, ни даже выигранный грант на учебную поездку в Австрию не изменили у матери ничего. Я была для нее вещью. Иногда полезной, а чаще нет.
В 1991 году, с началом рынка в России, я совершенно интуитивно выбрала пройти курс обучения гомеопатией, чтобы потом работать в частной клинике. Училась в Москве у ведущих гомеопатов страны и впитала этот холистический подход – все приобретенное лечится. Через двадцать лет работы гомеопатом поняла, что не все. Хроническое заболевание у взрослого невозможно вылечить, если не изменить его мышление. Значит, нужна психотерапия. Еще десять лет ушло на изучение психологии. Училась по книжкам и семинарам, а также прослушала курс по психоанализу в нашем медицинском университете.
В сорок лет мне поставили онкологический диагноз. Это было ожидаемо, поскольку с шести лет я имитировала жизнь, а не жила. Я прогибалась под мать, мужа, начальников, будучи уверенной, что они сильнее меня, а я «пыль у их ног». То, что какая-то часть меня не хотела с этим согласиться, ничего не меняло. Думать о себе я могла как угодно: что я умная, образованная, талантливая. Это в уме, а в поведении – зависимая, трусливая, неадекватная. Карьера, естественно, не задалась. Я ушла из стационара в частную клинику, но клиентов было мало, и я еле сводила концы с концами.
А тут еще и рак. Слава богу, только начальная стадия. Будучи, по крайней мере, грамотным врачом, я понимала, что рак – это психосоматика, поэтому пошла не к хирургам, а к психотерапевту. Не сразу, но нашла «своего». Это был ведущий психотерапевт нашего города Покрасс Михаил Львович. Он сразу понял, в чем дело (не в раке, конечно, а в моей «бесхребетности») и обрушил на меня ушат упреков и гнева. Это «лечение гневом» было своего рода ядотерапией, где об меня вытирали ноги, «раздевали догола, валяли в перьях и возили по городу» на обозрение всем. Терапия была групповой, так что зрителей хватало.
Я настолько была ошарашена, что просто глотала эти упреки, запивая их собственными слезами и болью. Длился этот «садизм» три года. Раз в неделю была группа и один-два раза в месяц двадцатичетырехчасовые марафоны. Выхода у меня все равно не было, умирать не хотелось, и я все терпела. Через три года появились судороги в ноге, но рак ушел. Доктор выгнал меня из кабинета. Подобно тому, как птицы выбрасывают птенцов из гнезда: теперь сам, сам, сам.
Ну я и начала жить своим умом. Сначала, согласно своей внутренней программе, стала искать спасителя, желая заменить плохую мать на хорошего мужа (с плохим мужем я к тому времени уже развелась). Зарегистрировалась на иностранном брачном сайте, поездила по заграницам, пытаясь найти мужа. Нашла. Но!!! Оказалось, что теперь я не хочу быть «ковриком». Вот раньше была согласна, а теперь нет. Поэтому проект с замужеством пришлось закрыть. Любви нет, а отдаваться за возможность жить за границей я не хотела. Появилась гордость.
Затем пришла идея продать свою квартиру и вложить деньги в строящийся в Бирмингеме (Англия) отель, купив там одну комнату. Обещали пятнадцать процентов годовых. Идея рискованная, но у меня была какая-то нереальная вера в эту заграницу, что там дольщиков не кидают. Оказалось, кидают. И я потеряла и деньги, и квартиру. Вот тут-то все и началось. С этими поездками по заграницам я потеряла свою работу, плюс срок моего медицинского сертификата давно истек, а без него на работу не берут. В итоге я оказалась без денег, без работы и без квартиры.
Была осень 2015 года. Мне было 57 лет. Потерять все в таком возрасте означало полный «писец».
Моя дочь купила на свои деньги крошечную комнату в общежитии, куда я переехала, уже и не надеясь когда-нибудь из нее выбраться. Общежитие было как в песне у Высоцкого: «Система коридорная: на тридцать восемь комнаток – всего одна уборная». Еще осень как-то пережила, хватило летних ресурсов. Но по мере того, как день убывал и солнца становилось все меньше и меньше, состояние ухудшалось. Развилась полная картина тяжелой депрессии: я перестала есть, спать, выходить на улицу. Я лежала в постели, свернувшись клубочком, и тряслась от страха. Что меня ждет? Смерть? Психушка? Куда бежать и что делать? Сил хватало только, чтобы раз в неделю сходить в магазин и сварить себе макароны. Слава богу, что была пенсия. На макароны хватало.
Вес стремительно падал и дошел до 51 кг (с моих 65). Я обратилась к психологу юнгианской ориентации. Юнгу я свято верила. Его фразу я написала на листке и повесила над столом. «Депрессия – это дама в черном. Не стоит ее прогонять, а стоит пригласить к столу и выслушать, что она тебе скажет». Поэтому никаких психиатров я в принципе не рассматривала. Я решила ждать, что скажет «дама в черном».
Психолог поначалу вроде бы помогала мне, страх на несколько часов уходил, но вскоре стал возвращаться прямо на приеме. И где-то на третьем месяце терапии мой психолог послала меня… к психиатру. Ее пугала моя худоба. Поэтому она посоветовала мне сесть на таблетки. Я поняла, что опыта у нее по лечению депрессии без таблеток нет. А значит, она мне не помощник. Придется вылезать самой. Или, как я написала у себя в дневнике: «Оставалось одно – пропадать!».
Глава 2. Депрессия
Депрессия с точки зрения медицины
Сделаю небольшое отступление от своей истории, чтобы дать краткое представление о том, что такое депрессия глазами разных специалистов. Начну с медицины.
Слово «депрессия» происходит от латинского deprimo, что означает «давить». Давление испытывает прежде всего душа человека, поэтому депрессию издревле относили к душевным заболеваниям. Угнетённое, подавленное и тоскливое настроение, снижение или утрата работоспособности, длящееся несколько месяцев, заставило ученых отнести такое состояние к разряду болезни.
Депрессия до ХХ века называлась меланхолией. Она была хорошо известна еще врачам античности. Они объясняли ее возникновение, исходя из гуморальной теории, согласно которой любое заболевание возникает, если нарушен обмен четырех жидкостей: крови, мокроты, желтой желчи и черной желчи. Последняя и является причиной меланхолии. Собственно, сам термин «меланхолия» переводится как «черная желчь» (melon – черная, chole – желчь). Именно недостаток или избыток этой желчи вызывает чувства грусти, подавленности или ярости.
Данный взгляд на меланхолию продержался до XVII века. В средние века, в связи с распространением христианства, «черная желчь» начинает ассоциироваться с первородным грехом, а значит, больной меланхолией человек стал восприниматься грешником, который грешил против Святого духа.
С развитием наук, с накоплением эмпирического материала о роли эмоций в развитии подавленного настроения взгляд на данное состояние стал меняться. В XIX веке меланхолия окончательно признается заболеванием и меняет название. В 1845 году В. Гризингер предложил термин «депрессия».
В настоящее время депрессия – наиболее распространённое психическое расстройство. Им страдает каждый десятый в возрасте старше сорока лет, две трети из них – женщины. Среди лиц старше шестидесяти пяти лет депрессия встречается в три раза чаще. Общая распространённость депрессии в юношеском возрасте составляет от 15 до 40 %[1].
Во многих работах подчёркивается, что большей распространённости аффективных расстройств в этом возрасте соответствует и бо́льшая частота суицидов[2].
В книге Джонатана Садовски «Империя депрессии» приводятся свежие данные. «По данным ВОЗ во всем мире насчитывается более трехсот миллионов людей, страдающих депрессией; с 2005 по 2015 годы их число выросло на восемнадцать процентов»[3]. По самым достоверным оценкам, от 5 до 20 % людей в какой-то момент своей жизни страдают глубокой, вызывающей потерю трудоспособности депрессией[4].
Различают униполярную депрессию (депрессию без маниакальной фазы), биполярную депрессию (когда идет чередование депрессии и маниакала) и большое депрессивное расстройство.
DSM-5 предписывает ставить диагноз БДР (большое депрессивное расстройство), если хотя бы пять из девяти симптомов сохраняются в течение двух недель. Вот эти девять симптомов:
1. Подавленное настроение большую часть дня, почти ежедневно.
2. Ощутимое уменьшение интереса или удовольствия от всех или почти всех видов ежедневной активности.
3. Значительная потеря веса без диет или набор веса; отсутствие аппетита или чрезмерный аппетит почти каждый день.
4. Изменение количества сна в течение дня – слишком мало или слишком много.
5. Замедление мышления и уменьшение физической активности (наблюдаемые другими, а не просто субъективные), ощущения беспокойства или заторможенности.
6. Усталость и упадок сил почти каждый день.
7. Чувство собственной никчемности или чрезмерной и незаслуженной вины почти каждый день.
8. Снижение способности к умственной деятельности и концентрации, а также нерешительность, присутствующие почти каждый день.
9. Постоянные мысли о смерти, суицидальные размышления без четкого плана, попытка самоубийства или конкретный план свести счеты с жизнью[5].
К сожалению, в психиатрии нет ни одного объективного критерия депрессии. «Специфического физиологического мозгового маркера депрессии до сих пор не обнаружено»[6]. Диагноз ставится исключительно на основании слов пациента. А это значит, симулировать депрессию очень легко, как, впрочем, и шизофрению. Садовски вспоминает печально известный эксперимент Дэвида Розенхана. В 1973 году психолог Дэвид Розенхан и его студенты притворились сумасшедшими и обратились в психиатрическую больницу. Всем был поставлен диагноз «шизофрения», и все были госпитализированы. На основе только придуманных жалоб им была с легкостью диагностирована шизофрения и назначена чрезвычайно тяжелая терапия. Этот эксперимент доказал, что диагноз в психиатрии не имеет никакой доказательно базы[7].
В настоящее время не существует ясного понимания нейробиологических причин клинической депрессии (большого депрессивного расстройства). В научной среде на этот счёт есть ряд гипотез, ни одна из которых пока не получила убедительных доказательств. Моноаминовая теория связывает развитие депрессии с дефицитом биогенных аминов, а именно серотонина, норадреналина и дофамина[8]. Однако она не объясняет низкую эффективность антидепрессантов и медленное развитие их лечебного эффекта[9].
Надо сказать откровенно, что хотя серотониновая гипотеза широко распространена, строгих подтверждений этой гипотезы нет. Систематический «зонтичный» обзор, данные которого были опубликованы в Molecular Psychiatry [англ. ] в 2022 году, показал, что доказательства связи между уровнем серотонина и депрессией отсутствуют[10].
В лечении депрессии основными лекарственными препаратами являются антидепрессанты. В теории они должны оказывать влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина. Самое интересное, что никто не знает, что они действительно повышают или понижают. Их применение основано лишь на опыте их использования. То есть опытным путем сначала на мышах, а потом на людях ученые выявили сдвиги в настроении при применении некоторых лекарств.
Так, в 50-е годы ученые испытывали изониазид (лекарство от туберкулеза) и заметили улучшение настроения у пациентов. Каким образом этот препарат повышал настроение, до сих пор неизвестно. Но его все-таки стали применять в качестве антидепрессанта. Вскоре на его основе синтезировали много других антидепрессантов. В 1960-х годах появились селективные ингибиторы моноаминоксидазы, а также селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Эти препараты были менее токсичными и давали меньше побочных эффектов. Однако, что же они меняют в организме, так и остается неясным.
Существует масса работ, в которых ученые оценивают эффективность действия антидепрессантов. Поскольку львиную долю этих исследований финансируют фармацевтические компании, то ничего удивительного, что публикуются только исследования, в которых выявлен положительный эффект, в то время как бездействие препарата или его побочные действия утаиваются.
Но появляется все больше исследований, которые выявляют серьезные последствия приема антидепрессантов. Так, исследования показали, что многие антидепрессанты могут увеличить вероятность суицида в первые месяцы терапии, особенно у детей и подростков[11].
В 2018 году проведено исследование, в котором учёные обнаружили, что риск попыток самоубийства был в два с половиной раза больше в группе, принимавшей антидепрессанты, по сравнению с плацебо: 206 попыток самоубийства и 37 самоубийств в группе антидепрессантов против 28 попыток самоубийства и 4 самоубийств в группе плацебо[12]. К побочным эффектам антидепрессантов относится также развитие психоза[13].
Петер Гётше, профессор Копенгагенского университета, отмечал также, что в исследованиях, финансируемых фармацевтической промышленностью, занижаются данные о смертности людей, принимающих антидепрессанты. Основываясь на рандомизированных исследованиях, включённых в метаанализ ста тысяч пациентов, Гётше подсчитал, что люди, принимающие антидепрессанты, по-видимому, в 15 раз чаще совершают самоубийства, чем сообщалось FDA[14].
В июне 2019 года Майкл Хенгартнер (Цюрих, Швейцария) и Мартин Плодерль (Зальцбург, Австрия) опубликовали в журнале «Психотерапия и психосоматика» анализ, основанный на отчётах по побочным эффектам и осложнениям из архива Управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Расчёт показывает: на 100 тысяч пациентов приём антидепрессантов приведёт к дополнительным 495 случаям самоубийства или к суицидальным попыткам. Hengartner и Plöderl приходят к заключению, что «антидепрессанты значительно увеличивают риск самоубийства у взрослых с клинической депрессией»[15].
Исследователь из Голландии Кирш обратил внимание и на тот факт, что некоторые препараты, не являющиеся антидепрессантами (опиаты, седативные средства, стимуляторы, растительные лекарственные средства и др.), оказывают при депрессии такое же действие, как и антидепрессанты[16].
Существует масса работ, в которых эффект действия антидепрессантов находится на уровне плацебо. «Большая часть опубликованных результатов испытаний показывает, что действие антидепрессантов превосходит действие плацебо, но ненамного, а в некоторых случаях не превосходит»[17]. Плацебо – это пустышка, которую пациент принимает под видом лекарства, но не знает об этом. У него в тридцати процентах случаев наступает улучшение, хотя лекарства в пустышке нет. Там мел или сахар, а эффект объясняется самовнушением. Так вот, у антидепрессантов отмечен положительный эффект в 30–40 процентах случаев, что практически на уровне такой «пустышки». Значит, эффект от применения антидепрессантов во много является результатом самовнушения.
В 2008 году был проведён анализ (Turner и соавторы) как опубликованных, так и неопубликованных исследований действия 12-ти антидепрессантов. Ученые выяснили, что исследования с отрицательными или сомнительными результатами оказались по преимуществу либо не опубликованными (22 исследования), либо опубликованными с искажением результатов, в результате чего они представали как позитивные (11 исследований)[18].
Есть так же информация, что один из стрелков в школе Колумбайн пил антидепрессанты. И есть версия, что именно их прием спровоцировал его агрессивность и желание убить детей в школе.
Я сконцентрировала внимание на этой неприятной информации вовсе не потому, что я непримиримая противница лекарственной терапии. В тяжелых случаях она необходима. Меня удручает, что об этих фактах вам не расскажет ни психиатр, ни фармацевт, ни журналист в СМИ. О побочных эффектах очень кратко можно прочитать в аннотации. А вот о подтасовках в исследованиях, о повышении риска суицида вы никогда не узнаете, если сами не полезете в интернет. Об этом стараются умалчивать. Я как врач знаю, что хирурги перед операцией с каждого пациента берут расписку, что он предупрежден о последствиях. Человек берет на себя ответственность за риски. Мне очень жаль, что такого не происходит в психиатрии. Абсолютное большинство пациентов получает антидепрессант не в стационаре, а амбулаторно. Они вполне в состоянии ознакомиться со всей необходимой информацией и взять (или не взять) риски на себя.
У меня сейчас на лечении находится семидесятилетняя пациентка с жалобами на приступы сердцебиения. Ей полгода назад хирурги предложили операцию на сердце с целью блокады водителя сердечного ритма, но честно предупредили, что вероятность излечения 40 процентов. Она порылась в интернете, «потусовалась» на форумах и пришла к решению отказаться от операции и искать альтернативные методы лечения. Выбрала гомеопатию, и мы с ней за полгода уменьшили число приступов на 50 процентов.
В этой истории самым важным является честность хирургов, благодаря которой пациент получает мотив искать другие пути лечения. Если бы психиатры делали то же самое, честно предупреждали бы больного, что эффект от препаратов на уровне плацебо (30–40 %), то этим самым они бы стимулировали его активность в поисках альтернативной помощи себе. Я не говорю здесь о критических случаях, когда больной готов совершить суицид. Здесь терапия уместна. Но моя дочь, например, лечится уже год у психиатра. У нее нет суицидальной наклонности, но врач по-прежнему уверяет ее, что таблетки ей необходимы. На мой взгляд, это ложь не во спасение.
Можно, конечно, оправдать психиатров тем, что кроме антидепрессантов наука за семьдесят лет не придумала ничего нового, выбор лечения в психиатрии очень небольшой. Но, на мой взгляд, эра антидепрессантов будет длится долго еще и потому, что это дешево и «лениво» как для врача, так и для пациента. Как пишет Д. Садовски, когнитивно-поведенческая терапия и «Прозак» (самый популярный антидепрессант) отлично вписались в лечебные схемы, поскольку их применение не требовало глубокой проработки внутренних проблем, легко вписывалось в условия медицинского страхования и прекрасно проверялось при помощи клинических испытаний, которые, «как мы узнаем далее, оказались небезупречны»[19].
Д. Садовски делает неутешительный вывод: «Многообещающие достижения второй половины XX века так и не дотянули до уровня, на который все рассчитывали: ни в генетике, ни в науке о мозге, ни в разработке лекарств не было достигнуто никаких прорывов».
Депрессия с точки зрения нейронаук
Нейрофизиологи видят причину депрессии в нарушении работы лимбической системы. Она располагается между стволом мозга и корой. Ствол мозга еще называют рептильным мозгом, поскольку он как у человека, так и у животных отвечает за работу жизненно важных органов, таких как сердце, легкие, иммунная система. Кора – самое молодое приобретение человека и занимает лишь порядка тридцати процентов внутреннего пространства черепной коробки. Рациональный мозг (кора) отвечает за сознание и сосредоточен на мире вокруг нас. Его интересует, как устроены вещи и люди, он определяет их смысл, управляет нашим временем, упорядочивает наши действия.
Лимбическая система относится к среднему мозгу. Развитие этой части мозга формируется, главным образом, в течение первых шести лет жизни. «Она отвечает за эмоции, отслеживает опасность, определяет, что приносит удовольствие или пугает, что важно для выживания, а что нет». Это центральный пункт управления нашими социальными связями[20].
Вместе рептильный мозг и лимбическая система образуют «эмоциональный мозг». Он находится в самом сердце нашей центральной нервной системы, и его главной задачей является забота о нашем благополучии. Эмоциональный мозг запускает в действие заранее заданные программы спасения, такие как реакция «бей или беги». Именно он отвечает за нашу безопасность.
В норме сигналы от органов чувств попадают в наш мозг к двум главным центрам «принятия решений». Сначала информация поступает в эмоциональный мозг, чтобы решить «опасен-не опасен», а через несколько микросекунд – в кору, чтобы определить, «чем опасен». Например, когда вы видите незнакомого человека, то первым реагирует лимбическая система. Она мгновенно определяет – свой или чужой. И только через долю секунды кора «догоняет», чем опасен (или не опасен) и что делать. Поэтому люди и говорят о «чуйке» или по-научному – об интуиции, которая предупреждает человека об опасности еще до того, как кора разберется, что да как.

