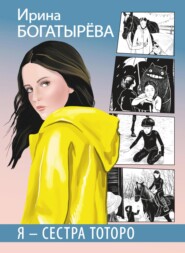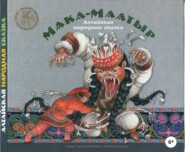По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девья яма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом всё кончилось, и теперь не скажешь когда. В октябре? В марте? Папа звал, папа требовал, чтобы бросали дом и приезжали. Сначала в Петербург. Потом за границу. Сейчас они с Марго, наверное, уже в Париже. От отца давно не было писем, но должны быть там – полгода прошло с последней почты. А мама всё не решалась оставить дом. Ждала, на что-то надеялась. Решилась вот только теперь, а теперь что? – поздно. Людей не осталось. Лошадей не осталось. Грома последним отдали тому же Игнату, он один ещё приходил к ним по старой памяти. Даже хлеб приносил и почти не брал за это вещей. Впрочем, брать-то было уже нечего – давно растаскали. Свои ли, чужие – кто знает. Мама уберегла только библиотеку, хотя кому здесь нужны книги даже и на русском, а тем более на французском, английском, немецком? И Грома держали и прятали как могли, летом пасли сами, осенью делились с ним хлебом.
Третьего дня мама отдала его Игнату с уговором, что отвезёт их на станцию сегодня ночью. И где теперь Игнат?
Ни Грома, ни Игната.
За стеной зашуршало. Ветер? Открыть глаза, прислушаться. Мамин голос давно стих. Она, конечно, уже всё поняла и не выдаст. Но эти всё ещё здесь, где-то рядом – даже про себя нет сил назвать их по-настоящему. Хотя как это – по-настоящему? По-настоящему они просто бандиты! Ходят, рыщут. Но не слышно. Только ветер за стенами конюшни.
Пустые денники, грязный пол, гнилая солома по углам. Знал бы папа, во что здесь всё превратится. И как же быстро! Разруха, руины. Дом ещё стоит, но что он без людей, без семьи. Сегодня, когда ждали Игната, бесконечно ждали его в холодной прихожей, сидя на узлах, не зажигая света – в собственном доме как беглецы, – это стало окончательно ясно: прежняя жизнь оборвалась, рассыпалась и больше не соберётся. Какая жизнь будет дальше, Бог знает. Только он один.
– Tu te souviens le chemin au champ lointain? Apr?s tu vas en ville, ? la gare. Si quelque chose arrive tout-?-coup.
– Oui, maman
.
– Молчи, нитку закуси – на тебе же шью. – Мама порой бывала суеверна, как деревенская девушка, хоть и графиня.
Её руки быстро мелькали в потёмках, почти на ощупь – стежок, ещё стежок. Не раздевши, зашивала в подол, аккуратно укладывая, нитку драгоценного – не просто дорогого, а семейного, памятного. Напряжена как струна, спина – как у статуи, но ни голос, ни руки – ничто не выдаст этого внутреннего напряжения.
– Maman, ? quoi cela?
– Qui sait ce qui nous attend. Peut-?tre, cela nous sauvera la vie
. Запомни: настоящее у тебя. У меня тот, Маргаритин.
– Но зачем так прятать?
– Так надёжнее.
Она затянула последний стежок, откусила нитку. Потрогала шов. И вдруг заговорила тихо, задумчиво, как будто они не бежать готовились, а сидели вечером, после чаю, у камина.
– Это колье подарил бабушке её отец, твой прадед. Привёз из Кавказской кампании. Говорил, что получил его в дар от грузинской княжны, чью семью спас от башибузуков. Вернулся с войны без единой царапины и верил, что это не просто колье, а амулет. И бабушка верила, что оно хранит от беды. – Задумалась, вздохнула. – Вот, может, и пришло его время.
Тут в дверь постучали.
– Именем революции! Открывайте!
– Спят, что ли? Али сбёгли?
– Не, тама. Некуды им детьси. Эй, хозяйва!
Они обмерли, забыв дышать.
А потом мама засуетилась, стала жалкая, маленькая.
– Сейчас, сейчас! Подождите минутку! – И шёпотом, в самое лицо: – Не бойся. Они ничего нам не сделают.
– Открывайте!
– Уже иду! – Мама нарочито громко звенит ключами. Распахивает – врывается ветер, с листьями, с холодом. Октябрь, пустота и мрак. – Света нет, керосин кончился. Что случилось?
– Совет народных комиссаров… Ваше имущество конфискуется.
Две фигуры маячат на ветру, одинаковая форма, на головах – островерхие шапки. Кони фыркают за спинами. Не Гром ли? А может, Феличе или Кнопа. Их увели ещё летом. Кого-то вот так же возят. Ночами, на ветру. Бандитов.
Эта мысль почему-то вдруг придала сил и злости. Невероятной злости. Ну уж нет, я вам не дамся! Лошадей забрали, но меня – нет!
Дальше всё само вышло – сорваться с места, шмыгнуть прямо под руками – «Стой?! Куда?!» – и полететь из дома, в ночь, в парк.
– Саша! Reviens!
– голос мамы мечется между деревьями.
– Стой! Стрелять буду!
Топают, бегут. Но куда им? Тут каждая тропинка, веточка, кустик – всё своё, родное. Уйду, конечно, уйду.
Если только правда не станут стрелять.
Промчаться по парку, юркнуть в конюшню, забиться в гнилую солому. Лежи теперь здесь, затаившись, как заяц. Хорошо, что дома не топили, ждали Игната одетыми. Сейчас эти уйдут, тогда выбраться – и туда, под гору, в ледник. А там уже и ход, тот самый, о котором говорила мама.
– Не видать?
– Как сквозь землю.
– Чертяка…
Снова голоса, не близко, но различимы. Пусть уходят. Лишь бы маме ничего не сделали.
И тут в носу начинает нестерпимо чесаться – зажать, стерпеть!..
А-пчхи!
Всё от гнилой соломы!
– Туда! Живо! – застучали сапогами.
Ждать нечего – выскакивает из дверей и вперёд, опять через парк, в гору.
Глупо бежать в гору, не нужно бы, лучше вниз, где ледник. Но ничего, свернёт. Главное – запутать. Главное, чтоб отстали. Не выводить же их прямо ко входу в лаз!
Но бегут, не отстают. Кричат.
А потом – ба-бах!
Внутри всё обмерло. Стреляют? Неужели правда? Здесь, у родного дома! В человека – как в зверя!
Бежать! Вверх, вверх. Под ногами скользит – мокрая склизкая земля, мёртвые листья. Осыпаются камни. Ничего, я дома. Это они – воры, бандиты. А я – дома. Сейчас найду где спрятаться. Парк не предаст. Скроет.