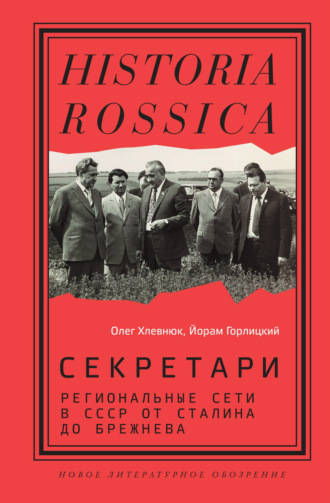
Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева
Секретари против директоров
В сталинской экономике партийный аппарат нередко являлся важным источником внеэкономических стимулов роста. В первую очередь это касалось деревни, где для обеспечения сельскохозяйственного производства требовались принуждение и нажим со стороны партийных функционеров. В индустриальном секторе ситуация была более сложной. Промышленные предприятия нередко подчинялись центральным или республиканским министерствам с их собственной вертикалью власти. Но и здесь партийный аппарат постоянно занимался решением долгосрочных и повседневных проблем под лозунгом партийного руководства экономикой.
Тесная связь между региональной властью и директорским корпусом, впрочем, не означала полного совпадения их интересов. И те и другие стремились любой ценой выполнить план, но не всегда одинаковыми методами. Директора были больше сосредоточены на потребностях своих предприятий. Перед секретарями стояли более сложные задачи. Они отвечали не только за выполнение заданий в сфере промышленности, но также и за состояние сельского хозяйства и социальной сферы на подчиненной им территории. В результате в основе взаимоотношений директоров и секретарей лежал обмен. Местные руководители знали, что их собственное положение зависит от способности крупных предприятий региона выполнять планы, и всячески помогали им, мобилизуя рабочую силу, транспорт и снабжение, лоббируя различные решения в Москве и обращаясь за содействием в другие регионы. В свою очередь, директора заводов могли направить часть средств, выделенных им центральным министерством, на решение местных социальных задач: строительство и ремонт жилья, содержание общественного транспорта, учреждений здравоохранения и учебных заведений. Успех сотрудничества, как правило, был обусловлен компромиссами и взаимными уступками.
Москва была в курсе этого взаимодействия, и в целом оно ее вполне устраивало. Но система давала сбои. Партийные руководители до такой степени разделяли интересы хозяйственников, что забывали о своих обязанностях контролировать и блюсти «государственные» (не ведомственные) интересы. Причем такая линия поведения не всегда была совершенно бескорыстной. Все чаще партийные работники получали от хозяйственных структур различные материальные премии и помощь. Центральное руководство беспокоили такие факты, означавшие укрепление круговой поруки чиновников на местах и ослабление партийного контроля[240]. Так, 29 мая 1946 года начальник Управления по проверке партийных органов ЦК Н. С. Патоличев (ранее работавший первым секретарем в Челябинской области) дал поручение своим подчиненным «срочно позвонить всем первым секретарям обкомов и договориться о немедленном прекращении каких бы то ни было премирований партийных работников»[241].
В записку на имя секретарей ЦК ВКП(б) о работе с кадрами в украинской партийной организации, подготовленной в аппарате ЦК ВКП(б) в июле 1946 года, был внесен раздел с красноречивым названием: «О фактах потери независимости и самостоятельности парткадров и партийных органов». В нем резко критиковались денежные выплаты хозяйственных организаций партийным работникам, которые в результате «стали игрушкой в руках хозяйственников». Практические результаты такой зависимости не заставляли себя ждать. Так, в 1945 году руководство Ворошиловградского угольного комбината осуществляло массовые приписки для выполнения плана, а работники обкома партии, получавшие от угольщиков многочисленные премии, «просмотрели» этот факт. Руководители партийных органов в Харьковской области, для которых на авиазаводе № 135 отремонтировали пятнадцать личных автомобилей, закрывали глаза на плохую работу предприятия и расхищение продуктов и промышленных товаров в заводском отделе рабочего снабжения. В Запорожье обком партии взял под защиту директора завода «Коммунар», которого обвиняли в расхищении материальных ценностей. Инспектора ЦК считали, что причиной этого были услуги, которые директор оказывал работникам обкома. Подобные практики, как свидетельствовала записка, были характерны не только для областных, но и для районных партийных структур[242].
Опираясь на такие сигналы, 2 августа 1946 года Политбюро приняло постановление «О фактах премирования министерствами СССР и хозяйственными организациями руководящих работников регионов». В нем указывалось, например, что министр бумажной промышленности СССР премировал заместителя секретаря Молотовского обкома месячным окладом и ценным подарком. Министр лесной промышленности СССР преподнес первому секретарю обкома и председателю Совета Министров Удмуртской АССР золотые часы, а секретарю обкома и председателю Калининского облисполкома – охотничьи ружья и т. д. Из таких частных примеров выводилась проблема общего характера. ЦК осуждал
практику премирования хозяйственными руководителями руководящих партийных и советских работников как неправильную и вредную… Такая практика премирования, получения подачек, наград приводит к неправильным взаимоотношениям между партийными и хозяйственными органами, по существу носит характер подкупа, ставит партийных работников в зависимость от хозяйственных руководителей, приводит к отношениям семейственности и связывает парторганизации в критике недостатков в работе хозяйственных организаций в силу чего руководящие партийные работники теряют свое лицо и становятся игрушкой в руках ведомств… Такое положение… является позором и гибелью для партработников и парторганизаций[243].
В ходе последующей кампании, руководимой аппаратом ЦК, были выявлены другие факты премирования партийных функционеров министерствами и директорами заводов и их щедрого вознаграждения в виде дефицитных товаров. Принимались постановления, запрещающие такие действия[244]. Однако формальный запрет на подношения и премии не мог в полной мере преодолеть традицию взаимной поддержки хозяйственников и партийных функционеров, что нередко приводило к нарушению субординации. Министерства считали возможным командовать партийными органами. Сталкиваясь с подобными фактами, заместитель начальника Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б) Г. А. Борков в записке секретарю ЦК А. А. Жданову от 10 марта 1948 года сетовал:
За последнее время некоторые союзные и республиканские министерства в обход подчиненных им советских и хозяйственных органов усвоили привычку посылать различные запросы и даже давать директивные указания непосредственно обкомам и крайкомам ВКП(б)… Многие телеграммы, направляемые министерствами и главками в обкомы и крайкомы ВКП(б), не только недопустимы по форме обращения, но и по своему существу свидетельствуют о непонимании некоторыми работниками министерств роли и места партийных органов.
В записке приводились многочисленные примеры телеграмм, по сути приказов, которые рассылались министерствами в обкомы[245].
По причине стремления министерств к доминированию между ними и местными властями периодически возникали конфликты. Так, в апреле 1948 года министр совхозов РСФСР отказался утверждать рекомендованного обкомом директора одного из совхозов в Пензенской области. Министр дополнил свое решение телеграммой в адрес этого работника: «Директором вас не считаю. Доверенность на вас из Сельхозбанка и Госбанка отозвал. Предупреждаю, за дальнейшее пребывание вас на территории совхоза привлеку к уголовной ответственности»[246].

Ил. 3. Директор Челябинского Кировского завода И. М. Зальцман, 15 марта 1946 года. Из фондов РГАКФД (г. Красногорск)
Имея поддержку со стороны влиятельных московских министерств, директора крупных заводов порой держались с региональными секретарями как с равными. В отдельных случаях партийные руководители и вовсе могли оказаться в тени хозяйственников. Вероятно, самым известным примером в этом отношении служит Челябинск, где находился огромный Кировский завод, во время войны выпускавший танки, а после войны переходивший на производство тракторов. 26 января 1950 года решением Политбюро первый секретарь обкома А. А. Белобородов был снят с должности. В соответствующем постановлении перечислялся ряд недостатков в работе обкома, в том числе беспринципное отношение А. А. Белобородова и второго секретаря обкома А. В. Лескова к «безобразиям, которые творил» директор Кировского завода И. М. Зальцман, снятый к тому времени с должности и исключенный из партии. В постановлении говорилось: «Белобородов и Лесков не только не принимали никаких мер по сигналам… об антипартийной провокационной деятельности Зальцмана, но и скрывали эти сигналы от ЦК ВКП(б) и расправлялись с людьми, критиковавшими Зальцмана»[247].

Ил. 4. Первый секретарь Челябинского обкома А. А. Белобородов, 1946 год. Из фондов РГАКФД (г. Красногорск)

Ил. 5. Директор Магнитогорского металлургического комбината Г. И. Носов, 1946 год. Из фондов РГАКФД (г. Красногорск)
Дело Зальцмана, одного из самых известных советских хозяйственников, носившее антисемитскую окраску[248], выявило некоторые черты советской системы управления. Кировский завод в Челябинске являлся одним из важнейших предприятий в СССР, а его директор занимал особое положение в региональной руководящей сети. Более того, пример Зальцмана не был исключением. В той же Челябинской области ведущие позиции занимал директор знаменитого Магнитогорского металлургического комбината Г. И. Носов. Хотя Носов не упоминался в постановлении Политбюро от 26 января 1950 года, его роль, как и роль Зальцмана, довольно долго разбиралась на пленуме Челябинского обкома, собранном по случаю снятия Белобородова.
Каким образом Зальцман и Носов обрели свое влияние? Оба они родились в один и тот же год и были типичными выдвиженцами: в возрасте тридцати с небольшим лет назначены на важные должности, освободившиеся в ходе массовых репрессий. Восхождение Зальцмана было особенно стремительным. В 1938 году, в 33-летнем возрасте, он стал директором ленинградского Кировского завода (до убийства Кирова в 1934 году известного как «Красный путиловец») – одного из старейших и крупнейших металлообрабатывающих и машиностроительных заводов страны. Эвакуированный в начале войны в Челябинск, завод под руководством Зальцмана перевел свое производство на военные рельсы. Он стал одним из важнейших оборонных предприятий СССР, снабжая фронт танками и другой военной техникой[249]. О роли завода и его руководителя свидетельствовало назначение Зальцмана в 1941 году заместителем наркома танковой промышленности СССР в дополнение к директорскому посту. Вскоре Зальцман ненадолго покинул Челябинск, в течение года (с середины 1942 года) возглавляя Наркомат танковой промышленности. Затем вновь вернулся директором на Кировский завод в Челябинск. Руководя одним из крупнейших предприятий страны, Зальцман имел независимые каналы связи с Москвой, в том числе мог напрямую позвонить Сталину[250]. Звания и награды долгое время сыпались на Зальцмана дождем. В 1941 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Помимо получения Сталинской премии и награждения орденами Кутузова, Суворова, Красной звезды и тремя орденами Ленина, он был произведен в генералы и избран в Верховный Совет СССР. Не менее примечательным руководителем был Г. И. Носов. В 1940 году, в 35-летнем возрасте, он был назначен руководителем крупнейшего завода страны, символа первой пятилетки – Магнитогорского металлургического комбината. Как и Зальцман, в 1946 году Носов был избран депутатом Верховного Совета и имел немало наград, дважды становился лауреатом Сталинской премии.
На фоне этих известных директоров партийный секретарь Белобородов явно проигрывал. Подобно Зальцману и Носову, он был выдвиженцем, на волне террора сделавшим быструю карьеру. За несколько предвоенных лет Белобородов прошел путь от рядового агронома до председателя Челябинского облисполкома и третьего секретаря Челябинского обкома. В 1946 году был назначен первым секретарем обкома этого крупного и стратегически важного региона страны. Успех и карьерные возможности Белобородова сильно зависели от достижений челябинской индустрии, и прежде всего Кировского завода и Магнитогорского комбината. Он много сил тратил на удовлетворение нужд этих двух промышленных гигантов, чье значение в глазах Москвы было в какой-то степени равноценно значению области в целом. Белобородов унаследовал особые отношения с Зальцманом и Носовым от своего предшественника Н. С. Патоличева, переведенного на высокую должность секретаря ЦК в Москву. По свидетельству одного из областных работников, Патоличев в бытность секретарем в Челябинске говорил: «Я считал бы за счастье работать с т. Носовым парторгом ЦК»[251]. Жалобы в адрес Зальцмана, как утверждали очевидцы, Патоличев отводил такими объяснениями: «Ну, слушайте, что можно сделать, ну хулиганит, ну хамит, но одновременно надо видеть в нем большой талант большого организатора, а нам сейчас такие люди нужны. Приходится мириться»[252].
Осуждение бесконтрольности челябинских директоров было важной темой пленума Челябинского обкома, созванного 3 февраля 1950 года для обсуждения постановления Политбюро об ошибках руководства обкома и снятии Белобородова. Тональность пленума была задана представителем ЦК ВКП(б), который заявил, что секретари обкома «часто заигрывали с некоторыми директорами крупных предприятий, вывели некоторых директоров предприятий из-под контроля партийных комитетов»[253]. Еще более жестко эту мысль повторил секретарь Тракторозаводского райкома партии, в ведении которого формально находилась партийная организация Кировского завода:
…Беспринципность т. Белобородова зародилась потому, что он заигрывал перед директорами заводов. Это т. Белобородова поставило в некоторую зависимость от этих директоров и все принципиальные вопросы с Зальцманом и Носовым решались по-семейному. Тов. Белобородов… не наказывал этих директоров потому, что он сам их крепко побаивался[254].
Белобородова обвиняли в том, что он всячески защищал и Зальцмана, и Носова, помогал им преследовать критиков и недовольных[255].
Если одним важным фактором фактического суверенитета директоров заводов являлась их способность нейтрализовать надзорные функции местных органов, прежде всего партийных, то другим было признание их реальных заслуг в развитии социальной инфраструктуры. Масштабы этой деятельности Носов охарактеризовал на пленуме так: «В распоряжении завода фактически находится город, трамвай, водоснабжение, электроснабжение, строительство города и все жилье… 60 % торговли в городе, большое сельское хозяйство»[256]. В конечном счете от доброй воли Носова или какого-либо другого директора зависело выделение ресурсов, в которых нуждались местные власти. На пленуме был приведен красноречивый пример такого рода. Носов игнорировал просьбы магнитогорских руководителей о помощи городским больницам. Однако в определенный момент он собрал у себя медиков и передал им под больницу пятиэтажное здание. Поступая так, говорилось на пленуме, Носов «глубоко принижал горсовет с горкомом партии и подчеркивал свое личное положение»[257]. Такая оценка была в значительной мере справедливой. Действия Носова в данном случае имели принципиальный характер. Директора крупных предприятий категорически отстаивали свое право исключительного взаимодействия с областными властями через голову городских или районных структур. И Зальцман, и Носов, как неоднократно подчеркивалось на пленуме, игнорировали территориальные партийные органы – Тракторозаводский райком и Магнитогорский горком, запугивая или подкупая их руководителей[258].
Зальцман, которого еще в июле 1949 года сняли с должности директора, на пленуме не присутствовал. Однако Носову пришлось каяться в ошибках[259]. Через полтора года после этого пленума Носов в возрасте 46 лет умер. Зальцман, несмотря на предъявленные обвинения, арестован не был. Он работал на рядовых должностях на небольших провинциальных предприятиях. После смерти Сталина в 1955 году был восстановлен в партии. Перебрался в Ленинград, где начинал делать карьеру, возглавил один из ленинградских заводов и умер в 1988 году в 83-летнем возрасте. Белобородова отправили в Калининскую область на должность начальника областного отдела коммунального хозяйства. Затем с 1952 года он занимал руководящие должности в Калининском областном управлении сельского хозяйства.
С учетом колоссального значения челябинских заводов влияние их директоров можно рассматривать как исключительное. Однако на самом деле модель взаимоотношений между хозяйственниками и региональными партийными руководителями, продемонстрированная в этом случае, имела универсальный характер. Секретари и директора зависели друг от друга, поскольку важнейшим критерием успешности их деятельности было выполнение индустриальных планов. Промышленные предприятия были источником социального обеспечения регионов, а нередко и дополнительных доходов местных руководителей. В ответ партийные органы могли прикрывать прегрешения директоров, игнорируя жалобы и блокируя проверки. В целом взаимодействие с директорским корпусом было одним из важных препятствий на пути непомерного роста влияния секретарей.
Партия и государство
Прочие функционеры регионального уровня лишь в некоторых случаях имели возможность стать такими же соперниками партийных секретарей, какими являлись директора заводов всесоюзного значения, – главным образом потому, что в их распоряжении не имелось сопоставимых ресурсов и поддержки со стороны центральных ведомств. С руководителями большинства региональных учреждений можно было справиться, используя стратегии, описанные во второй главе. Однако в документах встречаются свидетельства о формировании конкурирующих коалиций, в которых личные конфликты накладывались на уже имевшийся организационный раскол. В этом отношении вполне типичным было противостояние партийного секретаря и руководителя государственных структур.
В теории региональная административная система складывалась из взаимосвязанных партийного и государственного аппаратов, дополнявших и подкреплявших друг друга. Однако эта гармония порой омрачалась конфликтами, когда обе стороны использовали свои возможности для ведения бюрократических войн за сферы влияния. В первые послевоенные годы в ряде случаев наблюдался также особый контекстуальный фактор, обострявший подобные столкновения, – проводившаяся в годы войны политика этнической мобилизации, нацеленная на активизацию массовой поддержки фронта и тыла национальными меньшинствами, прежде всего посредством обращения к их культурным традициям и героическим страницам национального прошлого. В некоторых случаях документы позволяют говорить о том, что этот этнический фактор играл определенную роль в номенклатурной борьбе[260]. Примером могут служить столкновения в двух автономных республиках, входивших в состав РСФСР.
Трения между первым секретарем Чувашского обкома партии И. М. Чарыковым и председателем Совета народных комиссаров Чувашской АССР А. М. Матвеевым впервые обозначились, как следует из документов, в 1943 году. Матвеев начал избегать первого секретаря и не подпускал его к принятию решений, которые формально относились к юрисдикции Совета народных комиссаров, но по сути выходили за рамки его прерогатив и в обычных обстоятельствах считались бы находящимися в ведении первого секретаря. Одним из скандальных случаев стало увеличение норм снабжения для советского аппарата в большей степени, чем для партийных работников, предпринятое Матвеевым без ведома Чарыкова. Отношения между Матвеевым и Чарыковым ухудшались. С 1943‐го по начало 1944 года «не проходило ни одного заседания бюро обкома партии, на котором не было бы грубых споров между т. т. Матвеевым и Чарыковым»[261]. Вскоре известия об их вражде дошли до Москвы. Обоих вызвали в ЦК, где они дали обещание исправить свои «ненормальные взаимоотношения»[262], чего, однако, так и не произошло.
25 декабря 1944 года уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) в Чувашской АССР И. Логвин составил для Г. М. Маленкова подробный доклад о нарастании трений между Чарыковым и Матвеевым. В документе говорилось, что Матвеев не желал признавать авторитет Чарыкова и даже отказывался с ним встречаться. По мере эскалации в конфликт втягивались другие республиканские руководители, разделившиеся на группы поддержки первого секретаря или председателя Совнаркома. Судя по всему, группировка Матвеева одерживала верх. На его сторону встали многие работники. Обострились отношения Чарыкова со вторым секретарем обкома Т. А. Ахазовым. Как указывал Логвин, многие видели в Матвееве реального главу республики[263]. После сигнала Логвина, в марте 1945 года в республику была направлена комиссия ЦК ВКП(б). В целом Москва поддержала Чарыкова. По результатам работы комиссии было проведено закрытое заседание бюро обкома в присутствии заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) М. А. Шамберга. Матвееву на этом заседании было указано на неправильное поведение по отношению к Чарыкову. Однако и после этого Матвеев не сдавался. При каждом удобном случае он выступал против Чарыкова, отказывался выполнять некоторые решения бюро обкома[264]. В конфликте проступали этнические мотивы. Ахазов в присутствии Матвеева заявил Чарыкову, что тот в период проведения хлебозакупок 1943 года «обобрал чувашский народ»[265]. Матвеев в преддверии выборов в Верховный Совет СССР в 1946 году заказал местному чувашскому писателю очерк под названием «Антон Матвеевич Матвеев – верный сын родного народа», в котором Матвеев сравнивался с Лениным. Этот очерк был зачитан по местному радио[266].
В июне 1946 года Чарыков перешел в наступление. На заседании бюро обкома он обвинил Матвеева в невыполнении решений обкома и в игнорировании первого секретаря. В ответ Матвеев обвинил Чарыкова в мелочных придирках. Многие члены бюро поддержали Чарыкова. Однако второй секретарь обкома Ахазов занял нейтральную позицию, предложив обсудить вопрос отдельно. Этим заседание бюро и закончилось[267]. У Чарыкова явно не хватало административных возможностей и характера, чтобы подчинить Матвеева. Тем более что в этом вопросе не было единогласия в бюро обкома, которое фактически разделилось на две группы. Чарыкова поддерживали третий секретарь обкома и республиканский министр внутренних дел, а Матвеева – второй секретарь обкома Ахазов. «Остальные же члены бюро, – как сообщал в сентябре 1946 года инспектор Управления кадров ЦК ВКП(б), курировавший республику, – зная такое разделение, становятся в затруднительное положение при решении тех или иных вопросов, не знают, какую сторону поддерживать»[268]. Иными словами, в бюро сложилось двоевластие при наличии классического в таких случаях «болота». Взять верх не могла ни одна из сторон. О конфликте был широко осведомлен весь аппарат республики. В результате на районном уровне также усиливалось противостояние между партийным аппаратом, подчиненным Чарыкову, и советским аппаратом, подчиненным Матвееву. «Кое-где в районах председатели райисполкомов начинают следовать примеру т. Матвеева по отношению к райкомам ВКП(б)», – сообщал инспектор Управления кадров ЦК[269].
Ситуация зашла в тупик. В Москве вынуждены были определиться. В марте 1947 года было подготовлено решение о смещении Матвеева с поста председателя Совмина[270]. Полтора года спустя, в ноябре 1948 года, Чарыков был направлен на учебу в Москву, а на его место назначен один из активных участников конфликта – второй секретарь Ахазов. После завершения учебы Чарыков ненадолго попал в аппарат ЦК в качестве инспектора, а затем занимал различные второстепенные должности в Новгородской области. До уровня первого секретаря обкома он уже больше никогда не поднимался. Скорее всего, свою роль в этом сыграла репутация слабого руководителя, которую он приобрел в период конфликта в Чувашии. Ахазов продержался в должности первого секретаря до 1955 года, а затем после учебы в Москве в течение десяти лет до выхода на пенсию занимал почетный пост председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.
Существенной предпосылкой конфликтов внутри региональной партийно-государственной системы могла быть кадровая политика центральной власти, которая нередко назначала на руководящие должности чужаков с целью активизировать местные сети. Примером конфликта на этой почве могут служить события в Марийской АССР. Его истоки уходили в военный период, когда начались столкновения между первым секретарем и членами бюро Марийского обкома. Все участники конфликта были сняты с должностей и переведены в другие регионы[271]. Первым секретарем Марийского обкома весной 1945 году был назначен заведующий сектором организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) И. Т. Колоколкин.
Нельзя исключить, что Колоколкин воспринял это назначение без особого энтузиазма. Судя по воспоминаниям одного из руководящих работников Марийской АССР, Колоколкин с первых шагов демонстрировал пренебрежение к местным кадрам и просил Москву о присылке работников со стороны[272]. Не удивительно, что у Колоколкина возник конфликт с местной сетью, который нашел отражение в его столкновениях с председателем Совета Министров республики, местным работником Г. И. Кондратьевым. В январе 1948 года Кондратьев написал жалобу в Москву на имя секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецова, в которой говорилось:

