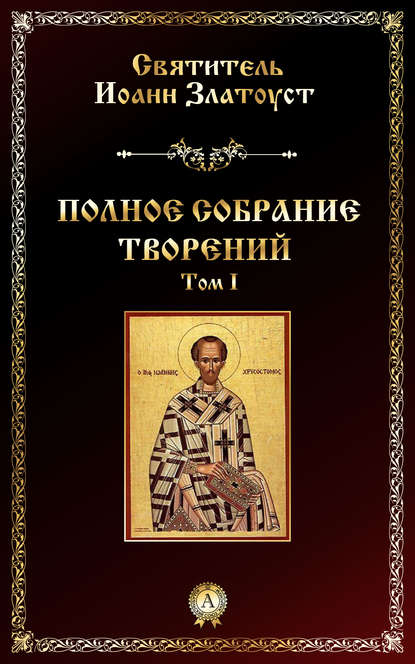По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание творений. Том I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
19. И так, объявляй грех свой не только как осуждающий самого себя, но и как долженствующий оправдаться посредством покаяния: тогда ты и будешь в состоянии побудить исповедующуюся душу не впадать более в те же грехи. Ибо сильно осуждать себя и называть грешником есть дело общее, так сказать, и неверным. Многие и из действующих на сцене, как мужчины, так и женщины, наиболее отличающиеся бесстыдством, называют себя окаянными, хотя не с надлежащею целию. Посему я и не назову это исповеданием, потому что они объявляют грехи свои не с душевным сокрушением, не с горьким плачем и не с переменою жизни; но одни из них делают это с тем, чтобы откровенностью своих слов получить славу у слушающих, так как грехи неодинаково кажутся тяжкими, когда другой кто открывает их, и когда – сам согрешивший. Иные, вследствие сильного отчаяния впадши в ожесточение и презирая славу человеческую, с крайним бесстыдством объявляют всем собственные пороки, как бы чужие. Но я желаю, чтобы ты не принадлежал к числу их, чтобы приступал к исповеданию не с отчаяния, но с благою надеждою и, с корнем вырвав отчаяние, оказал противоположную ему ревность. Что же служит корнем и матерью отчаяния? Беспечность; вернее можно назвать ее не только корнем, но и питательницею и матерью. Ибо, как в шерсти порча рождает червей, и обратно сама умножается от них, так и здесь беспечность рождает отчаяние, и сама обратно питается отчаянием, и таким образом, оказывая друг другу это проклятое содействие, они не мало возрастают в силе. Посему кто истребит и искоренит одно из этих зол, тот будет в состоянии победить легко и остальное; кто не предается беспечности, тот не впадает и в отчаяние; кто питается благими надеждами и не отчаивается в себе, тот не может впасть и в беспечность. Расторгни же эту чету и сокруши ярмо, то есть, различные и тяжкие помыслы; ибо соединяют их не одинаковые (помыслы), но разные и всякого вида. Какие же? Случается, что иной, покаявшись, совершит многие и великие добрые дела, и между тем опять впадет в грех, равносильный этим добрым делам; и этого бывает вполне достаточно, чтобы ввергнуть его в отчаяние, как будто созданное разрушено и все труды его были напрасны. Но надобно вникнуть в это и отогнать тот помысл, будто если мы не успеем наперед запасти добрых дел в мере, равной совершенным после них грехам, то ничто не удержит нас от сильного и полного падения. Напротив, добрые дела суть как бы крепкие латы, которые не попускают острой и губительной стреле сделать свое дело, но, быв сами рассечены ею, защищают тело от великой опасности. Посему отходящий туда со множеством и добрых и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании и тамошних муках; а кто, не имея добрых дел, принесет только злые, тот, и сказать нельзя, сколько пострадает, подвергшись вечному наказанию. Там будут сопоставлены злые дела с добрыми, и если последние перетянут на весах, то совершившему их не мало послужат ко спасению, и вред от совершения злых дел не будет иметь такой силы, чтобы сдвинуть его с прежнего места; но если первые перевесят, то увлекут его в геенский огонь; потому что добрые дела не так многочисленны, чтобы могли устоять против сильного перевеса злых. И это внушает нам не только наше рассуждение, но и Слово Божие. Ибо сам (Господь) говорит: «воздаст каждому по делам его» (Матф.16:27). И не только в геенне, но и в самом царстве находится множество различий: «в дому Отца Моего», говорит, «обителей много» (Иоан.14:2); и: «иная слава солнца, иная слава луны» (1Кор.15:41). И удивительно ли, что (апостол), сделав различие между этими (светилами), говорит, что и там будет такое же различие, как между одною звездою и другою? Зная все это, не перестанем совершать добрые дела, не откажемся от трудов, и если не будем в состоянии стать на ряду с солнцем или луною, то не будем пренебрегать местом со звездами. Если мы по крайней мере такую покажем добродетель, то и тогда можем быть на небе. Если не будем ни золотом, ни драгоценным камнем, то, по крайней мере, удержим качество серебра, и останемся на своем основании; только бы нам опять не дойти до качества того вещества, которое легко сожигает огонь, и чтобы, не будучи в состоянии совершить великих дел, нам не оказаться и без малых: это – крайнее безумие, чего да не будет с нами. Как вещественное богатство умножается тем, что любители его не пренебрегают и малейшими прибылями, так тоже и с духовным. Нелепо было бы в виду того, что Судия не оставляет без награды и чаши холодной воды, нам потому только, что не имеем весьма великих дел, не заботиться и о совершении малых. Напротив, кто не пренебрегает меньшими делами, тот покажет великую ревность и о величайших, а кто пренебрегает первыми, тот оставит и последние; дабы не было этого, Христос и за первые назначил великие награды. Что может быть легче, как посещать болящих? Однако, и за это Он воздаст великую награду. Итак, стремись к вечной жизни, радуйся о Господе и молись Ему; возьми опять благое иго, подклонись под легкое бремя, приложи к началу достойный его конец; не попусти погибнуть такому богатству. Если ты станешь и впредь раздражать Бога своими делами, то погубишь себя; но если прежде, нежели совершится эта большая потеря и все поле будет покрыто водою, ты заградишь каналы нечестия, то будешь в состоянии и опять приобрести потерянное и прибавить к тому другое немалое приращение. Обо всем этом размыслив, стряхни с себя пыль, встань с земли, и ты будешь страшен противнику. Он поверг тебя, думая, что ты уже не встанешь; а когда увидит тебя с поднятыми на него руками, то, пораженный неожиданностию, потеряет охоту опять бороться с тобою, а ты сам будешь впредь безопаснее от получения подобной раны. Поистине, если чужие несчастия способны вразумлять нас, то гораздо более те, которые мы потерпели сами. Это я надеюсь скоро увидеть и на твоей главе, – надеюсь, что ты, при помощи Божией, будешь и еще светлее, и такую покажешь добродетель, что станешь там впереди других. Только не отчаивайся, не падай духом; это я не перестану повторять тебе при всякой беседе, где бы тебя ни увидел, и чрез других; и если ты послушаешься этого, то не будешь нуждаться в других врачеваниях.
К ТОМУ ЖЕ ФЕОДОРУ УВЕЩАНИЕ 2-е
ЕСЛИ бы можно было изложить письменно слезы и стенания, то я наполнил бы ими письмо и послал бы к тебе. Плачу я не о том, что ты заботишься об отцовских делах, но о том, что ты изгладил себя из списка братий, что попрал завет со Христом. От этого я содрогаюсь, об этом сокрушаюсь, этого боюсь и трепещу, зная, что нарушение завета навлекает великое осуждение на записавшихся в доброе воинство и по собственной безпечности оставивших строй. Отсюда очевидно, что таким угрожает тяжкое наказание. Простолюдина никто никогда не станет обвинять за непринадлежность к войску, а кто раз стал воином, тот, если уличен будет в бегстве из строя, подвергается крайней опасности. Зло не в том, любезный Феодор, чтобы сражаясь пасть, а в том, чтобы упавши, так и оставаться; не то бедственно, чтобы воюя быть раненным, но то, чтобы после поражения отчаиваться и не заботиться о ране. Никакой купец, подвергшись однажды кораблекрушению и потеряв груз, не оставляет мореплавания, но опять переплывает море, и волны, и обширные бездны, и вновь приобретает прежнее богатство. И борцов мы видим увенчиваемыми после многократных падений; также и воин, много раз обращавшийся в бегство, наконец является героем и побеждает врагов. Даже многие из отрекшихся от Христа по причине жестокости мучений опять вступали в борьбу и отходили украшенными венцом мученичества. Но если бы каждый из них после первого удара предался отчаянию, то не получил бы последующих благ. Так теперь и ты, любезный Феодор, потому, что враг немного поколебал тебя в твоем положении, не толкай сам себя в пропасть, но стой добро и поспеши возвратиться туда, откуда отошел, и не считай позором этого кратковременного поражения. Ты не стал бы порицать воина, увидев его с раною возвращающимся с войны; ибо позорно бросать оружие и уклоняться от неприятелей; но доколе кто остается в сражении, то, хотя бы он был поражаем и несколько отступал, никто не будет столь неблагоразумен и неопытен в воинском деле, чтобы обвинять его за это. Не быть ранеными свойственно не сражающимся; но тем, которые с сильным рвением устремляются на врагов, свойственно быть иногда поражаемыми и падать, как это случилось теперь и с тобою; ты, устремившись умертвить змия, тотчас был сам уязвлен им. Но ободрись; небольшая нужна тебе бдительность, – и не останется следа этой раны; даже, по благодати Божией, ты сокрушишь голову и самого лукавого; пусть не смущает тебя и то, что ты преткнулся так скоро и в самом начале. Увидел, скоро увидел лукавый доблесть души твоей, и из многого догадался, что вырастет из тебя мужественный противник ему: обнаруживший в самом начале столь великую и сильную ревность против него, такой человек, если устоит, то легко – полагал он – одержит над ним победу. Поэтому он поспешил, пробудился, восстал с силою на тебя, или лучше, на свою голову, если ты захочешь стоять мужественно. Ибо кто не удивлялся твоей быстрой искренней и пылкой к добру перемене? Роскошные яства были презрены, драгоценные одежды отринуты, всякая пышность попрана, вся ревность о внешней мудрости быстро обращена на Слово Божие; целые дни проводимы были в чтении, целые ночи – в молитвах; не вспоминалось отцовское достоинство, не приходило на ум богатство; но касаться колен и припадать к ногам братий – это ты считал выше всякого благородства. Вот что опечалило лукавого, вот что возбудило его к сильной борьбе; впрочем, он нанес не смертельную рану. Если бы он низверг тебя после долговременных непрерывных постов, земных поклонов и других подвигов, то и тогда не надлежало бы отчаиваться, хотя иной и назвал бы великим бедствием поражение, совершившееся после многих усилий и трудов и побед; но так как он поборол тебя, когда ты только лишь приготовился к борьбе с ним, то и успел в том только, что сделал тебя более ревностным к борьбе с ним. На тебя лишь только начавшего плавание, а не возвращавшегося с торговли и везшего полный груз, напал свирепый пират. И подобно тому, как устремившийся убить благородного льва, только оцарапав ему кожу, нисколько не вредит ему, а более раздражает его против себя, и делает впредь более осторожным и трудно уловимым, так и общий всех враг, устремившись нанести глубокую рану, не достиг этого, а сделал (тебя) впредь более бдительным и осторожным.
2. Природа человека переменчива: легко обольщается, и легко освобождается от обольщения, скоро падает, и еще скорее восстает. Так и тот блаженный муж, – разумею Давида, избранного царя и пророка, – уже сделав много доброго, не укрыл того, что он человек, но воспылал некогда похотию к чужой жене, и на этом не остановился, но от похоти совершил прелюбодеяние, а от прелюбодеяния совершил убийство; однако, и получив две такие раны, он не причинил себе еще и третью, но тотчас притек ко Врачу, и употребил врачевства – пост, слезы, плач, непрестанные молитвы, многократное исповедание греха; и чрез это так умилостивил Бога, что возвратил себе прежнее достоинство, так что после прелюбодеяния и убийства память отца могла прикрывать идолопоклонство сына. Ибо его сын, – Соломон имя ему, – был уловлен тою же сетью, как и отец, и в угождение женам отступил от Бога отцов. Видишь, какое зло – не воздерживаться от сладострастия, но извращать естественное преимущество и, будучи мужем, делаться рабом женщин. Этому самому Соломону прежде праведному и мудрому, когда он был в опасности потерять за грех все царство, Бог, за добродетели отца, оставил во владение шестую часть государства. Так, если бы ты усердно занимался внешним красноречием и потом стал нерадеть о нем, то я убедил бы тебя возвратиться к этим занятиям, напомнив тебе о судилищах и ораторском седалище, о раздаваемых там венцах и свободе речи, но так как мы стремимся к небесному, а о земном у нас и речи нет, то я напомню тебе о другом судилище и седалище страшном и ужасном. «Всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2Кор.5:10). Судиею же сядет тогда Тот, Кто теперь пренебрегается тобою. Что же скажем мы тогда, скажи мне? Чем будем оправдываться, если станем продолжать пренебрегать Им? Что же мы скажем? Укажем ли на заботы о делах? Но Он наперед сказал: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф.16:26). На то ли, что мы обольщены другими? Но и Адаму не послужило в оправдание то, что он сослался на жену и сказал: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и» меня обольстила (Быт.3:12); равно как и жене – змий. Страшно, любезный Феодор, это судилище, не нуждающееся в обличителях, не ожидающее свидетелей; ибо «все обнажено и открыто» пред этим Судиею (Евр.4:13); и придется дать отчет не только в делах, но и в помышлениях, ибо этот Судия «судит помышления и намерения сердечные» (Евр.4:12). Но, может быть ты укажешь на немощь природы и невозможность понести иго. Но что это за оправдание – не иметь силы взять на себя иго благое, не быть в состоянии понести бремя легкое? Разве тяжкое и трудное дело отдыхать от трудов? А к этому всему и призывает нас Господь, когда говорит: «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Матф.11:28–30). Что легче, скажи мне, как быть свободным от ежедневных забот и дел, страхов и трудов, стоять вдали от волн житейских и пребывать в тихой пристани?
3. Что в мире представляется тебе всего блаженнее и вожделеннее? Конечно, скажешь ты, власть, богатство, слава у людей. Но что жалче этого, если сравнить с свободою христиан? Властитель находится в зависимости от ярости народной и безсмысленных прихотей толпы, также страха со стороны сильнейших властителей, и забот о подчиненных. Притом, вчера он властитель, а сегодня простолюдин, так как настоящая жизнь нисколько не отличается от сцены. Как здесь один исполняет роль царя, другой – полководца, иной – воина, а по наступлении вечера – и царь не царь, и властитель не властитель, и полководец не полководец, так и в тот день, не по лицу, а по делам каждый получит достойное воздаяние. Но разве драгоценна слава, которая пропадает, как цвет травный? Также и богатство, которого владельцы называются жалкими. Ибо «горе», говорит (Господь), «вам, богатые» (Лук.6:24); и еще: горе «надеющимся на силы свои и хвалящимся множеством богатства своего» (Пс.48:7). Христианин никогда не делается – ни из начальника простолюдином, ни из богатого бедным, ни из славного бесславным: напротив он богат, когда беден, и высок, когда старается быть смиренным; и власти, которую имеет он – не над людьми, но над князьями подвластными «мироправителю тьмы» (Еф.6:12), никто отнять у него не может. Законное дело – брак, согласен на это и я; ибо сказано: «брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). Но тебе уже невозможно соблюсти законность брака: потому что кто, сочетавшись с небесным Женихом, оставляет Его и сочетавается с женою, тот совершает прелюбодеяние, хотя бы тысячу раз ты называл это браком; а вернее сказать, это хуже и прелюбодеяния настолько, насколько Бог превосходнее людей. Никто пусть не обольщает тебя словами: жениться не запретил Бог. Знаю это и я: жениться не запретил, но запретил прелюбодействовать, что намеревался ты сделать, чего да не будет, чтобы, т. е. ты вступил когда-нибудь в брак. Что ты удивляешься, если брак осуждается, как прелюбодеяние, когда чрез него отвергается Бог? Убийство бывает оправдываемо и человеколюбие осуждаемо хуже убийства, когда первое совершалось по воле Божией, а второе вопреки ее. Именно, Финеесу вменилось в правду то, что он пронзил жену блудницу вместе с блудником; а Саула святый Божий Самуил несмотря на то, что целые ночи плакал, сетовал и молился, не мог избавить от осуждения, которое Бог произнес на него за то, что он против воли Божией пощадил иноплеменного царя, которого надлежало умертвить. Если же человеколюбие осуждено более убийства за преслушание Бога, то что удивительного, если брак осуждается более прелюбодеяния за отвержение Христа? Посему, как я сказал выше, если бы ты был простолюдином, никто не обвинял бы тебя за непринадлежность к войску, а теперь ты уже не господин сам себе, сделавшись воином такого Царя. Если жена невластна в своем теле, но – муж, тем более живущие во Христе не могут быть властны в теле своем. Тот, Кто пренебрежен ныне, Сам будет и судить тогда; о Нем помышляй постоянно, равно и о реке огненной. «Огненная река», говорит (пророк), «выходила и проходила пред Ним» (Дан.7:10); а кто Им предан огню, тому не дождаться конца казни. Непристойные удовольствия этой жизни нисколько не отличаются от теней и сновидений; ибо прежде, чем окончится греховное дело, удовольствие исчезает, а наказания за него не имеют конца. Сладость кратковременна, а горесть вечна. Что, скажи мне, постоянно в здешнем мире? Богатство ли, которое часто не остается и до вечера? Слава ли? Но послушай, что говорит один праведник: «дни мои быстрее гонца» (Иов.9:25). Как скороходы, не успев стать, уже уходят далее, так и слава не успеет придти, как уже улетает. Нет ничего драгоценнее души: это не безызвестно и тем, которые дошли до крайнего безумия. «Душе ничто не равноценно», сказал поэтически некто из внешних. Знаю, что ты стал гораздо слабее для борьбы с лукавым; знаю, что ты стоишь среди пламени удовольствий; но если скажешь врагу: удовольствиям твоим не служим и корню всех зол твоих не кланяемся, если возведешь очи горе, то Спаситель и ныне поборет пламень и ввергнувших тебя в огонь сожжет, а тебе среди печи пошлет облако и росу и «шумящий влажный ветер» (Дан.3:50), так что огонь не коснется ни помыслов твоих, ни совести; только ты сам не сожигай себя. Так, часто случалось, что укрепленных городов не могли разрушить оружия и машины внешних неприятелей, а измена одного или двоих из живущих в них граждан без труда предавала их врагам. И теперь, если никакой из внутренних помыслов не предаст тебя, то хотя бы лукавый придвинул извне тысячу машин, придвинет напрасно.
4. У тебя по благодати Божией, имеется много великих мужей, которые соболезнуют тебе, возбуждают тебя, трепещут за твою душу: это – святой Божий Валерий, по всему брат его Флорентий, мудрый Христовой мудростию Порфирий и многие другие. Они ежедневно сетуют и непрестанно молятся, и давно получили бы то, о чем молятся, если бы ты захотел хотя немного освободиться из рук врага. Как же не странно, что другие доселе не отчаялись в твоем спасении, но непрестанно молятся о возвращении своего члена; а ты, однажды упав, не хочешь встать, но лежишь, только что не взывая ко врагу: рази, бей, не щади? «Разве, упав, не встают?» говорит пророчество Божие (Иер.8:4). А ты противишься этому и прекословишь; ибо падшему отчаяться значит не иное что говорит, как «упавший не встанет». Нет, прошу тебя, не делай себе столько зла, не повергай нас в такую скорбь. Не говорю о твоем настоящем, когда тебе нет еще и двадцати лет; но если бы ты много сделал, даже всю жизнь прожил во Христе и в крайней старости потерпел такое несчастие, то и тогда было бы не хорошо отчаиваться, но надлежало бы иметь в уме разбойника, оправданного на кресте, а также начавших трудиться в одиннадцатом часу и получивших плату за целый день. Но как не хорошо падшим в конце жизни отчаиваться, если они будут благоразумны, так не безопасно и питать себя надеждою и говорить: «теперь пока буду наслаждаться удовольствиями жизни, а после, потрудившись недолго, получу награду за все время». Я помню, что ты сам, когда многие советовали тебе ходить в музеи, часто говаривал: «а что, если я в скором времени худо окончу жизнь? – как приду к сказавшему: «не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день» (Сир.5:8)?» Вспомни эту мысль, и побойся вора: так Христос называет наш исход отсюда, потому что он постигает без нашего ведома. Представь себе житейские заботы – частные и общественные, страхи пред начальниками, зависть граждан, многократно угрожающую крайнюю опасность, труды, бедствия, раболепные ласкательства, неприличные даже честным невольникам, плод трудов, погибающий еще здесь, – что может быть бедственнее этого? А многим не удалось и вкусить плода трудов своих; но, проведши первый возраст в трудах и опасностях, они в то время, когда уже надеялись получить награду, отошли, ничего не имея при себе. Если даже и на земного царя едва ли кто, и по перенесении многих опасностей и по окончании многих войн, будет взирать с дерзновением, то как может небесного Царя увидеть тот, кто все время жил и воинствовал для другого?
5. Хочешь ли я изображу и домашние заботы: о жене, о детях, о слугах? Худо взять бедную жену, худо и богатую: первое вредит имуществу, а последнее – власти и свободе мужа. Прискорбно иметь детей, а еще прискорбнее – не иметь: если последнее, то напрасно было жениться; а если первое, то подвергнешься горькой неволе. Заболело дитя – страх не малый; умерло преждевременно – плач неутешный; и во всяком возрасте о них различныя заботы, и страхи и многие труды. Нужно ли говорить о неисправности слуг? Что же это за жизнь, Феодор, настолько делиться одной душе, столь многим служить, для столь многих жить, а для себя – никогда? У нас же нет ничего такого, любезный, и в этом призываю в свидетели тебя самого. Уже в то краткое время, в которое ты захотел выплыть из волн (житейского моря), знаешь, какою ты наслаждался радостию и веселием. Никто не свободен, кроме того, кто живет для Христа: он стоит выше всех бедствий, и если он сам не захочет сделать себе зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это. Он неприступен, не терзается от потери имения; потому что знает, что «мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести» (1Тим.6:7); не уловляется честолюбием или славолюбием, так как знает, что «наше же жительство – на небесах» (Фил.3:20); порицающий его не причиняет ему скорби, и биющий не приводит в раздражение. Одно у христианина несчастие – оскорбить Бога, а прочее, как-то: потерю имущества, лишение отечества, самую крайнюю опасность, он и не считает за бедствие; даже то самое, чего все страшатся, – переход отсюда туда, – для него приятнее жизни. Как если бы кто, взойдя на высокую скалу, смотрел на море и на плывущих по нему, из которых одни обливаются волнам, другие ударяются о подводные камни, иные, стремясь в одну сторону, напором ветра, как узники, увлекаются в другую, многие уже погрузились в воду и, вместо корабля и руля, владеют только своими руками, многие несутся на одной доске или на каком-нибудь обломке корабля, а иные плывут уже мертвые, представляя многообразное многоразличное бедствие; так и воинствующий для Христа, удалившись от бури и волн житейских, восседает на безопасном и высоком месте. Что может быть безопаснее и выше, как иметь одну лишь заботу – о том, «как угождать Богу» (1Фесс.4:1)? Видишь ли, Феодор, кораблекрушения плавающих по этому морю? Посему, умоляю, убегай от бездны, убегай от волн, и займи высокое место, откуда невозможно быть увлечену; будет воскресение, будет суд, страшное судилище ожидает нас по отшествии отсюда: «всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2Кор.5:10). Не напрасно угрожают геенною, не тщетно уготовано столько благ. Тень и даже ничтожнее тени – житейския дела, сопряженные со многими страхами, со многими опасностями, с крайним рабством. Не губи же и того и этого века, когда возможно, если захочешь, с пользою проводить тот и другой. А что живущие во Христе получают пользу и от этого века, это утверждает Павел, когда говорит: «мне вас жаль» и еще, «говорю это для вашей же пользы» (1Кор.7:28, 35). Видишь ли, что «заботящийся о Господнем» и здесь выше женившегося? Для отошедшего туда невозможно покаяться; никакой ратоборец по выходе из ристалища и по закрытии зрелища не может продолжать борьбу. Об этом непрестанно помышляй, и сокруши острый меч лукавого, которым он умерщвляет многих. А этот меч есть отчаяние, которое у пораженных отсекает надежду. Крепко это оружие врага, и плененных он удерживает не иначе, как связав этими узами, которые мы, если захотим, скоро можем разорвать благодатию Божиею. Знаю, что я преступил меру письма; но прости: я сделал это не произвольно, а вынужденный любовию и скорбию, по которой я и принудил себя написать это письмо, тогда как многие удерживали. «Перестань трудиться напрасно и сеять на камне», говорили мне многие. Но я никого не послушал. Есть надежда, говорил я сам себе, что письмо, если Богу угодно, произведет какое-либо действие; если же случится противное нашему желанию, мы, по крайней мере, получим себе ту пользу, что нельзя будет винить нас в молчании, и что мы не будем хуже мореплавателей, которые, когда увидят, что люди одного с ними занятия, по разбитии корабля ветрами и волнами, несутся на доске, спустив паруса, бросив якори и войдя в малую ладью, стараются спасти людей им незнакомых и только по этому несчастию делающихся знакомыми. Но если бы эти последние не захотели (спастись), то никто не стал бы винить в их погибели тех, которые старались спасти их. Это с нашей стороны; но мы веруем, что должное и от тебя последует по благодати Божией, и мы опять увидим тебя доблестным в пастве Христовой. О, если бы нам, молитвами святынь, скорее принять тебя, любезная глава, здравствующим истинным здравием! Если у тебя есть какое-нибудь внимание к нам и если ты не совсем изгнал нас из своей памяти, удостой отписать к нам; этим ты весьма обрадуешь нас.
К ВРАЖДУЮЩИМ ПРОТИВ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЮТ К МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ
Три слова под этим общим заглавием, из которых второе имеет еще надпись: к неверующему отцу, т. е. языческому, а третье: к верующему отцу, т. е. христианскому, написаны св. Иоанном Златоустым в 375 или 376 году, когда он сам жил между отшельниками и когда монашествующие подвергались жестокому преследованию, а доброжелатели их – разным укоризнам при арианствующем императоре Валенте.
СЛОВО ПЕРВОЕ
КОГДА потомки евреев, возвратившись из долговременного плена, хотели восстановить иерусалимский храм, многие годы лежавший в развалинах (2 Ездр. 4), тогда некоторые грубые и жестокие люди, не убоявшись и Бога, которому те восстановляли храм, не тронувшись и бедствием этих людей, от которого они недавно и с трудом избавились, не устрашившись и определенного от Бога наказание решающимся на такие дела, сперва сами старались препятствовать им строить храм; но так как ничего не достигли, то, послав к царю своему письмо, в котором город тот (Иерусалим) называли мятежным, заводящим новшества и браннолюбивым, просили себе позволение остановить постройку. Получив от него это позволение, и напав на Иудеев с многочисленною конницею, они прервали на время дело, весьма гордились этою победою, о которой надлежало плакать, и думали, что злой умысел удался им (1 Ездр. 4). Но это было только предвестие и начало тех бедствий, которые имели тотчас же постигнуть их самих: потому что самое дело преуспевало и получило блистательный конец, а они, и чрез них все, узнали, что, как тогда Митридат, так и всякий другой, кто бы ни решился вести борьбу против людей, предпринимающих доброе дело, борется не против людей, но, прежде их, против самого Бога, ими чтимого. А ведущему борьбу против Бога никогда невозможно кончить добром: в начале он, может быть, и не потерпит за свою дерзость никакого зла, если только не потерпит, потому что Бог зовет его к покаянию и дает ему придти в себя как бы из некоего опьянения; но, если он будет упорствовать в своем безумии и сам нисколько не воспользуется таким снисхождением, то, по крайней мере, другим доставит величайшую пользу, вразумляя их постигшим его наказанием никогда не вступать в борьбу с Богом, так как невозможно избежать Его неодолимой руки. Так и этих людей тотчас постигли такие бедствия, которые великостию горя затмили все другие бедствия; потому что после бесчисленных убийств и избиений, совершенных над ними руками иудеев, которым они тогда препятствовали (строить храм), от крови убитых земля промокла на значительную глубину и большая грязь образовалась от этой крови; а из конских и человеческих тел, перемешавшихся вместе, и из их соприкасающихся ран родилось такое множество червей, что и земля закрыта была множеством трупов, и самые опять трупы – множеством червей. Увидев это поле, всякий сказал бы, что внизу не трупы лежат, но течет много источников, со многих сторон приносящих этого рода животных: так от этой гнили сильнее всякого наводнение разливался поток червей! И это продолжалось не десять и не двадцать дней, но много времени. Таковы здешние бедствия; а те, которые постигнут их там, – еще много тяжелее этих. Тогда вновь ожившие тела их будут терпеть невыразимые муки и страдания, не тысячу и не десять тысяч лет, даже и не вдвое и не втрое против этого, но в бесконечные веки. О тех и других (наказаниях) знает блаженный Исаия, знает и созерцатель дивных видений Иезекииль, которые, разделив между собою, описали наказание таких людей, – один здешние, а другой тамошние.
2. Об этом вспомнил я теперь не без причины, а потому, что некто, пришедши к нам, сообщил весть горькую и тягостную и даже весьма оскорбительную для Бога. Есть (сказал он) и теперь люди, осмеливающиеся делать то же, что и те варвары, или даже еще более беззаконное; потому что изгоняют отовсюду притекающих к нашему любомудрию и с великими угрозами запрещают и говорить что-либо о нем и учить ему кого бы ни было из людей. Услышав это, я тотчас вскрикнул, и многократно спрашивал рассказывавшего, не в шутку ли он говорит это. А он сказал: нет, я никогда не стал бы так шутить; не только не сказал бы и не выдумал этого, а напротив, много бы дал и часто молил бы, чтобы мне даже не слышать об этом деле и теперь, когда оно совершилось. Тогда, еще горше заплакав, я сказал: точно, это дело настолько нечестивее дерзостей Митридата и всех тех (иноплеменников), насколько этот храм (духовный) много досточтимее и святее того (иерусалимского). Но кто, скажи мне, и откуда те, которые отважились на такое дело? Для чего, по какой причине и с какою целию они бросают камни вверх, мечут стрелы на небо, и ведут войну с Богом мира? Самей и фарафеи, ассирийские князья и все прочие (1 Ездры 4:9) были варвары, как это можно видеть и из самих имен их; по образу жизни далеки были от иудеев и не хотели видеть сопредельные им народы усиливающимися, полагая, что могущество этих (народов) затмит, наконец, их собственную силу. А эти из-за чего отважились на такое дело? Свобода ли их стесняется? Безопасность ли их нарушается? Содействует ли им кто из властителей? Тем соизволяли в их предприятии персидские цари; но наши (цари), я уверен, желают и требуют противного тому. Поэтому я и весьма изумляюсь, что при благочестивых царях, среди городов, как ты говоришь, отваживаются на такое дело. А что, сказал он, если ты узнаешь большую еще странность, что делающие это представляются благочестивыми и называют себя христианами, а многие из них уже и в числе посвященных (в таинства)? Даже кто то из них, по сильному внушению диавола, осмелился нечистым языком своим сказать, что он готов отступить и от веры и приносить жертву демонам, потому что душит его (негодование) при виде того, что люди свободные, благородные и могущие жить в удовольствиях, привлекаются к такой суровой жизни. Услышав это, я был еще сильнее поражен, и соображая, сколько зла произойдет отсюда, оплакивал всю вселенную и взывал к Богу: «возьми душу мою и выведи меня из бед моих» (3Цар.19:4; Пс.24:17); освободи от этой привременной жизни и пересели в ту страну, где ничего такого и другой не скажет мне, и я не услышу. Знаю, что, по отшествии отсюда, обнимет меня кромешная тьма, где сильный плач и скрежет зубов; но мне приятнее слушать скрежет зубов, чем произносящих такие речи». Увидев, что я так сильно печалюсь, он сказал: «теперь не время этому; этими словами ты никогда не сможешь обратить погибших и погибающих; и зло, думаю, не остановится, а надобно позаботиться о том, как бы нам погасить этот костер и остановить заразу; это вот наша обязанность; и если ты хочешь послушаться меня, то, прекратив плач, составь увещательное слово к этим недужным и беспокойным, во спасение как им, так и всем вообще людям; а я, взяв эту книжку, положу ее, вместо всякого лекарства, в руки больных: так как между этими больными есть много друзей моих, то они позволят мне придти к ним и раз, и два, и многократно, и, я уверен, скоро освободятся от заразы». – «Ты, сказал я, мерою своей любви измеряешь и нашу силу; но у меня нет силы слова; если же и кажется, что есть, то употребить ее на такой предмет я стыжусь не кого-либо другого, но всех язычников, как настоящих, так и последующих. Их всегда я осуждал сколько за учение, столько же и за беспечную жизнь; а теперь вынуждаюсь ознакомить с нашими пороками. Если некоторые из них узнают, что среди христиан есть люди, столь враждебные добродетели и любомудрию, что не только сами уклоняются от таких подвигов, но не выносят и речей в защиту их, даже и на этом не останавливаются в своем безумии, но если и другой кто станет советовать и говорить об этом, то и его отовсюду изгоняют; если услышат это (язычники), то боюсь, что они признают нас не людьми, но зверями и чудовищами человекообразными и какими-то демонами, губителями и врагами всей природы; и такое суждение произнесут не только о виновных, но и обо всем нашем народе». На это он, рассмеявшись, сказал: «ты шутишь, говоря так; а я скажу тебе еще прямее, если ты боишься, чтобы из твоих слов не узнали того, что все давно знают из дел; теперь как будто бы злой какой дух вселился в души всех, только и речей у всех на языке, что об этом: войдешь ли на площадь, или в лечебницы, или в какую бы то ни было часть города, где обыкновенно собираются люди, ничего не хотящие делать, – везде удивишь, какой смех все поднимают; а предметом этого смеха и забавы служат рассказы о том, что сделано со святыми мужами. Как иные воины, побывав во многих сражениях и одержав победы, весело рассказывают о своих подвигах, так и эти люди хвастают своими буйствами. Ты услышишь, как один говорить: «я первый наложил руки на такого-то монаха, и нанес ему удары;» другой: «я сам прежде других отыскал его келью»; «а я, говорит иной, сильнее других раздражил против него судью»; иной хвастает темницей и ужасами темницы, и тем, что он влачил тех святых по площади; иной другим чем-либо. Потом все начинают смеяться над этим. И это (делается) в собраниях христиан, а язычники смеются и над ними, и над теми, над кем они издеваются; над первыми – за их дела, а над последними – за их страдания; и везде какая-то междоусобная война, а вернее – нечто гораздо худшее этой войны. Ведшие такую войну, когда после вспомнят о ней, то проклинают всячески зачинщиков ея, и все, что случилось на ней, приписывают злому демону, и те из них, которые больше других сделали на той войне, больше других и стыдятся; напротив, эти люди еще хвалятся своими буйствами. И не только потому эта война нечестивее той (междоусобной), что ведется против святых и ни в чем невиновных людей, но и потому, что (ведется) против таких людей, которые даже не умеют никому делать зла, а готовы только терпеть''.
3. «Остановись, сказал я, остановись; довольно для нас и этих рассказов, чтобы мне не совсем лишиться дыхания; дай мне уйти хотя с небольшою силою. Приказание твое непременно будет исполнено; только не прибавляй нам никакого другого рассказа, но уйди и молись, чтобы рассеялось облако моего уныние и получил я от Бога, против Которого ведется эта война, некоторую помощь к уврачеванию восстающих на Него; а Он, конечно, подаст, как человеколюбивый и не хотящий «смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез.33:11; Иез.18:32). Таким образом отослав его, я приступил к этому слову. Конечно, если бы зло состояло только в том, что святые Божии и дивные мужи бывают схватываемы и терзаемы, влекомы на судилища и подвергаемы побоям и другим страданиям, о которых я сейчас рассказал, а на главу виновников такого буйства не обращалось никакого вреда; то я не только не стал бы скорбеть о случившемся, но еще весьма много и с удовольствием посмеялся бы этому. Так малые дети, когда безвредно бьют матерей, возбуждают большой смех в тех, кого они бьют, и чем с большею раздражительностию делают это, тем более доставляют матерям удовольствия, так что они заливаются и надрываются от смеха, когда же дитя, делая это часто и порывисто, поранит себя или булавкою воткнутою в матерней одежде около пояса, или иголкою на груди матери, задевшею за руку дитяти: тогда уже мать, перестав смеяться, предается скорби больше самого пораненного и то лечит рану, то с сильною угрозою запрещает ему делать это впредь, чтобы опять не потерпеть того же самого. Так же и мы поступили бы, если бы видели в том деле детскую раздражительность и удар младенческий, не причиняющий им большого вреда. Но так как эти люди, хотя теперь, в пылу гнева, не предчувствуют, но спустя немного будут плакать, стонать и рыдать, не таким рыданием, как малые дети, но тем, что во тьме кромешной, что в огне неугасимом; то и мы с своей стороны сделаем то же, что – матери, с тем только различием от них, что не с угрозою и бранью, как они, но с ласковостию и полною кротостию скажем этим детям: «от этого святым мужам нет никакого вреда, напротив еще высшая награда и большее дерзновение; если мы станем говорить о будущих благах, вы, может быть, еще будете много смеяться, так как привыкли всегда над этим смеяться; а настоящему, хотя бы вы в тысячу раз более любили смеяться, вы непременно поверите, потому что не можете не верить, если бы и хотели, когда самые дела говорят против вас. Вы, конечно, слыхали о Нероне (этот человек был знаменит развратом; он первый и один при такой своей власти изобрел какие-то новые виды бесчинства и распутства). Этот Нерон, обвиняя блаженного Павла (который был ему современником) за то же самое, за что и вы – этих святых мужей (Павел, убедив самую любимую наложницу его принять учение веры, вместе с тем убедил ее прервать и нечистую с ним связь), обвиняя его за это, и называя и губителем, и обманщиком, и другими такими же именами, какие вы даете (отшельникам), сперва заключил его в узы, а как не мог заставить его, чтобы он перестал давать советы девице, то предал наконец смерти. Какой же отсюда произошел вред страдальцу? И какая польза злодею? Напротив, какой не было пользы умерщвленному тогда Павлу, и какого не было вреда убийце Нерону? Первый не воспевается ли во всей вселенной, как ангел (говорю пока о настоящем), а последний не проклят ли всеми, как губитель и свирепый демон?»
4. «А о том, что там, если вы и не поверите, необходимо сказать для верующих, хотя и вам надлежало бы на основании здешнего верить и тамошнему. Впрочем, как бы вы ни отнеслись к этому, мы скажем и не скроем». Каково же будет тамошнее? Тот несчастный и жалкий (Нерон), объятый горестью и скорбию, покрытый стыдом и мраком, с поникшим взором, отведен будет туда, где червь неумирающий и огонь неугасающий, а блаженный Павел с великим дерзновением, станет пред самым престолом Царя, светло блистая и облекшись такою славою, что ни в чем не уступит ангелам и архангелам, и получит такую награду, какая следует человеку, предавшему тело и душу свою за веление Божии. Так, великое воздаяние уготовано делающим добро, но оно бывает больше и обильнее, когда делающие это добро подвергаются еще опасностям и великому бесчестию; пусть доброе дело будет одинаково, как у того, кто сделал его без труда, так и у того, кто совершил его с трудами; но почесть и венцы будут не одинаковы. Так и на войне (всякий) одержавший победу, конечно, награждается, но много более – тот, кто может еще показать у себя и раны, которыми он приобрел победу. Но что говорю я о живых, когда даже те, которые только тем и заявили себя, что храбро умерли на войне, а ничего более не сделали полезного соотечественникам, прославляются во всей Греции, как спасители и защитники! Неужели вы и этого не знаете, предаваясь постоянно смеху и забаве? Если же люди языческие и не имеющие ни о чем совершенно здравых понятий смогли понять это и великою честию почтили тех, которые только умерли за них, а больше не сделали ничего; то не гораздо ли более сделает это Христос, который страждущим за Него всегда дарует воздаяние с великим преизбытком? Подлинно великую награду Он назначил за перенесение не только гонений, ран, уз, убийства и смерти, но и одного лишь оскорбление и поносительных слов. «Блаженны вы», говорит Он, «когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах» (Лук.6:22,23). Итак, если перенесение страданий и злословий доставляет награду страждущим и злословимым; то препятствующий им страдать и слушать злословие доставляет пользу не им, а тем, которые говорят и делают зло. Им, напротив, причиняет он вред, лишая их высшей награды и отнимая у них основание большей радости и ликования, так что для них надлежало бы (нам) молчать и дать совершиться тому, что приготовляет им великое обилие благ и наибольшее дерзновение. Но так как мы члены друг друга, то, хотя бы сами они и отвергали дар, нам при таком взаимном отношении не должно, заботясь об одной части, оставлять без внимание другую. У тех (отшельников), если они теперь и не пострадают, будет иной случай заслужить добрую славу, а эти, если не прекратят вражды против них, не смогут уже спастись. Посему, оставив тех, останавливаюсь на вас, и прошу и умоляю последовать нашим увещаниям, не направлять более меча на самих себя, не идти против рожна, и не огорчать, думая оскорблять людей, Святого Духа Божия. Я знаю и уверен, что вы, если не теперь, то впоследствии одобрите этот наш совет; но желаю, чтобы вы сделали это теперь же, дабы после не делать этого напрасно. Так и тот богач (Лук. 16:19 и сл.), пока был здесь, считал пророков и закон и их наставление баснею и пустословием, а после того, как отошел туда, стал так уважать их увещания, что сознавая, что сам уже не в состоянии получить никакой пользы от этого уважения, просил патриарха послать кого-нибудь из ада с вестию к живущим на земле, боясь, чтобы и они не испытали некогда того же самого, и, посмеявшись над божественным Писанием, не стали уважать его тогда, когда уже не будет им никакой пользы от этого уважения. Между тем этот богач не сделал ничего такого, что вы делаете. Правда, он не уделял из своего имение Лазарю; однако, другим, которые хотели подавать, не препятствовал и не удерживал их, как вы теперь. И не этим одним вы превзошли его в жестокости, но еще и другим; потому что, как не все равно – самому ли не делать никакого добра, или и другим, желающим, препятствовать делать его, так не все равно – самому ли терпеть недостаток в телесной пище, или и одержимому сильным голодом любомудрие препятствовать питаться от других. Таким образом, вы вдвойне превзошли того жестокого богача, – тем, что препятствуете другим утолять голод, и тем, что оказываете такое бесчеловечие в то время, когда гибнет душа. Так поступали некогда и иудеи. Они запрещали апостолам говорить людям о том, что необходимо для спасение (Деян. 4:18; 5:40). А вы хуже и их: они все то делали, как открытые враги, а вы, надев личину друзей, поступаете по-неприятельски. Они тогда били, поносили и бесславили святых апостолов, называя их чародеями и обманщиками: за то и постигла их такая казнь, что никакое несчастие не может сравниться с их бедствиями; ибо они первые и одни из всех людей, живущих под солнцем, пострадали так, как никто другой. Достоверный свидетель этому – Христос, который сказал: «будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Матф.24:21). Пересказывать все эти страдание их теперь не время, но из многого немногое сказать необходимо. Впрочем скажу не своими словами, но словами иудея, который подробно описал их бедствие [1 - Иосиф Флавий, О войне иудейской. Кн. VI, гл. III, 3–5.]. Что же он говорит? Рассказав о сожжении храма, и описав те необычайные бедствия, он говорит:
5. «Что до храма, он был в таком именно положении; а по городу валялось несчетное множество умирающих с голода, и происходили невыразимые ужасы. В каждом доме, где только показывалась хотя тень пищи, была война, и самые близкие друзья дрались между собою, чтобы отнять друг у друга жалкие средства жизни. Не верили даже умирающим, что у них нет пищи; но разбойники обыскивали и издыхающих, не притворяется ли кто умирающим, держа у себя за пазухою какую-либо пищу. Иные, разинув рот от голода, как бешенные псы, блуждали и бегали туда и сюда, толкаясь в двери подобно пьяным, и с отчаяние вторгались в одни и те же дома по два и по три раза в один час. Нужда все отдавала зубам; собирали и не гнушались есть даже то, что негодно даже для самых нечистых из бессловесных животных; не отказывались наконец от поясов и башмаков; сдирали и со щитов кожи и жевали их. Пищею для иных служили и клочья старого сена; а некоторые собирали помет, и самую малую меру его продавали за четыре аттика [2 - Аттическая драхма употреблявшаяся у евреев (Матф. XVII, 27, Лук. XV, 8) 1/4 статира = около 20 копеек серебром.]. Но зачем говорить о бесстыдстве голодных по отношению к вещам бездушным? Укажу на такое действие их, о каком не повествуется ни у еллинов, ни у варваров, о котором и сказать страшно, и слушать невероятно. Чтобы потомки наши не подумали, будто я выдумываю небывалое, я с удовольствием умолчал бы об этом несчастии, если бы у меня не было бесчисленного множества свидетелей из моих современников; с другой стороны, я оказал бы отчизне плохую услугу, опустив из рассказа то, что она потерпела на самом деле. Одна женщина из числа заиорданских жителей, по имени Мария, дочь Елеазара, из селение Вифезо, что значит дом иссопа, знатная по происхождению и богатству, прибыв вместе с множеством других в Иерусалим, подверглась осаде. Все имущество ее, какое она взяла с собою из Нереи и принесла в город, разграбили те, которые захватили власть над городом; а остатки запасов и все, что заготовляла она себе в пищу, расхищали оруженосцы, которые ежедневно вторгались к ней. Сильное негодование овладело женщиною, и она часто своею бранью и проклятиями раздражала против себя грабителей. Так как никто, ни от гнева, ни из жалости, не убивал ея, и хотя она и старалась найти что-либо съестное в других местах, но нигде уже невозможно было найти, а голод терзал ее утробу и мозги и еще сильнее голода воспламенял ея гнев; то, под влиянием раздражение и крайности, она восстала на природу, и, схватив свое дитя (у ней был грудной мальчик), сказала: несчастное дитя, для кого, во время этой войны, голода и возмущения, я буду беречь тебя? У римлян, если мы и будем жить, под их владычеством (ожидает нас) рабство, этому рабству предшествует голод, а того и другого тяжелее бунтовщики: так будь же для меня пищею, для бунтовщиков фуриею, а для мира баснею, которой только и недостает в бедствиях иудеев. И с этими словами, она убивает сына; потом, изжарив его, половину съедает, а остальное скрыла и сберегла. Вскоре пришли бунтовщики и, ощутив необычайный запах, начали грозить, что тотчас убьют ее, если не покажет им, что она приготовила. А она сказав, что сберегла для них прекрасную долю, показала остатки своего сына. Ужас и изумление тотчас объяли их и они окаменели при этом зрелище. Это родное дитя мое, сказала она, это мое произведение, ешьте, я уже ела; не будьте нежнее женщины и жалостливее матери; если же вы богобоязливы и гнушаетесь моим приношением, то как я уже половину съела, так мне же пусть достанется остальное. После этого они ушли, объятые трепетом, в этом одном оказавшись робкими и только эту пищу уступив матери. Тотчас весь город исполнился негодования, и всякий, имея пред глазами такое страшное дело, ужасался, как будто бы сам был виновником его. Голодавшие желали смерти и называли счастливыми тех, кто умер ранее, не слышав и не видев таких бедствий. Скоро разгласилось это страшное дело у римлян; одни из них не верили, другие жалели, большинство же еще сильнее возненавидело этот (иудейский) народ.»
6. Такие, и гораздо еще более тяжелые, бедствие потерпели иудеи, не только за то, что распяли Христа, но и за то, что и впоследствии препятствовали апостолам говорить, что нужно для нашего спасения. В этом обвинил их и блаженный Павел и предсказал им эти бедствия, сказав: «приближается на них гнев до конца» (1Фесс.2:16). Но как, скажут, это идет к нам? Мы не отклоняем от веры и проповеди. А какая, скажи мне, польза от веры, когда нет жизни чистой? Но вы и этого, может быть, не знаете, так как и все наше не знакомо вам; посему я приведу вам изречение Христовы, а вы рассмотрите, ужели тогда (в день суда) вовсе не подвергнется суду жизнь, но определится наказание только за веру одну и догматы? Так Христос, взошедши на гору и увидев окружающий Его во множестве народ, после других наставлений сказал: «не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»; и: «многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:21–23; Лук.13:27). Далее, всякого, кто слушает, но не исполняет слов Его, Он уподобил глупому человеку, который строит дом на песке и делает его удоборазрушимым от рек, дождей и ветров (Матф. 7:26, 27). И в другом месте проповедуя, Он говорит: «как рыбаки, извлекши сеть, выбрасывают вон худую рыбу; так будет и в тот день, когда ангелы ввергнут в пещь всех грешников» (Матф.13:47–50). Также, беседуя о развратных и нечистых людях, Он сказал, что они отойдут туда, где червь не умирающий и огнь не угасающий (Марк. 9:43 и cл.). И еще, «царь», говорит, «сделал брачный пир для сына своего», и, «увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю» (Матф.22:2,11–13; Зах. 3:3). Вот чем он угрожает людям развратным и распутным. А девы, не впущенние в чертог жениха, потерпели это за немилосердие и нечеловеколюбие. Да и другие опять, за эту же самую вину, пойдут «в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Матф.25:41). Осуждаются даже те, которые произносят пустие и праздние слова: «от слов своих», говорит, «оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф.12:37). Ужели же тебе кажется что напрасно мы боимся за жизнь и заботимся с великим усердием о нравственной части любомудрия? Не думаю; разве скажешь, что и Христос напрасно говорил все это и еще многое сверх этого: не все здесь приведено. А если бы я не затруднялся написать длинное слово, то научил бы и из пророков, и из блаженного Павла, и из других апостолов, какое попечение Бог явил об этой части. Впрочем, считаю достаточным и это, или лучше, не только это, но и малую часть сказаннаго; потому что, когда говорит Бог, то, хотя бы Он сказал однажды, должно принимать сказанное так, как бы оно было сказано многократно.
7. Что же, скажут, разве остающиеся дома не могут совершать те добродетели, неисполнение которых приносит такое наказание? Хотел бы и я не меньше, а гораздо больше вас, и часто молил, чтобы миновалась надобность в монастырях и такой бы настал добрый порядок в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Но так как все пошло вверх дном, и города, где судилища и законы, полны великого беззаконие и неправды, а пустыня произращает обильный плод любомудрия, то справедливость требует, чтобы вы винили не тех, которые желающих спастись исторгают из этой бури и волнение и руководят к тихой пристани, но тех, которые каждый город делают столь недоступным и непригодным для любомудрия, что желающие спастись принуждены бывают убегать в пустыни. Скажи мне, если бы кто в полночь, взяв свечу, зажег большой и многолюдный дом, злоумышляя против спящих там, то кого мы назвали бы злым, того ли, кто будит спящих и выводит из этого дома, или того, кто сначала подложил огонь и поставил в такую крайность как живущих в доме, так и выводящего их? Также, если бы кто увидев, что какой-либо город находится во власти тирана, поражен болезнию и волнуется мятежем, убедил, кого мог из живущих в этом городе, бежать на вершины гор, а убедив вместе и помог бы им при этом удалении, то кого стал бы ты винить: того ли, кто обуреваемых среди города людей перевел из этой бури в ту тишину, или того, кто произвел такое кораблекрушение? И не думай, будто дела человеческие теперь в лучшем положении, нежели город, утесняемый тираном; нет они в положении, гораздо более тяжелом; потому что не человек, а какой-то лукавый демон, захватив, как свирепый тиран, всю вселенную, вселился со всем своим воинством в человеческие души; потом оттуда, как бы из какого кремля, ежедневно посылает всем нечестивые и злобные повеления, не браки только расторгает, не деньги приносит и уносит, не убийства неправедные совершает, но, что много тяжелее этого, душу, уже сопрягшуюся с Богом, отлучает от общение с Ним, предает нечистым стражам своим и заставляет сообщаться с ними. А они, раз овладевши ею, обращаются с нею так гнусно и оскорбительно, как свойственно лукавым демонам, сильно и страстно желающим нашего позора и погибели. Сняв с нея все одежды добродетели, одев ее в рубища порочных страстей, грязные, изорванные и зловонные, которые позорят ее более, чем нагота, и наполнив ее еще всякою свойственною им нечистотою, они непрестанно хвастаются наносимыми ей поруганиями. И не знают никакой сытости в этом гнусном и непотребном обращении с нею, но, как пьяницы, когда уже сильно напьются, тогда еще более разгорячаются, так и они тогда особенно неистовствуют и сильнее и свирепее нападают на душу, когда наиболее повредят ей, поражая и уязвляя ее со всех сторон и вливая в нее свой яд; и отстают не прежде, как когда приведут ее в одинаковое с собою состояние, или увидят, что она уже отрешилась от тела. Какой же тирании, какого плена, какого возмущения, какого рабства, какой войны, какого кораблекрушения, какого голода не бедственнее это состояние? Кто так жесток и суров, кто так слабоумен и бесчеловечен, так несострадателен и безжалостен, что не захочет душу, терпящую столько позора и вреда, освободить, по мере сил своих, от этого окаянного неистовства и насилия, но оставит ее страдание без внимания? Если же это свойственно только жестокой и каменной душе, то как, скажи мне, мы отнесемся к тем, которые, сверх такого невнимания, делают еще другое, гораздо большее зло, которые людей готовых броситься в самую средину опасностей, не отказывающихся вложить руки свои в самую пасть зверя, но решающихся вытерпеть и смрад, и опасности, чтобы вырвать уже поглощенные души из самых челюстей демона, не только не хвалят и не одобряют, но еще гонять везде и преследуют?
8. Что же, скажет кто-нибудь, разве все живущие в городах погибают и обуреваются, и должны, оставив города безлюдными, переселиться в пустыню и жить на вершинах гор? Ужели ты повелеваешь это и узаконяешь? – Нет, напротив я, как раньше уже сказал, и желал и молюсь, чтобы мы наслаждались таким миром и тирания этих зол была бы настолько разрушена, чтобы не только живущим в городах не было нужды удаляться в горы, но и обитающие в пустынях, как долго скрывавшиеся беглецы, опять возвратились в свой город. Но что мне делать? Боюсь, чтобы, стараясь возвратить их отчизне, вместо этого не отдать их в руки лукавых демонов и, желая избавить от пустыни и бегства, не лишить всякого любомудрие и спокойствия. Если же ты указанием на многочисленность живущих в городе думаешь смутить и устрашить меня, предполагая, что я не решусь осудить (на погибель) всю вселенную, то я возьму изречение Христово и с ним стану против этого возражения. И ты, конечно, не решишься на такое дерзкое дело, чтобы противоречить определению Того, Кто будет тогда судить нас. Что же Он говорит? «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф.7:14). Если же мало находящих, то гораздо менее могущих пройти этот путь до конца. Не все же, кто вступил на начало, имели силы остаться на нем и до конца; но одни потонули в самом начале, другие в средине, а многие – даже у самой пристани. И в другом месте Он говорит, что «много званых, а мало избранных» (Матф.20:16). Если же Христос объявляет, что погибающих более, а спасение ограничивается немногими, то что споришь со мною? Думая заградить нам уста тем, что мы не посмеем осудить такое множество, ты делаешь то же самое, как если бы, при разговоре нашем о случившемся во времена Ноя, стал изумляться, ужели все погибли, а только два или три человека избежали такого наказания. Но мы этим не убедимся и истине не предпочтем многолюдства; потому что и нынешние дела нисколько не маловажное тогдашних, но тем более преступны, что за них уже угрожают геенною, и однако же зло не пресекается. Скажи мне, кто не называет брата глупцом? А это подвергает огню геенскому. Кто не смотрел на женщину похотливыми глазами? А это – уже совершенное любодеяние, любодей же неизбежно впадает в ту же геенну. Кто не клялся? А это, конечно, от лукавого; а что от лукавого, то несомненно заслуживает наказания. Кто не завидовал когда-нибудь другу? А это делает нас худшими язычников и мытарей; а что худшим их не избежать наказания, это для всякого очевидно. Кто совсем изгнал из сердца гнев и простил грехи всем против него погрешившим? А что не простивший будет неизбежно предан мучениям, этому не станет противоречить никто из слышавших Христа. Кто не служит мамоне? А кто стал служить ей, тот необходимо уже отказался от служение Христу, отрекшийся же от этого, необходимо отрекся и от собственного спасения. Кто не злословил тайно? А таких и Ветхий Завет повелевает убивать и лишать жизни. Чем же утешаемся мы в своем несчастном положении? Тем, что все, как бы по уговору какому, низринулись в бездну порока. Но это самое и есть важнейшее доказательство усиление болезни, когда нам доставляет утешение в несчастии то, что должно быть причиною большей скорби. Многочисленность сообщников в грехах, конечно, не освобождает нас от виновности и наказания. Если же кто пришел уже в отчаяние от сказанного, тот пусть подождет немного, и тогда впадет в большее отчаяние, когда мы скажем о гораздо более тяжком, например, о клятвопреступлениях. По истине, если клясться – дело диавольское, то какому наказанию подвергнет нас преступление клятв? Если название (брата) глупцом навлекает геенну, то чего не сделает опозорение брата, часто ничем не обидевшего нас, бесчисленными поносными речами? Если одно злопамятование достойно наказания, то какого мучение заслуживает мстительность? Но теперь еще не (время говорить) об этом; пусть сберегается оно для своего места. Не говоря о прочем, того самаго, что заставило нас вести настоящую речь, – этого одного недостаточно ли для обличение злокачественной нынешней болезни? Подлинно, если не чувствовать своих беззаконий и грешить без всякой о том скорби есть крайний предел порочности; то где поставить нам новых законодателей этого необычайного и нелепейшего закона, которые с большею дерзостию изгоняют учителей добродетели, нежели другие – учителей порока, и желающих исправлять (порочных) преследуют сильнее, нежели согрешивших; а лучше сказать, к этим не питают и неудовольствие и никогда их не осуждают, а тех, напротив, рады были бы съесть, и только что не кричат и словами и делами своими, что надобно крепко держаться порока и никогда не возвращаться к добродетели, так что мы должны преследовать не только стремящихся к ней, но и осмеливающихся подать голос за нее?
СЛОВО ВТОРОЕ К НЕВЕРУЮЩЕМУ ОТЦУ
ДОВОЛЬНО и того [3 - О чем, т. е. сказано в конце первого слова.], чтобы возбудить изумление и ужас. И если бы кто теперь при этом произнес пророческое изречение: «подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь» (Иер.2:12), и: «изумительное и ужасное совершается в сей земле» (Иер.5:30), все это он сказал бы благовременно. Но вот что тяжелее этого: негодуют и сердятся не только чужие и нисколько не близкие к тем, кому дается совет [4 - Посвятить себя монашеской жизни.], но стали гневаться на это сродники и отцы. Впрочем, мне не безъизвестно, что многие не очень удивляются тому, что так поступают отцы; а задыхаются, по их словам, от гнева, когда видят, что не отцы, не друзья, не сродники и не близкие с какой-либо другой стороны, а часто даже вовсе незнакомые к решающимся любомудрствовать относятся точно так же, и больше, чем отцы, досадуют, и преследуют и обвиняют тех, которые расположили их (к монашеству). Но мне удивительным кажется противное; потому что нет ничего странного в том, что не имеющие никакого основания оказывать заботливость и дружбу скорбят о чужом благополучии, то, увлекаясь завистью, то, по своей злобе считая, – конечно, безумно и жалости достойно, однако же, считая, – чужую погибель своим счастьем. Но что те, которые родили (детей), воспитали, каждый день молятся о том, чтобы видеть детей счастливее самих себя, и для этого делают и терпят все, – что и они как бы от какого опьянения вдруг переменяются и скорбят, когда дети их обращаются к любомудрию: вот этому более всего я удивляюсь, и это считаю достаточным доказательством всеобщей испорченности. Никто не скажет, чтобы это бывало и в прежние времена, когда явно господствовало заблуждение. Случилось, правда, однажды в греческом городе, бывшем под властью тирана, – притом не из родителей кто, как ныне, а овладевшие акрополем, вернее же и эти не все, но преступнейший из них, призвав Сократа, приказал ему не говорить о любомудрии. Но он дерзнул на это, как тиран, неверующий и жестокий, всячески старавшийся ниспровергнуть общественный строй, радовавшийся чужому несчастию и знавший, что ничто иное так не может расстроить самое прекрасное общество, как подобное приказание. А эти (родители), – верующие, живущие в благоустроенных городах и заботящиеся о детях своих, – отваживаются говорить то же самое, что тот тиран о подвластных ему, и – не стыдятся! Вот их негодованию надобно удивляться более, нежели (негодованию) других. Посему я, оставив других, обращусь к тем, которые особенно заботятся о детях, или лучше, должны бы заботиться, но совсем не заботятся, с речью тихою и весьма кроткою, и попрошу их не сердиться и не досадовать, если кто скажет, что он лучше их самих знает, что полезно их детям. Родить сына – мало для того, чтобы родивший уже и научил полезному рожденного им; рождение, конечно, много содействует любви к рожденному; но чтобы точно знать, что полезно ему, для этого не достаточно только родить и любить. Если бы это так было, то ни один человек не должен бы видеть лучше отца, что полезно его сыну, так как никто другой не может любить сына больше отца. Между тем и сами отцы делами своими показывают свое невежество в этом, когда сами ведут детей к учителям, поручают их воспитателям, со многими советуются, озабочиваясь избранием рода жизни, которому надобно посвятить сына. И удивительно еще не это, но то, что родители, при таком совещании о своих детях, часто отвергают свое собственное мнение и останавливаются на чужом. Пусть же они не досадуют и на нас, если скажем, что мы лучше знаем, что полезно для них; и только в том случае, если мы не докажем этого в слове, пусть обвиняют и укоряют нас, как хвастунов, губителей и врагов всей природы.
2. Каким же образом будет это очевидно и откуда мы узнаем, кто действительно видит, что полезно, и кто только думает, будто видит, а между тем совсем не видит? Таким образом, если мы, выставив мои слова, как бы каких противников, на испытание и состязание, суждение об этом предоставим беспристрастным судьям. Хотя закон борьбы повелевает иметь дело с христианином и только с ним состязаться, а больше ничего не требует от нас: «ибо что мне судить и внешних» (1Кор.5:12); но так как у детей, стремящихся к небу, часто бывают отцы неверующие: то, хотя закон борьбы и освобождает нас от состязания с ними, мы сами добровольно и охотно выйдем против них первых. И, о если бы у нас состязание было только с ними, хотя оно и труднее и больше представляет столкновений! Ибо «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1Кор.2:14); и здесь может быть тоже, как если бы кто стал убеждать возлюбить царство такого человека, который не хочет еще верить и в его действительность. Не смотря, однако же, на то, что наше слово так стеснено, я хотел бы, чтобы это состязание у меня было только с ними одними. Против верующего у нас, конечно, много доказательств, но удовольствие, доставляемое изобилием доказательств, помрачается чрезмерностью стыда; потому что я стыжусь, когда вынуждаюсь и с ним состязаться об этом; и боюсь, чтобы язычник не стал выставлять против меня только это одно, как справедливое возражение, так как во всем остальном я, по милости Божией, легко склоню его на свою сторону, и, если он захочет быть добросовестным, скоро доведу его не только до любви к этой (монашеской) жизни, но и до самого расположения к догматам, в котором жизнь эта имеет свое основание. Я так мало боюсь состязания с ним, что наперед еще более вооружу его моим словом, и потом уже приступлю к борьбе. Предположим, что этот отец не только язычник, но и богат и знаменит более всех людей, облечен великою властью и имеет много полей, много домов и тысячи талантов золота; пусть он происходит из царственнейшего города и от знатнейшего рода; пусть не имеет других детей и больше иметь их не надеется, и только об этом одном (сыне) беспокоится; пусть и сам сын с блестящими надеждами и скоро надеется достигнуть такой же власти и даже сделаться знаменитее отца и затмить его во всем житейском. Среди таких надежд пусть затем придет кто-нибудь, побеседует с ним о любомудрии и убедит его, презрев все это, одеться в грубую одежду и, оставив город, убежать в горы и там садить, поливать, носить воду и исправлять все другие монашеские работы, кажущиеся маловажными и унизительными. Пусть будет он без обуви, спит на земле, сделается худ и бледен, – этот прекрасный юноша, живший в такой роскоши и в почете и имевший такие надежды, – и пусть будет одет беднее рабов своих. Не довольно ли оснований (к жалобам) дали мы обвинителю, и недостаточно ли вооружили противника? Если же не достаточно, то доставим ему и другие предлоги. Пусть после этого (отец) употребляет все меры к тому, чтобы переубедить сына, и все напрасно, как будто сын его стоит на камне, выше рек, дождей, и ветров; пусть плачет и проливает слезы, чтобы возбудить против нас сильнейшее негодование, и пред всеми постоянно обвиняет нас, так: я родил, воспитал, трудился целую жизнь, делая и терпя все, что обыкновенно случается при воспитании детей, имел добрые надежды, советовался с воспитателями, призывал учителей, тратил деньги, часто не спал ночей от забот о благоустроении и образовании его, чтобы он ни в чем не отстал от своих предков, но оказался бы еще славнее всех; ожидал, что он утешит меня в старости; с течением времени думал об его жене и браке, о начальстве и власти. Но вдруг как бы какая гроза или буря откуда-то набежала, и богатый корабль, наполненный множеством груза, совершивший дальний путь по морю, плывший под благоприятным ветром и бывший уже близ самой пристани, затопила почти при входе в нее; и грозит опасность, чтобы буря не обрушила на голову такого богача не только бедность, но и жалкую смерть и погибель: так случилось теперь со мною. Проклятые губители и обольстители (пусть он говорит и это, мы не обидимся), лишив таких надежд питателя старости моей, как бы какие разбойники, увели в свои вертепы и так очаровали его своими речами, что он готов лучше идти на меч, в огонь, на зверей и на что бы то ни было, нежели возвратиться к прежней хорошей жизни. А еще тяжелее то, что, склонив его к этому, они говорят, будто лучше нас видят, что ему полезно. Опустели дома, опустели поля; исполнились печали и стыда земледельцы и слуги; повеселели от моих бед враги; закрывается от печали друзья. Никакая мысль не занимает меня, разве подложить огонь и сжечь все – и дома, и поля, и стада волов и паствы овец. Какая будет мне от всего этого польза, когда нет уже того, кто стал бы пользоваться этим, когда он сделался пленником и у жестоких варваров несет рабство, тягчайшее всякой смерти? Я одел всех слуг в черную одежду, посыпал головы пеплом, собрал толпы женщин и приказал им оплакивать его сильнее, нежели когда бы видели его умершим. Простите меня, что я так сделал: это моя печаль более той. Уже тяжелым мне кажется свет, неприятны и самые лучи солнца, когда подумаю о положении этого несчастного сына, когда увижу его одетым хуже беднейших поселян и посылаемых на самые унизительные работы. Когда представлю его непреклонность, то воспламеняюсь, терзаюсь, разрываюсь.
3. С этими словами пусть он повергается к ногам слушателей, посыпает пеплом голову, покрывает прахом лицо и умоляет всех подать (ему) руку, пусть рвет на себе седые волосы. Кажется, мы хорошо настроили обвинителя, чтобы воспламенить всех слушателей; и убедить их сбросить в пропасть виновников этого. Для того и довел я слово до крайнего предела всяких обвинений, чтобы, когда так сильно вооруженный будет побежден нами по благодати Божией, другие не могли ничего сказать; потому что, если будут заграждены уста у имеющего все это вместе, то не имеющий всего этого вместе (все же это сойтись вдруг не может) легко уже уступит нам победу. Пусть же он говорит это и еще больше этого. А я попрошу судей, чтобы они не теперь жалели этого старца, но когда мы докажем, что он горюет о сыне, который не потерпел никакого зла, а наслаждается великими благами, такими, выше которых нельзя и найти других. Тогда он действительно будет достоин жалости и слез, потому что он не в состоянии понять счастье своего сына, и даже так далек от этого, что оплакивает его, как бы находящегося в величайшем несчастии. С чего же начнем слово к нему? С богатства и денег, так как и он сам больше всего скорбит об этом, и всем кажется самым ужасным именно то, если богатые юноши привлекаются к этой (монашеской) жизни. Скажи мне, кого все мы ублажаем и называем достоподражаемым: того ли, кто постоянно томится жаждою и прежде, чем выпьет первую чашу, чувствует уже нужду в другой, и в таком состоянии находится всегда, или того, кто стоит выше этой потребности, всегда свободен от жажды и никогда не чувствует нужды в таком питии? Первый, не похож ли на больного горячкою, который томится самою жестокою жаждою, хотя и может черпать воду из источников, а последний, не свободен ли истинною свободою, не здрав ли истинным здоровьем, и не выше ли человеческой природы? Что еще? Если бы кто, любя женщину, постоянно жил с нею, но от сожительства только бы сильнее воспламенялся к ней, а другой был бы свободен от этой безумной страсти и даже во сне не уловлялся бы похотью: кто из них для нас достоподражаем и блажен? Не этот ли? А кто несчастен и жалок? Не тот ли, который страдает этою тщетною любовью, ничем неугасимою и от придумываемых лекарств еще более возбуждаемою? Если же, сверх сказанного, он считает себя счастливым в болезни и сам не хочет освободиться от этой потребности, и даже оплакивает, как теперь этот (отец), свободных от этой страсти: в таком случае, не более ли еще он несчастен и жалок, потому что не только болен, но даже и не знает, что он болен, а поэтому и сам не хочет освободиться (от болезни), и свободных от нее оплакивает? Поведем же речь о страсти к деньгам и посмотрим кто несчастен и жалок? Эта страсть сильнее и неистовее тех и может причинить более скорби, не потому только, что жжет сильнейшим огнем, но и потому, что не поддается никакому придумываемому облегчению и гораздо упорнее тех. Любящие вино и плотские удовольствия, после наслаждения, скорее почувствуют пресыщение, нежели одержимые безумным пристрастием к богатству. Тех потому мы и вынуждены были изобразить словом, что не скоро можно увидеть на опыте такие явления, и этой болезни много примеров можем представить из опыта. Так по этому ли, скажи мне, ты оплакиваешь сына, что он освободился от такого безумия и такой опасности, что не предается неизлечимой страсти, что стал вне этой войны и борьбы? Но с ним, скажешь, не случилось бы этого, он не стал бы желать большего, но для него довольно было бы пользоваться тем, что есть? Теперь ты говоришь то, что противно, так сказать, природе. Но пусть будет и так; допустим на словах, что он не захочет приращивать своего имения и не увлечется этою страстью: но и в таком случае я докажу, что он наслаждается теперь большим спокойствием и удовольствием. Что легче, заботиться ли о столь многом, быть связанным такою бдительностью и рабством, и страшиться, как бы не погибло что-нибудь из имения, или быть свободным и от этих уз? Положим, что он не пожелает других тяжестей: но гораздо лучше отвергнуть и те, которые уже наложены; потому что, если не нуждаться в большем считается величайшим благом, то не иметь нужды и в том, что есть, было бы еще большим счастьем. Доказано уже, что человек, не мучимый жаждою и любовью (ибо ничто не препятствует обратиться к прежним примерам), гораздо блаженнее не только тех, которые постоянно жаждут и всегда распаляются любовью, но и тех, которые хотя не надолго подвергались этому и удовлетворяли похоти, так как он вовсе не испытал такой потребности. Опять спрошу тебя: если бы можно было и превосходить всех богатством, и быть свободным от бедствий, происходящих от богатства, то ужели ты не пожелал бы тысячу раз такого счастья, чтобы не страдать ни от зависти, ни от клеветы, ни от забот, ни от другого чего-либо подобного? Итак, если мы докажем, что сын твой и это имеет, и что он теперь гораздо богаче, перестанешь ли ты, наконец, плакать и жаловаться так горько? Против того, что он освободился от забот и прочих, неразлучных с богатством бедствий, и сам ты спорить не будешь: посему и нам нет надобности говорить с тобой об этом. Но ты хочешь знать, как это он богаче тебя, у которого столько имущества? И этому мы научим тебя и покажем, что ты, думающий о нем, будто он теперь в крайней бедности, сам таков в сравнении с ним.
4. Не думай, что мы станем говорить о благах небесных и имеющих быть после отшествия отсюда; мы употребим в доказательство пока те блага, которые у нас в руках. Итак, ты – господин только собственного твоего имущества, а он – всего, что есть во всей вселенной. Если же ты не веришь, то мы поведем тебя к нему и убедим его, что бы он, сошедши с горы, или лучше, оставаясь там, приказал кому-либо из очень богатых и благочестивых прислать (к нему) столько золота, сколько ты хочешь; или, так как он не возьмет себе этого, приказал бы лучше отдать золото кому-нибудь нуждающемуся: и ты увидишь, что этот богач послушается и даст с большею готовностью, чем кто-нибудь из твоих домоправителей. Этот последний, когда ему приказывают истратить что-нибудь, бывает скучен и угрюм, а тот напротив, когда не тратит, тогда и беспокоится, не провинился ли в чем-нибудь, что ему ничего такого не приказывают. И я могу указать многих, не только из знатных, но и из простого состояния – таких, которые имеют столь великую силу. Притом же ты, если твои домоправители растратят вверенное им, не можешь вытребовать (от них) другого, и от их злодейства твое богатство тотчас превратится в бедность; а сын твой не боится этого. Если один обеднеет, он прикажет другому, если и с этим случится то же, он обратится к иному, и скорее могут иссякнуть источники вод, нежели те, которые в этом будут послушны ему. Если бы ты держался нашего учения, то я рассказал бы тебе много подобных великих примеров, но так как ты принадлежишь язычеству, то и отсюда я могу представить пример. Послушай, что говорит Критон Сократу [5 - В разговоре философа Платона: Критон, p. 45.]: «мои деньги принадлежат тебе, и, я думаю, их довольно; если же заботясь обо мне, ты не хочешь тратить моих денег, то иностранцы здесь готовы тратить свои; довольно серебра принес на это самое Симмиас фивский, готов и Кевис, и многие другие; итак по этому опасению, как я говорил, не отказывайся спасти себя; пусть не затрудняет тебя и то, что ты говорил на суде, т. е. что, по выходе отсюда, ты не знал бы, что делать с собою; и во многих других местах, куда бы ты ни пришел, полюбят тебя; если же захочешь отправиться в Фессалию, там есть у меня знакомые, которые окажут тебе великое уважение и доставят тебе безопасность, так что у тебя ни в чем не будет недостатка в Фессалии». Что приятнее такого богатства? Впрочем, это (сказано тебе) как человеку мирскому. Если же мы захотим рассуждать о богатстве с большим любомудрием, то ты, может быть, и не в состоянии следить за (нашим) словом; мне, однако же, необходимо сказать об этом для судей. Богатство добродетели так велико, настолько приятнее, настолько вожделеннее, что обладающие им никогда не захотят взять вместо него и всю землю, хотя бы она была вся золотою – с горами, с морем и с реками. И если бы это было возможно, то ты на самом опыте узнал бы, что это – не слова только хвастливые, но что действительно нашедшие гораздо большее и важнейшее богатство станут презирать все прочее, и никогда не променяют его на это. И что я говорю: променяют? Они даже не захотят взять этого вместе с ним. Вам если бы кто давал богатство добродетели вместе с деньгами, вы взяли бы распростертыми руками: так и вы признаете его чем-то великим и дивным. Но те не возьмут вашего при своем: так они уверены в его ничтожестве. И это опять я объясню вашими примерами. Сколько, думаешь, денег дал бы Александр Диогену, если бы тот захотел взять? Но тот не захотел; а этот усиливался и предпринимал все, чтобы быть в состоянии когда-нибудь достигнуть богатства Диогенова.
5. Хочешь ли увидеть и с другой стороны свою бедность и богатство твоего сына? Так ступай, отними у него одежду, которая только одна и есть у него, выведи его из кельи, разори его убежище, и при этом ты не увидишь его недовольным и печальным, но он еще будет благодарить тебя за то, что ты ведешь его к большему любомудрию; а если у тебя кто отнимет только десять драхм, ты никогда не перестанешь плакать и горевать. Кто же богат: тот ли, кто терзается из-за малого, или – кто презирает все? И не только это сделай с ним, но изгони его из всей страны; и ты увидишь, что он станет смеяться над этим как над детскою игрою. Если бы тебя кто изгнал только из отечества, ты стал бы ужасно страдать и не перенес бы такого несчастия; а он, как собственник всей земли и моря, так легко и беспечально будет переходить с одного места на другое, как ты ходишь по своим полям, и даже еще легче; потому что тебе, хотя и можно ходить по своим полям, необходимо, однако же, проходить и по чужим, а он по всей земле пойдет, как по своей собственной. Питие ему везде доставляют в изобилии озера, и реки, и источники, а пища для него – овощи, травы и во многих местах хлебы. Не говорю еще тебе о том, что он презирает и всю землю, потому что город его – небо. И если должно будет ему умереть, он веселее примет смерть, чем вашу роскошь, и лучше пожелает умереть в таком состоянии, чем вы в отечестве и на постели; так что можно назвать странником, изгнанником и скитальцем, имеющего отечество и живущего в (своем) доме, а не его отрешившегося от всего этого. Даже изгнать его из отечества ты не можешь, пока не сгонишь со всей земли; пока так пусть будет сказано; а, говоря по правде, тогда именно и препроводишь его в отечество, когда сгонишь с земли. Но это еще не для тебя, не знающего ничего больше видимого. Не можешь ты представить его и нагим, пока он облечен одеждами добродетели; не изнуришь его голодом, доколе он знает истинную пищу. А богатые подвержены всему этому, так что и в этом отношении не ошибется тот, кто назовет их бедными и очень бедными, а тех действительно богатыми. Ибо кто может везде найти в изобилии и пищу, и питье, и жилище и отдых, и не только не тяготится, но даже веселее живет в этих обстоятельствах, чем вы в своих, – тот, очевидно, богаче всех вас богачей, которые всем этим можете пользоваться только дома. Оттого он никогда и не жалуется на бедность. Притом, такое богатство лучше не только по его изобилию и приятности, но и потому, что оно не истощимо, никогда не обращается в бедность, не подлежит неизвестности будущего, не причиняет забот и не поддается зависти, но пользуется удивлением, и похвалою, и всякою честью; тогда как у вас оказывается противное. Вас не только не хвалят за богатство, но многие даже ненавидят и отвращаются, завидуют вам и строят козни, он же, так как владеет истинным богатством, за это особенно и пользуется удивлением, поэтому и не преследуется ни завистью, ни кознями. А кто крепче здоровьем? Не владеющий ли таким богатством, как пользующийся чистым воздухом, и здоровыми источниками, цветами и лугами и свежим благоуханием, цветет и крепнет, подобно полевым животным, а тот, как бы лежащий в грязи, не слабее ли и не больше ли расположен к болезням? Если же он имеет пред тем преимущество в здоровье, то, очевидно, и в удовольствии. Ибо кто, думаешь ты, больше наслаждается удовольствиями? Тот ли, кто покоится в высокой траве, у чистого источника, под тенью ветвистых деревьев, насыщает глаз созерцанием, имеет душу чище неба и находится вдали от шума и смятения, или тот, кто заключен в комнате? Мрамор, конечно, не чище воздуха, и тень от кровли не приятнее тени древесной, а пол каменный не лучше луга, – украшенного разными цветами. Свидетели этому вы, богачи, которые, если бы возможно было вам иметь на кровлях деревья и приятные луга, предпочли бы их золотой кровле и дивным стенам. Посему вы, когда является желание отдохнуть от множества трудов, оставляете эти (стены) и идете к тем (лугам). Но ты, может быть, скорбишь о той великой и важной славе, которой здесь совсем не видно? Сравнивая дворец с пустынею и тамошние надежды со здешними, ты думаешь, что сын твой упал с самого неба. Так наперед надобно узнать тебе, что ни пустыня не делает бесчестным, ни дворец – славным и знатным; и прежде, нежели приступим к умственным доказательствам, я рассею твое недоразумение примерами, не нашими, а вашими. Слыхал ты, конечно, о Дионисие сицилийском, слыхал и о Платоне, сыне Аристоновом. Кто же из них, скажи мне, был знаменитее, кто воспевается и всегда вспоминается устами многих? Не философ ли преимущественно пред тираном? Между тем этот владел всею Сицилией, проводил время в роскоши и в течение всей жизни был окружен богатством, копьеносцами и прочим блеском, а тот проводил время в саду Академии, садил и поливал деревья, ел маслины, имел скудный стол и был чужд всего того блеска. И не столь удивительно еще это, как то, что он, и сделавшись рабом, и быв продан по воле тирана, не только не оказался вследствие этого бесславнее его, но и самому тирану показался за это достойным уважения. Такова добродетель! Она не только делами, но и страданиями своими не оставляет в темноте и безвестности и саму себя и исполняющих ее. А учитель его, Сократ? Насколько он был знаменитее Архелая? Между тем этот был царь и жил очень богато, а тот проводил время в Лицее, не имел ничего кроме одной одежды, в которой являлся зимою и летом и во все времена года, ходил всегда без обуви, по целому дню оставался без пищи, питался одним хлебом, который и заменял для него все блюда и кушанья, даже и этого пропитания не имел дома, а получал его от других, проживая в такой крайней бедности; однако же, был настолько знаменитее того царя, что и после многократных приглашений его к нему не хотел оставить Лицея и пойти к его богатству. Из господствующего ныне мнения о них видно и то, что было прежде: их имена известны многим, а тех (Дионисия и Архелая) – никому. Еще иной философ синопский (Диоген) настолько был богаче многих таких царей, – хотя и ходил в рубищах, – что (Александр) македонский сын Филиппа, когда вел войско против персов, оставив все, пошел посмотреть на него, и спрашивал, не нуждается ли он в чем и не прикажет ли чего; а тот отвечал, что ни в чем (не нуждается). Не довольно ли тебе примеров, или хочешь, чтобы мы напоминали и о других? Эти мужи сделались знаменитее не только знатных царедворцев, но и самого царя, избрав частную и мирную жизнь и не захотев даже приближаться к делам общественным. Но и в самом обществе гражданском увидишь прославившимися не тех, которые жили в богатстве, роскоши и изобилии, а тех, которые проводили жизнь в бедности, в простоте и скромности. У афинян – Аристид, которого, по смерти, похоронило на свой счет государство, был настолько знаменитее Алкивиада, отличавшегося и богатством, и происхождением, и роскошью, и силою слова, и да крепостью тела, и благородством, и всем другим, насколько дивный философ – какого-нибудь простого мальчика. У фивян – Епаминонд, человек, который, получив приглашение в собрание, не мог придти туда, потому что одежда его находилась в мытье, а другой для перемены он не имел, был знаменитее всех тамошних военачальников. Так не говори же мне ни о пустыне, ни о дворце; слава и знатность не в местах, не в одеждах, не в сане и не во власти, но только в душевной доблести и любомудрии.
6. Но так как примеры не имеют (решающей) силы, то поведу речь о самом твоем сыне. Мы найдем, что он не только стал теперь знаменитее, но почтеннее, и потому самому, за что ты называешь его бесславным и униженным. Убедим его, если хочешь, сойти с горы и войти на площадь: и ты увидишь, что весь город обратится (к нему), и все станут указывать на него, удивляться ему и изумляться, как если бы ангел какой сошел с неба. Что же еще другое почитаешь ты принадлежностью славы? Подлинно он будет знаменитее не только царедворцев, но и самого облекающегося в диадему, ради своих простых и изношенных одежд; потому что он не так изумлял бы всех, если бы носил золотую, или вернее пурпурную одежду, даже надевал на голову самый венец, сидел на шелковых коврах, ездил на мулах и был сопровождаем златоносными оруженосцами, как теперь, имея грязный и неопрятный вид, нося грубую одежду, шествуя без всяких спутников и без обуви. Ибо царские принадлежности установлены законами и стали обычными, и поэтому если бы кто стал с удивлением говорить о царе, что он одет в золотую одежду, то мы не только не удивимся, но и посмеемся этим словам, как не содержащим ничего необычного; но если о твоем сыне кто-нибудь, пришедши, скажет, что он, презрев отцовское богатство, отринув житейский блеск и став выше мирских надежд, удалился в пустыню и оделся в ветхую и худую одежду, то все тотчас сбегутся, и станут удивляться и восхвалять его за величие души. Притом, если цари подвергнутся многим нареканиям, золотые одежды нисколько не защитят их, тем более не возбудят удивления к ним; а он и одеждами своими подаст много поводов к удивлению. Таким образом, самая одежда более царской делает его видным и знаменитым, если за эту никто еще не удивлялся царю, а за ту все будут изумляться облеченному ею. А что мне, скажешь ты, пользы во мнении и похвалах толпы? Но слава и состоит не в другом чем, а в этом. Я не нуждаюсь в ней, скажешь ты, а ищу власти и чести? Но восхваляющие, конечно, будут и почитать. Если же ты желаешь власти и начальствования, то и это не меньше, чем предыдущее, мы найдем преимущественно у здешних. Можно бы объяснить это и примерами, но, обращаясь к наиболее утешительному для тебя способу, поведем речь применительно не к кому-нибудь другому, а к самому твоему сыну. Что ты считаешь доказательством величайшей силы? Не то ли, чтобы быть в состоянии мстить причиняющим огорчение и вознаграждать делающих добро? Но такой силы вполне нельзя найти даже у царя; потому что и ему причиняют огорчение многие, которым он не может воздать тем же, и делают добро многие, которых ему не легко вознаградить. Так на войнах часто врагам, причинившим множество огорчений и зол, он желал бы отомстить, но не может; и друзьям, оказавшим там великие заслуги, не может воздать соразмерных наград, когда они, предвосхищенными прежде воздаяния, падут в самой войне. Что же, если мы покажем, что твой сын обладает иною силою, гораздо большею той, которою, как доказало наше слово, не пользуются и цари? Никто впрочем, пусть не думает, что мы говорим о благах небесных, в которые ты не веруешь; мы не забыли обещаний; но мы будем заимствовать доказательства из того, что бывает здесь. Если величайшая сила состоит в том, чтобы быть в состоянии мстить оскорбившим; то гораздо выше ее – достигнуть такого состояния жизни, в котором никто, хотя бы и захотел, не может оскорбить нас. Что такое (состояние) выше того, это будет нам ясно и очевидно, когда обратимся к другому примеру. Скажи мне, что лучше, быть ли столь искусным в военных делах, чтобы никто из ранивших нас не убежал не раненным, или приобрести такое тело, которого бы никто, сколько бы ни старался, не может поранить? Для всякого очевидно, что последнее – могущественнее и божественнее первого. И не только одно это, но есть и еще даже высшее (могущество). Какое же это? Знание лекарств, которыми вылечиваются все раны. Итак, из трех видов могущества, первого – чтобы быть в состоянии мстить обидевшим; второго, высшего – чтобы и лечить собственные раны, а это, конечно, не всегда следует за первым, и третьего – чтобы не быть оскорбляемым ни от кого из людей, что конечно выше и природы человеческой, – сын твой, как мы доказали, обладает последним.
7. Для доказательства, что эти слова не пустой звук, мы в то самое время, как искали этого великого могущества, нашли другое, еще высшее и этого. Всякий может увидеть, что им (отшельникам) не только никто не может, но и не захочет сделать зло, так что сын твой вдвойне пользуется безопасностью. Что же может быть блаженнее такой жизни, в которой никто и не захочет, а если бы и захотел, то не сможет сделать зла – особенно, когда нехотение происходит не от бессилия, как бывает со многими, но от того, что нельзя найти никакой к тому причины? Если бы неделание зла зависело только от бессилия, то оно было бы не так важно: даже ненависть родилась бы у тех, которые хотели бы, но не могут сделать зло. А это состояние заключает в себе не мало блаженства. Его мы, если угодно, и рассмотрим наперед. – Кто же скажи мне, захочет когда-нибудь причинить вред тому, у кого нет ничего общего с людьми, ни договоров, ни земли, ни денег, ни дел, ни чего-либо другого? За какое поместье станет спорить с ним, за каких рабов, за какую честь, по какому опасению, по какому оскорблению? Вредить другим побуждает нас либо зависть, либо страх, либо гнев. Но этот царственнейший человек выше всего. Кто позавидует тому, который смеется над всем тем, о чем другие бьются и хлопочут? Кто будет сердиться, не потерпев никакой обиды? Кто станет бояться, ничего не подозревая? Итак, ясно отсюда, что никто не захочет вредить ему; так же ясно и то, что не смогут, если и захотят; потому что нет ни случаев, ни поводов, почему бы кто напал на него; но как высоко парящий орел никогда не может быть уловлен сетью (расставленною) для воробьев, так точно и этот человек. Чем может кто повредить ему? Денег у него нет, чтобы угрожать ему потерею их; родины он не имеет, чтобы устрашать его ссылкою; славы он не ищет, чтобы обесславить его; остается одно – смерть; но ею в особенности никогда и не сможет огорчить его кто-либо, но еще принесет ему величайшую пользу, потому что поведет его к другой жизни, вожделенной для него, для которой он все делает и трудится, и которая для него – прекращение трудов, не наказание, но избавление и отдохновение от подвигов. Хочешь ли узнать и другой вид его могущества, еще более свойственный любомудрию? Если кто сделает ему множество зла, ударит его или свяжет, то тело его естественно поражается, но душа по любомудрию остается невредимою; она не увлекается гневом, не уловляется ненавистью, не побеждается враждою. И это еще не так важно; гораздо удивительнее этого вот что: он любит сделавших ему столько зла, как благодетелей и покровителей, и молится, чтобы у них было всякое благо. Что равное этому дал бы ты ему, если бы тысячу раз сделал его царем вселенной и продолжил это царствование на тысячи лет? Какой багряницы, какой власти, какой славы не почтеннее это приобретение? Чего бы не дал иной, чтобы получить такую душу? Мне кажется, что и страстные плотоугодники пожелали бы такой жизни. Хочешь ли и с другой стороны видеть еще более дивное и приятнейшее могущество этого мужа, – со стороны, хотя не возвышенной, но для тебя особенно приятной? Из сказанного видно, что он не уловим и неуязвим; но не желаешь ли знать, что он еще может покровительствовать другим и доставлять им совершенную безопасность? Первый вид покровительства состоит в том, чтобы и других довести до той же доблести и таким образом сделать их крепкими; если же они не захотят этого, но станут проводить жизнь более человеческую и земную, то и в ней также ты увидишь его, не имеющего ничего, имеющим больше могущества, чем ты, богач, и главным образом именно потому, что он ничего не имеет. Кто с большею смелостью станет беседовать с царем и высказывать укоризны? Ты ли, владеющий столь многим и поэтому ответственный пред слугами его, опасающийся за все и представляющий ему тысячи случаев, если бы он, разгневавшись, захотел огорчить тебя, или тот, стоящий выше рук его? С царями беседовали с великою смелостью особенно те, которые удалились от всего житейского. Кому скорее уступит и окажет внимание человек сильный и обращающийся во дворце: тебе ли, богачу, которого он подозревает, что часто многое делаешь для денег, или тому, у кого одно только побуждение для распоряжений – человеколюбие к другим? Кого он почтит и уважит: того ли, кого не может подозревать ни в чем низком, или того, кого считает ниже и слуг своих? Конечно, более слушаются этих (отшельников), ходатайствуют ли они о денежных выдачах, или о покровительстве.
8. Но, если хочешь, пусть он во всем успевает не чрез других, но сам собою: мы приведем какого-нибудь страдальца и к нему и к тебе, или лучше, не к тебе, а к самому царю, и посмотрим, кто более будет в силах помочь ему. Пусть первым подойдет пострадавший более всех других. Пусть будет это отец, имевший одного только сына и потерявший его во цвете возраста. Ему ни начальник, ни царь, ни другой кто не в состоянии будет помочь, равно как и ты; потому что не дашь ему ничего равного тому, что он потерял. А если ты приведешь его к твоему сыну, то он, прежде всего, ободрит его видом своим, одеждою и жилищем, и внушит ему считать за ничто все человеческое; а потом и словами легко рассеет облако. Из твоего же дома он вынесет еще больше печали; потому что, когда увидит он, что твой дом свободен от бедствий, исполнен великого благоденствия и имеет наследника, то будет еще более мучиться, тогда, как оттуда выйдет более спокойным и более любомудрым. Видя, что сын твой презрел такое имущество, такую славу и блеск, он будет не так сетовать об умершем; ибо как он будет сокрушаться о том, что у него нет наследника его имуществ, когда увидит, что другой презирает все это? И уроки любомудрия он легче выслушает от того, кто оправдывает их делами. Ты, как только осмелишься открыть уста, исполнишь его великого уныния, как философствующий о чужих бедствиях: а сын твой, поучая его делами, легко убедит, что смерть есть не больше, как сон; он не станет перечислять многих отцов, потерпевших то же, что и этот, но покажет, как сам он ежедневно при жизни в теле помышляет о смерти и всегда готов к ней, и, укрепив веру в учение о воскресении, таким образом, отпустит его с великим облегчением скорби; и его слова, подтверждаемые и делами, гораздо лучше и скорее могут успокоить страдальца, нежели соучастники в собраниях и пиршествах. Так он уврачует этого страдальца. Пусть будет приведен к нему, если хочешь и другой, от долговременной болезни лишившийся зрения. Чем ты можешь пособить такому? А твой сын, доказав, что в этом нет ничего страшного, тем, что сам заключился в малой келье, стремясь к иному свету и считая настоящее нисколько не важным в сравнении с тамошним, научит мужественно переносить несчастие. А обижаемым можешь ли ты внушить любомудрие? Нисколько; напротив, еще больше возмутишь, потому что мы обыкновенно яснее видим свои бедствия при благополучии ближних; сын же твой гораздо легче ободрит и этих. Не говорю уже о молитвенной помощи, которая важнее всего этого; не говорю потому, что моя речь теперь обращена к тебе. Если же ты хочешь, чтобы за сына почитали тебя и не презирали (вероятно, ты и этого желаешь), то не знаю, каким бы другим образом ты лучше достиг этого, чем имея сына, который стоит выше человеческой природы, является столь славным по всей вселенной и при такой славе не имеет ни одного врага. При том (мирском) могуществе, он был бы, хотя многими почитаем, но многими и ненавидим, а здесь все почитают его с удовольствием. Подлинно, если некоторые люди простые и низкого происхождения, сыновья поселян и ремесленников, приступив к этому любомудрию, сделались столь почтенными для всех, что никто из весьма знатных не стыдился входить в их жилище и разделять с ними беседу и трапезу, напротив чувствовали себя как бы получившими некоторые великие блага, что и на самом деле бывает; тем более они поступят так, когда увидят, что вступил в эту добродетельную жизнь человек знаменитого рода, блистательного состояния, имевший столько надежд. Таким образом, то, о чем ты более сетуешь, т. е., что он из мирской жизни перешел в (монашескую) это самое, больше всего и делает его знаменитым и всех побуждает смотреть на него не как на человека, но как на какого-нибудь ангела. Конечно, о нем не будут думать того, в чем подозревают других, будто, т. е. он избрал такой путь по честолюбию, по страсти к деньгам и по желанию сделаться из незнатного знатным. Если такие речи и о прочих ложны и суть «словеса лукавствия» «слова лукавые» (Псал. 140:4), то касательно твоего сына не могут внушить и подозрения.
9. Не думай, что это бывает только при благочестивых царях; но хотя бы и произошли перемены во власти и властители сделались неверующими, и тогда состояние сына твоего будет блистательнейшим. Наши дела не таковы, каковы у язычников, не мнениям властителей следуют, но держатся собственною силою, и тогда наиболее проявляются, когда подвергаются наибольшим нападениям; так и воин, хотя бывает уважаем и в мирное время, однако более будет славен при наступлении войны. Таким образом, и при языческих властителях тебе будет столько же и даже больше чести. Ибо те, которые прежде уважали твоего сына, гораздо более станут поступать так, когда увидят его вступающим в борьбу, действующим с большею смелостью и представляющим много поводов к прославлению. Хочешь ли – мы рассмотрим и отношение его к тебе? Или излишне говорить об этом? Тот, кто в отношении к другим столь тих и кроток, что никому не подает повода к неудовольствию, тем более будет оказывать великое почтение отцу и станет угождать ему гораздо более теперь, чем когда бы достиг мирской власти. Облеченный великою властью, неизвестно, не стал ли бы он презирать и отца, а теперь он избрал такую жизнь, в которой он, хотя бы стал царственнее и царя, в отношении к тебе будет смиреннее всех. Таково наше любомудрие! Оно соединяет в одной душе качества, кажущиеся противоположными, смирение и высоту. Тогда по пристрастию к деньгам он, может быть, даже стал бы желать твой смерти; а теперь он молится, чтобы жизнь твоя продолжилась, так что и за это он удостоится блистательных венцов. Ибо не малая награда ожидает нас за почтение к родителям: нам заповедано чтить их, как владык (Сир. 3:7), угождать им и словом, и делом, если это не будет во вред благочестию. «Что можешь ты», говорится в Писании, «воздать им, как они тебе» (Сир.7:30)? Подумай же, в сколь превосходной степени может исполнить и эту добродетель тот, кто во всем прочем достиг верха совершенства. Если бы надобно было и умереть за твою голову, он не откажется, не только из уважения и угождения тебе по закону природы, но, прежде всего ради Бога, для которого он презрел вообще все прочее. Итак, если он теперь и почтеннее, и богаче, и могущественнее, и свободнее, и при таком величии духа, гораздо более послушен тебе, нежели прежде; то о чем, скажи мне, ты скорбишь? Не о том ли, что не беспокоишься каждый день, не пал бы он на войне, не прогневал бы царя, не подвергся бы ненависти соратников, как этого и еще большего боятся отцы детей, возвысившихся пред другими? Как поставившие дитя на каком-нибудь высоком месте невольно беспокоятся, как бы оно не упало: так и возводящие сыновей на высоту власти. – Но имеет некоторую приятность пояс, и плащ, и голос глашатая. На сколько же это дней, скажи мне? На тридцать, на сто, или вдвое больше? А что потом? Не прейдет ли все это, как сновидение, как басня, как тень? А теперь достоинства чести у сына твоего останутся до конца, даже по смерти, и тогда – еще больше; и этой власти никто не отнимет у него, потому что он возведен на нее не людьми, а самою добродетелью. Но ты хотел бы видеть его носящим дорогие одежды, разъезжающим на коне, имеющим множество слуг, кормящим тунеядцев и льстецов? Зачем тебе хотелось бы этого? Не затем ли, чтобы чрез все это доставить ему удовольствие? Но если ты услышишь из уст его самого (нам, может быть, ты не поверишь), что свою жизнь он считает настолько приятнейшею жизни людей, пристрастных к роскоши, распутству, музыке, тунеядцам и льстецам, и прочей суете, что предпочел бы тысячу смертей, если бы кто приказал ему, оставив первую приятную жизнь, перейти к последней: что скажешь ты на это? Или ты не знаешь, как приятна жизнь, чуждая забот? Может быть, и никто другой из людей не знает, еще не вкусив ее в ее чистоте. Если же присоединится еще знаменитость, и сойдутся вместе эти неудобосовместимые блага – безопасность и слава: то что может быть лучше такой жизни? – Но для чего, скажешь, ты говоришь это мне, стоящему далеко от любомудрия? – А для чего ты препятствуешь и сыну приблизиться к нему? Довольно, если этот недостаток останется при тебе. Не считаешь ли ты величайшим недостатком то, когда вы, не приобретши ничего доброго в первом возрасте, по достижении крайней старости ропщете на старост? – Но потому, скажешь, мы и ропщем на нее, что юность доставляла нам великие блага. – Какие великие блага? Укажи старца, у которого были бы эти великие блага. Если бы они были у него и оставались в действительности, то он не скорбел бы так, как бы не имеющий ничего такого. Если же они исчезли и пропали, то какие же они великие блага, исчезнув так скоро? Но сын твой не испытает этого; и, если достигнет глубокой старости, ты не увидишь его огорченным подобно вам, но веселящимся, радующимся и восхищающимся, потому что у него тогда еще более будут процветать блага. Ваше богатство, хате бы доставляло множество благ, доставляет их только в первом возрасте; а его богатство не таково, но остается и в старости, сопутствует и по смерти. Поэтому вы, видя в старости, что ваше имущество умножается и вам представляется много средств к славе и роскоши, скорбите, потому что ваш возраст уже неспособен к наслаждению ими; поэтому и пред смертью вы трепещете и называете себя самыми несчастными особенно тогда, когда благоденствуете. Он же тогда особенно успокоится, когда состарится, так как скоро достигнет пристани и получит юность, всегда цветущую и никогда не склоняющуюся к старости. А ты хотел бы, чтобы сын твой наслаждался такими удовольствиями, в которых он тысячекратно раскаивался бы и скорбел, достигнув старости? Но да не наслаждаются ими никогда и враги ваши! Что я говорю о старости? – Эти удовольствия исчезают в один день, а лучше сказать, не в день и не в час, но в краткое и неприметное мгновение. Ибо в чем состоят эти удовольствия? Не в том ли, чтобы чревоугодничать, располагаться за роскошными трапезами и обращаться с красивыми женщинами, подобно свиньям валяясь в грязи?
10. Впрочем, теперь еще не об этом; рассмотрим сначала эти удовольствия, не пусты ли они и ничтожны, и, если угодно, наперед рассмотрим то, которое кажется более других приятным – наслаждение пищею. Покажи мне продолжительность его, сколько времени в день оно может занимать вас? Столько, что и приметить хорошо нельзя. Ибо как только кто насытился, то и лишился удовольствия, и даже прежде пресыщения оно проходит быстрее потока, исчезает в самой гортани и не способно идти далее вместе с пищею; потому что, лишь только пройдет чрез язык, уже и теряют сладость. Умалчиваю от прочих бедах и о том, какое расстройство бывает от пресыщения. Не пресытившийся не только бывает веселее, но и легче, и отдыхать будет лучше того, кто едва не расселся от пресыщения: «здоровый сон бывает», говорится в Писании, «при умеренности желудка» (Сир.31:22). Нужно ли говорить о болезнях, неприятностях, несчастных случайностях и напрасных издержках? Сколько от этих пиров возникает ссор, сколько козней, сколько обид? – А приятное обращение с развратными женщинами? Какое же может быть удовольствие в этом позоре? Впрочем, не будем пока говорить здесь ни об этом, ни о спорах любовников, ни о ссорах между соперниками и нареканиях. Положим, что кто-нибудь свободно наслаждается этою похотью, и не имеет соперника, и не пренебрегается возлюбленною; сыплет деньги как бы из источников; – хотя и никогда невозможно всему этому сойтись вместе, но необходимо не желающему иметь соперника растратить все свое состояние, чтобы превзойти щедростью всех других, а не желающему обеднеть, быть презренным и отвергнутым блудницею, – пусть, однако, не будет ничего этого, но все делается по его желанию: где же можешь ты показать нам удовольствие от этого? Его не оказывается даже во время самого удовлетворения похоти; удовлетворивший похоть уже лишился удовольствия и удовлетворяющий похоти находится не в удовольствии, но в смущении и беспокойстве, в возбуждении и безумии и в великом смятении и расстройстве. Не таково наше наслаждение, нет, оно навсегда оставляет душу невозмутимою, не причиняет ей никакого смятения и волнения, но доставляет радость, чистую и непорочную, достославную и бесконечную, – такую, которая гораздо сильнее и живее вашей. Наше наслаждение приятнее и потому, что ваше может быть уничтожено страхом; ибо, если бы царь издал указ, угрожающий за это удовольствие смертью, то большая часть людей отказалась бы от него; что же до нашего (наслаждения), то, хотя бы кто угрожал тысячью смертей, не только не убедит нас пренебрегать им, но скорее сам будет осмеян; настолько оно сильнее и приятнее вашего, и даже не допускает сравнения с ним. Не гневайся же на сына за то, что он от скоротечных или вернее недействительных благ перешел к действительным и постоянным; не плачь о нем, достойном быть ублажаемым, но о том, кто не таков и кружится в настоящей жизни, как бы в Еврипе [6 - Еврип – бурный пролив у о. Еввеи.]. А главное вот что: ты – неверующий и язычник; прими же хотя это слово. Ты, конечно, слыхал о реках Кокитах и Пирифлегефонтах, о воде Стикса и о тартаре, столько отстоящем от земли, сколько она от неба, и о многих видах наказаний. Хотя эллины, руководствовавшиеся своими умствованиями и нашими искаженными преданиями, и не могли по-истине сказать об этом, как оно есть: однако, они получили некоторое образное представление о суде; и ты найдешь, что и поэты, и философы, и ораторы, и все философствовали об этих предметах. Ты слыхал также о Елисейском поле, и об островах блаженных, о лугах и миртах, о нежном ветре и великом благоухании, о хорах там обитающих и одетых в белую одежду, ликующих и воспевающих некоторые гимны, и вообще об ожидающем добрых и злых воздаянии по отшествии отсюда. Как же, ты думаешь, живут с такими мнениями добрые и недобрые? Одних, когда они думают об этом, хотя бы у них настоящая жизнь протекала беспечально и в великом удовольствии, не преследует ли, как бы какой бич, совесть и ожидание имеющих постигнуть их страданий; а добрые, хотя бы терпели тысячи зол, не питают ли, по словам Пиндара, целительной надежды, которая не дает им ощущать настоящих бедствий? Таким образом, и от этого у последних бывает больше удовольствия. Ибо гораздо лучше, начав временными трудами, закончить бесконечным успокоением, нежели, вкусив за краткое время мнимых приятностей, наконец, впасть в самые горькие и тяжкие бедствия. А когда при этом еще несомненно, что такая жизнь и здесь приятнее, то не должно ли теперь делать то, о чем я сказал вначале, жалеть тех, которые оплакивают такие блага? Подлинно, сын твой достоин не слез, но рукоплесканий и венцов, как пришедший к безмятежной жизни и в тихую пристань. – Но тебя порицают многие отцы, которых дети кружатся в настоящей жизни; другие, смотря на тебя, плачут, а иные смеются над тобою? Почему же ты еще больше не смеешься над ними и не плачешь? Мы должны смотреть не на то, смеются ли над нами, а хорошо ли и справедливо ли это делают; если так, то хотя бы и не смеялись, мы должны плакать; если же делают это несправедливо, то, хотя бы все смеялись, мы должны ублажать себя, а их оплакивать, как самых несчастных и ничем не отличающихся от безумных. Ибо смеяться над тем, что достойно великих похвал и венцов, свойственно безумным и больным подобно им. Не счел бы ты насмешкой, скажи мне, если бы тебя все стали хвалить, превозносить и называть блаженным за то, что сын твой пристрастился к безумному занятию плясунов и наездников? А что, если бы они стали смеяться и порицать его, когда бы он делал что-либо благородное и достойное похвал, не назвал бы ты их безумными? Так поступим и теперь: предоставим приговор о твоем сыне не мнению толпы, но тщательному обсуждению дела; и ты увидишь, что эти насмешники – отцы скорее рабов, а не свободных, если сравнивать их детей с твоим сыном. Теперь ты, омрачаемый скорбью, не можешь вникнуть в это; когда же немного успокоишься, и сын твой окажет великую добродетель, ты уже не будешь нуждаться в наших словах, но сам станешь другим говорить это и еще больше этого. Предсказываю тебе это не без основания, но по опыту. У меня был друг, имевший отца неверующего, богатого, уважаемого и во всех отношениях знаменитого. Этот отец сперва действовал чрез начальников, и грозил узами и, отняв у сына все, оставил его на чужой земле и без необходимой пищи, чтобы таким образом заставить его – возвратиться к мирской жизни; но когда увидел, что сын ничему этому не уступает, то, побежденный, запел иную песню; и теперь почитает и уважает сына более чем (своего) отца, и хотя имеет много и других детей почтенных, но говорит о них, что они негодны даже и в слуги тому, и сам чрез того сына сделался гораздо знаменитее. Это мы увидим и на твоем сыне; и что я не лгу, ты хорошо узнаешь на самом деле. Поэтому я смолкну, наконец, и только попрошу тебя, подожди один год или еще меньше времени, – для нашей добродетели не нужно много дней, потому что она возвращается божественною благодатью, – и ты увидишь, что все сказанное исполнятся на самом деле, и не только похвалишь то, что уже сделано, но, если пожелаешь, хотя немного возвыситься, скоро и сам сделаешься подражателем ему, имея в сыне учителя добродетели.
СЛОВО ТРЕТЬЕ К ВЕРУЮЩЕМУ ОТЦУ
НАУЧИМ теперь и верующего отца, что не должно враждовать против тех, которые привлекают сына его к богоугодному. Конечно, можно опасаться, чтобы и это слово наше не оказалось излишним и не вышло противное тому, о чем я говорил прежде. Тогда я сказал, что закон борьбы не принуждает меня вступать против язычника, но что апостол Павел оставил нас свободными от состязания со внешними, повелев судить только внутренних (1 Кор.5:12). А теперь, как кажется, мы не обязаны и к этим прениям: если и прежде казалось постыдным беседовать об этом с христианином, тем более теперь. Ибо как не стыдно будет верующему нуждаться в увещании касательно того, в чем и неверующий ничего не может сказать против нас? Что же? Ужели мы, поэтому замолчим и ничего не скажем? Нет. Если бы кто-нибудь поручился за будущее и сделал для нас очевидным, что впредь никто не отважится на это, тогда следовало бы и нам успокоиться и предать прошедшее забвению; но так как мы не имеем ни одного достоверного поручителя в этом, то необходимо и словесное увещание. Если оно найдет страждущих такою болезнью, то сделает свое; а если никто не впадет в эту немощь, то желаемое нами исполнилось. И врачам, по изготовлении лекарств для больных, следует желать, чтобы больному не было и нужды в них: так и мы молимся, чтобы никому из наших братий не было нужды в этом увещании; если же она случится, – чего да не будет, – то, по пословице, не избежать им второго плавания. – Итак, представим себе и верующего таким же, каков неверующий, подобным ему во всем, кроме понятия о Боге; пусть он и плачет также, и валяется у всех в ногах, и указывает на свои седины, и на старость, и на одиночество; пусть говорит все то же и, сколько хочет, возбуждает гнев в судьях. Впрочем, с ним суд у нас уже не пред людьми, потому что он слышал все, что у нас мужи, исполненные Духа Божия, любомудрствовали о страшном и ужасном судилище по отшествии отсюда. И, прежде всего прочего ему должно напомнить о том дне, об огне текущем рекою, о пламени никогда не угасающем, о меркнущих лучах (солнца), о скрывающейся луне, о ниспадающих звездах, о свивающихся небесах, о колеблющихся силах (небесных), о потрясаемой со всех сторон и мятущейся земле, о страшном и непрерывном звуке труб, об ангелах, проходящих по вселенной, о тысячах предстоящих, о тьмах служащих, о грядущих с самим Судиею воинствах, о сияющем пред Ним знамении, о поставляемом престоле, о раскрываемых книгах, о неприступной славе, о страшном и ужасном гласе Судии, одних посылающего в огонь, уготованный диаволу и ангелам его, а для других затворяющего двери и после их великого подвига девства; одним из слуг Своих повелевающего связать плевелы и ввергнуть в пещь, а другим – сковать некоторым ноги и связать руки, отвести их во тьму кромешную и предать мучительному скрежету зубов; предающего тягчайшему и жесточайшему наказанию – одного за бесстыдные только взгляды, другого за неуместный смех, иного за то, что без исследования осудил ближнего, а другого и за то, что злословил (ближнего); а что и за это положено наказание, можно слышать от самого Судии, имеющего совершить наказание, в Его словах и угрозах. К этому Судии необходимо всем нам отойти отсюда и увидеть тот день, в который будет открыто и обнаружено все, т. е., не только дела и слова, но и самые помышления.
2. Тогда мы дадим страшный ответ и в том, что теперь кажется маловажным; ибо Судия с одинаковою строгостью требует от нас (попечения о) спасении нашем и наших ближних. Посему Павел везде убеждает, чтобы «никто» не искал «своего, но каждый [пользы] другого» (1Кор.10:24); посему он и Коринфян сильно порицает за то, что они не попеклись и не позаботились о впадшем в прелюбодеяние, но оставили без внимания опасную рану его (1 Кор.5:1, 2); и в послании к Галатам говорит: «братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового» (Гал.6:1). А еще прежде их он убеждает к тому же самому и Фессалоникийцев, говоря: «посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1Фесс.5:11); и еще: «вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых» (1Фесс.5:14). Дабы кто-нибудь не сказал: «что мне заботиться еще о других? – погибающий пусть погибает, а спасающийся пусть спасается; это нисколько меня не касается; мне велено смотреть за собою», – дабы кто-нибудь не сказал этого, Павел, желая истребить такую зверскую и бесчеловечную мысль, противопоставил ей такие законы, повелевая оставлять без внимания многое из своего, чтобы устраивать дела ближних, и требует во всем такой строгости жизни. Так и в послании к Римлянам он заповедует иметь великое попечение об этом долге, поставляя сильных как бы отцами для немощных и убеждая заботиться об их спасении (Римл.15:1). Но здесь он говорит это в виде увещания и совета, а в другом месте потрясает души слушающих с великою силою, когда говорит, что нерадящие о спасении братий грешат против самого Христа и разрушают здание Божие (1 Кор.8:12). И это говорит он не от себя, но по наставлению Учителя. Ибо и Единородный (Сын) Божий, желая внушить, как обязателен этот долг, и что не желающих исполнять его ожидают великие бедствия, сказал: «а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф.18:6). И принесший талант подвергается наказанию не за то, что он пренебрег чем-нибудь собственным, но за то, что не радел о спасении ближних. Таким образом, хотя бы у нас все было хорошо устроено в нашей жизни, нет нам никакой пользы, потому что и того греха довольно, чтобы ввергнуть нас в геенскую пучину. Если и тех, которые не хотели помогать ближнему в телесных нуждах, не спасет никакое объяснение, так что, хотя бы они и подвиг девства совершили, будут все-таки извержены из брачного чертога; то опустивший гораздо важнейшее (потому что попечение о душе гораздо важнее) – не потерпит ли по справедливости все бедствия? Бог создал человека не для того, чтобы он приносил пользу только себе самому, но – и многим другим. Посему и Павел называет верующих «светилами» (Филип.2:15), выражая, что они должны быть полезны и другим, ибо светило не было бы и светилом, доколе освещало бы только себя. Поэтому он нерадящих о ближних называет худшими даже язычников в следующих словах: «если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). Что же он хочет здесь означить словом: «не печется»? Доставление ли необходимого? Я думаю, что он разумеет попечение о душе: если же ты не согласишься, то тогда мое мнение будет еще более твердым. Ибо если он говорит это о теле, предает такому наказанию и называет худшим язычников не подающего этой ежедневной пищи; то где будет место тому, кто небрежет о важнейшем, о необходимейшем?
3. Рассудим же теперь о важности нашего греха и, восходя мало-помалу, покажем, что нерадение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия. Так, первая степень порочности, нечестия и жестокости – есть небрежение о друзьях. Впрочем, сведем слово еще ниже; не знаю, как это я едва не забыл, что прежний закон, данный иудеям, не позволяет пренебрегать и скотами врагов – или упавшими, или заблудившимися, но повелевает этих привести, а тех поднять (Исх.23:4, 5). Итак, первая, снизу идущая, степень порочности и жестокости – оставлять без внимания рабочий и домашний скот врагов, когда он страждет; а вторая за ней высшая – не радеть о самих врагах; потому что насколько человек превосходнее бессловесного, настолько этот грех больше того; третья за этою (степень) – презирать братий, хотя бы они были и незнакомые; четвертая – не радеть о домашних; пятая – когда небрежем не только об их теле, но и о погибающей душе; шестая, – когда беспечно смотрим на гибель не только домашних, но и детей наших; седьмая – когда не ищем и других, кто бы о них позаботился, восьмая – когда и тем, которые сами собою хотят это делать, препятствуем и запрещаем; девятая – когда не только препятствуем, но и восстаем против них. Таким образом, если наказание постигнет первую, вторую и третью степень этой порочности, то какой огонь будет следовать превзошедшей все прочие, вашей, именно девятой степени? Даже можно безошибочно назвать ее не только девятою, или десятою, но и одиннадцатою. Почему? Потому, что этот грех не только по существу своему гораздо важнее прежде исчисленных, но и по времени более тяжел. Что же значит это по времени? То, что если мы теперь будем совершать грехи одинаковые с подзаконными, то подвергнемся не одинаковым наказаниям, но гораздо тягчайшим, насколько больший мы получили дар, совершеннейшее приняли учение и большею почтены честью. Итак, если этот грех так тяжек и по существу и по времени, подумай, какое пламя низведет он наголову дерзающих совершить его? И что я так рассуждаю не без основания, докажу это действительным событием, дабы вы знали, что, хотя бы у нас все наше было благоустроено, мы подвергнемся крайнему наказанию, если не радеем о спасении детей. Расскажу вам не своими словами, но содержащимися в божественном Писании. Был у иудеев один священник, человек скромный и кроткий; имя ему было Илий. Этот Илий делается отцом двух сыновей. Видя, что они предаются нечестию, он не удерживал их и не останавливал, или вернее – он удерживал и останавливал, но делал это не с надлежащим усердием. А проступки этих сыновей состояли в любодеяния и чревоугодии. Они, говорится (в Писании), ели священные мяса прежде их освящения и прежде возношения жертвы Богу (1 Цар.2:15,16). Слыша об этом, отец не наказывал их, а пытался словом и убеждением отклонить их от этого нечестия, и постоянно говорил им такие слова: «нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень; если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем» (1Цар.2:24,25)? Очень сильные и поразительные слова, достаточные для вразумления того, у кого есть ум! Он выставлял на вид грех, показывал его ужас, объявлял и угрожающее за него тяжкое и страшное осуждение; однако же, так как не все сделал, что следовало, то и сам погиб вместе с ними. Следовало бы и усилить угрозы, и прогнать их с глаз своих, и наказать бичами, и быть гораздо более строгим и суровым. А так как он ничего этого не сделал, то разгневал Бога и против себя и против них, и, оказав неуместное снисхождение к своим детям, вместе с детьми погубил и свое спасение. Послушай, что Бог говорит ему, или вернее – уже не ему, потому что его Он признал уже недостойным ответа; но, как тяжко провинившемуся рабу, дает ему знать об угрожающих ему бедствиях через другого. Таков был тогда гнев Божий! Послушай же, что говорит (Бог) об учителе его ученику; потому что лучше хотел говорить о его бедствиях и ученику, и другому пророку, и всем, нежели ему, – так окончательно отвратился от него! Что же Он говорит Самуилу? (Илий) «знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их» (1Цар.3:13); не то, чтобы не вразумлял: он и вразумлял, но Бог говорит, что это еще не вразумление, и отверг его, потому что оно было без силы и настойчивости. Так, если и мы, хотя печемся о детях, но не столько, сколько нужно, то и наше попечение не есть попечение, как и Илиево вразумление. Сказав о преступлении, (Господь) с великим гневом налагает и наказание: «посему клянусь», говорит Он, «дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек» (1Цар.3:14). Видишь, какое сильное негодование и наказание без надежды на пощаду? Неизбежно, говорит, должно ему погибнуть, и не только ему и сыновьям его, но вместе с ним и всему дому, и не будет никакого врачевства, которое бы исцелило эту рану. Между тем Бог ни за что другое, кроме беспечности о детях, не мог тогда винить этого старца дивного во всем другом, которого все любомудрие можно видеть не только из других, но и из самых обстоятельств угрожавшего ему несчастия. Так, во-первых, когда он услышал обо всем этом и увидел себя на пути к крайнему наказанию, то не стал роптать и негодовать, не сказал ничего такого, что обыкновенно говорят люди: «разве я властен в чужой воле? – за свои грехи я должен нести наказание, а дети сами в возрасте, сами только и должны бы быть наказаны». Ничего такого он и не сказал и не подумал, но, как благонамеренный раб, только то и знающий, чтобы благодушно переносить все от господина, хотя бы и неприятное, произнес такие, преисполненные любомудрия, слова: «Он – Господь; что Ему угодно, то да сотворит» (1Цар.3:18). И не отсюда только, но и из другого случая можно увидеть доблесть его. Когда во время постигшей иудеев войны, некто пришел и рассказал о несчастиях на этой войне, и о том, как дети его постыдно и бедственно пали в сражении, он выслушал это спокойно; когда же тот к (вести об) этом поражении присовокупил (весть) о взятии врагами кивота, тогда помрачившийся от скорби старец «упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер; ибо он [был] стар и тяжел. Был же он судьею Израиля сорок лет» (1Цар.4:18). Если же священника, – престарелого, знаменитого, двадцать лет безукоризненно начальствовавшего над еврейским народом, – жившего во времена, не требовавшие великой строгости, ни одно из этих обстоятельств не могло извинить, но он погиб ужасно и бедственно за то, что не заботился о детях с полным вниманием, и грех этой слабости, как сильная и великая волна, превысил все прочее и закрыл все добрые дела его; то какое осуждение постигнет нас, которые живем во времена, требующие гораздо большего любомудрия, но не имеем и его добродетели, и не только сами не имеем попечения о детях, но и против желающих делать это строим козни и восстаем, и относимся к детям своим хуже всякого варвара? Ибо жестокость варваров доводит только до рабства, до опустошения и пленения отечества, и вообще до бедствий телесных; а вы порабощаете самую душу, и, связав ее как какую-нибудь пленницу, передаете, таким образом, лукавым и свирепым демонам и их страстям. Именно это, а не другое что делаете вы, когда и сами не внушаете (детям) ничего духовного, и другим делать это не позволяете. Пусть никто не говорит мне, что многие, больше Илия не радевшие о своих детях, не потерпели ничего такого, что Илий: нет, многократно терпели, и многие, и более того тяжкое, и за такой же грех. Ибо откуда преждевременные смерти? Откуда тяжкие и продолжительные болезни, и у нас, и у наших детей? Откуда потери, откуда несчастия, откуда огорчения, откуда бесчисленное множество зол? Не от небрежения ли о порочных детях? Что это не вымысел, достаточно могут свидетельствовать и бедствия этого старца, но я скажу вам еще слово об этом одного из наших мудрецов. Он, рассуждая о детях, говорит так: «не радуйся о сыновьях нечестивых, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь» (Сир.16:1,2); ты зарыдаешь плачем преждевременным, и неожиданно узнаешь об их погибели. Итак, многие, как я сказал, потерпели много подобного, если же некоторые и избегли, то не до конца избегнут, но – на зло своей голове, потому что понесут жесточайшее наказание по отшествии отсюда. Почему же, скажут, не здесь все наказываются? Потому что Бог назначил день, в который будет Он судить вселенную, но этот день еще не пришел. С другой стороны, если бы было так, то весь род наш давно бы уже прекратился и исчез. Но, чтобы и этого не случилось, и от замедления суда многие не сделались беспечнее, Бог, избирая некоторых виновных во грехах и наказывая здесь, чрез них и прочим показывает меру угрожающих им наказаний, чтобы они знали, что, если они здесь и не потерпят наказания, то, без сомнения, понесут более тяжкое по отшествии туда. Не будем же бесчувственными оттого, что Бог теперь не посылает пророка и не предвозвещает наказания, как было с Илией, потому что теперь не время пророков, впрочем, Он посылает их и теперь. Откуда это известно нам? «У них есть», говорит (Господь), «Моисей и пророки» (Лук.16:29). Сказанное древним сказано также и нам; и Бог говорит не одному Илию, но, через него и его страдания, всем, подобно ему согрешающим. Бог нелицеприятен, и если Он так истребил со всем домом менее виновного, то не оставит без наказания совершивших более тяжкие прегрешения.
4. Нельзя сказать и того, будто у Него немного попечения об этом деле: нет, он имеет великое промышление о воспитании детей. Для того Он и вложил такое влечение в природу родителей, чтобы поставить их как бы в неизбежную необходимость заботиться о детях. А впоследствии в своих изречениях Он преподал нам и законы касательно попечения о них, и, учреждая праздники, повелел объяснять детям причину (установления) их. Так, сказав о пасхе, Он присовокупил: «и объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта» (Исх.13:8). Тоже самое делает Он и в законе, потому что, сказав о перворожденных, опять присовокупляет: «и когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, – посему я приношу в жертву Господу все, разверзающее ложесна, мужеского пола» (Исх.13:14,15). Всем этим он внушает вести детей к богопознанию. И самим детям он заповедует многое относительно их родителей, награждая послушных, а неблагодарных наказывая, и таким образом делая их еще более любезными для родителей. Так, когда кто сделает нас властными над кем-либо, то этою честью он налагает на нас сильнейшее обязательство заботиться о нем; потому что и без всего другого это одно, что вся судьба того человека находится в наших руках, достаточно для нашего предостережения, и мы нескоро решились бы покинуть того, кто вверен нам; если же он потом станет еще гневаться и негодовать более самих обижаемых и являться строгим карателем, то этим еще более побудит нас (к исполнению долга). То же сделал и Бог. К этим побуждениям Он прибавил еще третье, состоящее в природной связи, а если хочешь, то-первое. Дабы родители, получив повеление воспитывать детей, не пренебрегали Его повелениями, Он присоединил естественную необходимость. А чтобы эта связь не была ослабляема оскорблениями со стороны детей и не расторгалась, Он оградил ее наказаниями и от Себя и от самих родителей, таким образом, и детей весьма строго подчиняя (родителям), и в родителях возбуждая любовь (к детям). И не этим только, но и другим еще, четвертым, способом Бог крепко и тесно связал нас с ними. Он не только детей злых в отношении к родителям наказывает, а к добрым благоволит, но точно так же поступает и с родителями, тяжко наказывая нерадеющих о детях, а попечительных удостаивая почестей и похвал. Так и того старца (Илия), в других отношениях знаменитого, Он наказал за одно только нерадение (о детях); а патриарха (Авраама) наградил за его попечительность не менее, как и за другие (добродетели). Сказав о многих и великих дарах, которые обещал дать ему, и, приводя причину, Он указал на эту его (добродетель): «ибо Я избрал», говорит, «его (Авраама) для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт.18:19). Это сказано мною теперь для того, чтобы мы знали, что Бог не будет снисходительно переносить нерадение о тех, о которых сам Он столько печется. Ибо не возможно, чтобы один и тот же (Бог) и столько делал Сам для спасения (детей), и оставлял без внимания нерадение о них (со стороны родителей). Так, Он не оставит этого без внимания, но будет сильно негодовать и гневаться, как и оказалось на самом деле. Посему и блаженный Павел, настоятельно убеждая, говорить: «отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф.6:4). Если мы имеем повеление неусыпно заботиться о душах их, «как обязанные дать отчет» (Евр.13:17), тем более – отец, который родил сына, воспитал и постоянно живет с ним. Как не может он прибегать к извинению и оправданию в своих собственных грехах, так точно и в проступках детей. И это также ясно выразил блаженный Павел. Заповедуя, каковыми должны быть принимающие начальство над другими, он, вместе со всеми другими необходимыми для них качествами, требует и попечительности о детях, так что нет нам извинения, когда дети у нас развратны (1 Тим.3:4, 5). И совершенно справедливо! Потому что, если бы порочность в людях была от природы, то иной имел бы право прибегать к извинению; но так как мы бываем и худы, и хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может представить допустивший до развращения и порочности (сына) любимого им больше всего? То ли, что не хотел сделать его честным? Но ни один отец не скажет этого; потому что сама природа настоятельно и непрерывно побуждает его к тому. Или то, что не мог? Но и этого нельзя сказать; потому что многое – и то, что он взял сына (на свое попечение) еще в нежном возрасте, и то, что ему первому и одному только вручена власть над ним, и то, что он постоянно имел его при себе, – делает для него воспитание (сына) легким и очень удобным. Таким образом, развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности (родителей) к житейскому: обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже не радеют о детях с их душою. О таких отцах я сказал бы (и никто пусть не приписывает этих слов гневу), что они хуже даже детоубийц. Те отделяют тело от души, а эти то и другую вместе ввергают в огонь гееннский; той смерти подвергнутся неизбежно по естественной необходимости, а этой можно было бы и избежать, если бы не довела до неё беспечность отцов. Притом смерть телесную сможет уничтожить воскресение, как скоро наступит оно, а погибели души ничто уже не вознаградит; за нею следует уже не спасение, а необходимость вечно страдать. Следовательно, мы не несправедливо сказали бы, что такие отцы хуже детоубийц. Не так жестоко изострить меч, взять его в правую руку и вонзить в самое горло сына, как погубить и развратить душу; потому что ничего равного ей нет у нас.
5. Что же, скажут, неужели живущему в городе и имеющему дом и жену невозможно спастись? Конечно не один способ спасения, но их много и они разнообразны. Об этом, хотя неопределенно, говорит и Христос, возвещая, что «в доме Отца Моего обителей много» (Иоан.14:2); а с некоторою определенностью говорит Павел, когда пишет так: «иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1Кор.15:41). Смысл слов его такой: одни будут сиять, как солнце, другие, как луна, а иные, как звезды. И на этом различии он не остановился, но между самыми звездами показывает великую разность, – такую, какой естественно быть при таком множестве их: «звезда», говорит, «от звезды разнится в славе. Представь же, переходя от великого солнца до последней из всех звезд, сколько можно пройти степеней достоинства. Поэтому, не странно ли, что ты, если ведешь сына в царский дворец, то и сам делаешь и терпишь все, и его убеждаешь к тому же, чтобы сделать его близким к царю, и не обращаешь внимания решительно ни на что, ни на издержки, ни на опасность, ни на самую смерть; а когда предлагается нам подумать о воинстве небесном, то не скорбишь, если (сын твой) получит там последнее место и станет ниже всех? Впрочем, если угодно, посмотрим еще и на то, возможно ли вращающемуся в мире получить и это место. Блаженный Павел изъяснил это кратко, сказав, что имеющие жен могут спастись не иначе, как только, если они будут иметь их так, как не имеющие (1 Кор.7:29), и не станут злоупотреблять миром (ст. 31). А мы, если хочешь, распространим речь об этом. Итак, можешь ли ты сказать, что сын твой или во время совещания с тобою слышал, или сам узнал когда-нибудь, что клянущийся, хотя бы клялся не ложно, оскорбляет Бога? Также, что злопамятному спастись невозможно? Ибо «пути», говорится (в Писании), «злопамятных к смерти» (Прит.12:28). Или, – что злоречивого Бог так посрамляет, что даже устраняет его от чтения слова Божия? Также, – что гордого и дерзкого Он низвергает с неба и придает гееннскому огню? Или, – что взирающего (на жену) нецеломудренными очами наказывает, как действительного прелюбодея? А столь обыкновенного у всех греха – осуждения ближних, навлекающего на нас тягчайшее наказание, убеждал ли ты когда-нибудь (сына) избегать этого греха и читал ли ему Христовы заповеди об этом? Или и сам ты не знаешь, что есть такие заповеди? Как же сын будет в состоянии исполнять то, заповедей о чем не знает и сам отец, который должен бы научить его? И, о, если бы было только это зло, что вы не советуете детям ничего полезного; оно не было бы так велико! Но теперь вы увлекаете их еще к противному. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не слышно ничего другого, кроме таких слов: «такой-то человек низкий и из низкого состояния, усовершенствовавшийся в красноречии, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит». Другой говорит: «такой-то, изучив италийский язык, блистает при дворе и всем там распоряжается». Иной опять указывает на другого, и все – на прославившихся на земле: а о небесном никто ни разу не вспоминает; если же иной попытается напомнить, то он прогоняется, как человек, который все расстроивает.
6. Итак, вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их не другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в них две самые сильные страсти, то есть, корыстолюбие, и еще более порочную страсть – суетное тщеславие. Каждая из них и порознь может извратить все; а когда они обе вместе вторгнутся в нежную душу юноши, то, подобно соединившимся бурным потокам, извращают все доброе и наносят столько терния, столько песку, столько сору, что делают душу бесплодною и неспособною ни к чему доброму. Это могут засвидетельствовать нам изречения и внешних писателей: так из этих страстей одну, не соединенную с другою, но саму по себе один назвал верхом, а другой главою зол. Если же одно (корыстолюбие) в отдельности есть верх и глава (зол) то, когда оно соединится с другим гораздо жесточайшим и сильнейшим, т. е. с безумным тщеславием, и вместе с ним вторгается в душу юноши, укоренится в ней и овладеет ею; то кто после в состоянии будет истребить эту болезнь, особенно когда и отцы и делают и говорят все, чтобы не ослабить эти злые растения, но еще укрепить их? Кто так неразумен, что не потеряет надежды на спасение воспитываемого таким образом сына? Желательно, чтобы душа, воспитанная в противоположном направлении, избегла порочности; когда же наградою за все считаются деньги и для соревнования предлагаются люди порочные, тогда какая надежна на спасение? Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, и склонны к клятвам, и вероломны, и дерзки, и злоречивы, и хищны, и бесстыдны, и наглы, и неблагодарны, и исполнены всех зол. Достоверный свидетель этого блаженный Павел, сказавший, что сребролюбие есть корень всякого зла в жизни (1 Тим.6:10), и прежде него то же изъяснил Христос, возвещая, что порабощенный этой страсти не может служить Богу (Матф.6:24). Итак, если юноша будет увлечен в это рабство с самого начала, то когда он будет в состоянии сделаться свободным, как может избавиться от потопления, если все толкают его, все погружают и усиленно подвергают необходимости потонуть? Если бы без всякого препятствия, если бы при помощи многих, подающих ему руку, он мог подняться, осмотреться и смыть с себя пену порочности, не было ли бы это вожделенно? Не надлежало ли бы хвалить его и тысячекратно украшать венцом и тогда, если бы он, долговременно слушая божественные песнопения, был в состоянии изгнать из себя вторгшиеся недуги? Привычка сильна, способна одолевать и увлекать душу, особенно когда ей содействует удовольствие, а та (добродетель), к которой мы стремимся и стараемся достигнуть, требует от нас много трудов. Поэтому и Бог, когда надлежало потомкам евреев оставить старую привычку к злу, т. е. египетскую, взяв их одних в пустыню и удалив от развратителей сколько можно далее, исправлял души их в пустыне, как бы в каком монастыре, употребляя все способы врачевания, и более тяжелые и более приятные, и не опуская совершенно ничего, что только могло послужить к их исцелению. Однако и при этом они не избегли порочности, но, получая манну, требовали луку и чесноку и всякой мерзости египетской. Такое зло – привычка. Так иудеи, пользовавшиеся таким попечением Божиим, имевшие такого превосходного и доблестного вождя, вразумляемые и страхом, и угрозами, и благодеяниями, и наказаниями, и всяким образом, и видевшие столько чудес, не сделались лучшими: как же, думаешь ты, сын твой в состоянии будет избегнуть сетей диавола, будучи молод, вращаясь среди Египта, или лучше среди диавольского воинства, не слыша ни от кого ни одного полезного совета и видя, что все, а больше всех родители и воспитатели, ведут его к противному? Как? При помощи ли твоих увещаний? Но ты внушаешь ему противное и, не позволяя ему вспомнить о любомудрии даже во сне, напротив постоянно занимая его настоящею жизнью и относящимся к ней, еще более содействуешь его потоплению. Или сам собою? Нет, юноша сам по себе недостаточно силен к подвигам добродетели, а если бы и произвел что-либо доблестное, то оно скоро, прежде, нежели возрастет, заглохнет от наводнения слов твоих. Как тело не может прожить даже малое время, если питается не здоровою, но вредною пищею; так и душа, получая такие внушения, не может никогда помыслить о чем-либо доблестном и великом; но, подвергаясь такому расстройству и расслаблению, постоянно объемлясь порочностью как бы какою заразою, она, наконец, неизбежно низвергнется в геенну и там погибнет.
7. Если же скажешь, что это не так, но что и живущему в мире можно совершать все добродетели, если, не шутя, а обдуманно и действительно будешь говорить это, то не поленись объяснить нам это новое и странное учение, потому что и мне не хотелось бы утруждаться напрасно и подвергать себя таким лишениям. Впрочем, я не могу принять такого учения, и вы сами виной тому, потому что и словами и делами своими противоречите этому мнению и учите противному; вы, как будто нарочито стараясь погубить детей, позволяете им делать все то, делая что невозможно спастись. Взгляни несколько повыше. «Горе вам», сказано (в Писании), «смеющиеся ныне» (Лук.6:25); а вы подаете детям множество поводов к смеху. «Горе вам, богатые» (ст. 24); а вы предпринимаете все меры, чтобы они разбогатели. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» (ст. 26); а вы часто тратите целые имущества для людской славы. Еще: поносящий брата своего «подлежит геенне огненной» (Матф.5:22); а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо переносит обиды от других. Христос повелевает воздерживаться от ссоры и тяжбы, а вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. Он повелел во многих случаях вырывать око, если оно причиняет вред (ст. 29); а вы с теми особенно и вступаете в дружбу, кто может дать денег, хотя бы учил крайнему разврату. Он не позволил отвергать жену, кроме одной только вины – прелюбодеяния (ст. 32); а вы, когда можно получить деньги, позволяете пренебрегать и этою заповедью. Клятву Он запретил совершенно (ст. 34), а вы даже смеетесь, когда видите, что это соблюдается. «Любящий душу свою», говорит (Господь), «погубит ее» (Иоан.12:25), а вы всячески вовлекаете их в эту любовь. «А если не будете прощать людям», говорит Он, «согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф.6:15); а вы даже укоряете детей, когда они не хотят мстить обидевшим и стараетесь скорее доставить им возможность сделать это. Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню, все это делают без пользы (Матф.6:1); а вы всячески стараетесь, чтобы ваши дети достигли ее. Но для чего перечислять все, если уже и сказанные пороки, не только все вместе, но и каждый сам по себе, достаточны для приготовления тысячи геенн? А вы, собрав их все вместе и возложив (на детей) эту невыносимую тяжесть грехов, с нею ведете их в огненную реку; как же они могут спастись, принося столько пищи для огня? И не только то ужасно, что вы внушаете (детям) противное заповедям Христовым, но и то еще, что прикрываете порочность благозвучными наименованиями, называя постоянное пребывание на конских ристалищах и в театрах светскостью, обладание богатством свободою, славолюбие великодушием, дерзость откровенностью, расточительность человеколюбием, несправедливость мужеством. Потом, как будто мало этого обмана, вы и добродетели называете противоположными наименованиями, скромность неучтивостью, кротость трусостью, справедливость слабостью, смирение раболепством, незлобие бессилием, как будто опасаясь, чтобы дети, услышав от других истинное название этих (добродетелей и пороков), не удалились от заразы. Ибо название пороков прямыми и подлинными их наименованиями не мало способствует к отвращению от них: оно может так сильно поражать грешников, что часто многие, отличающиеся бесчестнейшими делами, не переносят равнодушно, когда их называют тем, что они есть на самом деле, но приходят в сильный гнев и зверское раздражение, как будто терпят что-нибудь ужасное. Так, если бы кто бесчестную женщину и развратного юношу назвал по этому постыднейшему пороку, тот сделался бы непримиримым врагом (их), как будто нанесший величайшую обиду. И не только эти люди, но сребролюбец, и пьяница, и гордец, и вообще все, преданные тяжким порокам, как всякий знает, поражаются и оскорбляются не столько самым делом и мнением людским, сколько названием по своим делам. Я знаю много и таких, которые этим способом были образумлены, и от резких слов сделались более скромными. А вы отняли (у детей) и это врачевство и, что еще тяжелее, преподаете им недоброе внушение не только словами, но и делами: строите великолепные дома, покупаете дорогие поместья, окружаете их и прочим блеском, и всем этим, как бы каким густым облаком, омрачаете их душу. Чем же я могу убедиться, что им возможно спастись, когда вижу, что их склоняют к таким делам, за которые Христос возвестил неизбежную погибель, когда вижу, что вы о душе их, как бы о чем-то ненужном, небрежете, а о том, что действительно излишне, заботитесь, как о необходимом и важнейшем? Чтобы был у сына слуга, чтобы был конь, чтобы была самая лучшая одежда, вы делаете все; а чтобы он сам был хорош, об этом и подумать никогда не хотите; но, простирая до такой степени заботливость о деревах и камнях, душу не удостаиваете и малейшей части такого попечения. Чтобы на доме стояла дивная статуя и кровля была золотая, вы все готовы потерпеть, а чтобы драгоценнейшие всякого изваяния – душа была золотая, об этом и помыслить не хотите.
8. Но я еще не сказал о вершине зол, не раскрыл главного нечестия, и хотя много раз приступал к этому со стыдом, но много раз стыдом же и удерживался. Что же это такое? Надобно же, наконец, и об этом сказать. Было бы большою робостью, если бы желающие истребить какое-нибудь зло не смели и слово сказать о нем, как будто молчание само собою исцелит болезнь. Не станем же молчать, хотя бы тысячу раз пришлось нам стыдиться и краснеть. И врач, когда хочет очистить гнилость, не откажется взять в руки нож и вложить пальцы в самую глубину раны: так и мы не откажемся говорить об этом, тем более чем гнуснее эта гниль. Какое же это зло? Какая-то новая и беззаконная страсть вторглась в нашу жизнь; постигла (нас) болезнь тяжкая и неисцелимая, поразила язва, жесточайшая из всех язв; измышлено какое-то новое и нетерпимое беззаконие, потому что нарушаются не только писанные, но даже и естественные законы. Для распутства уже мало любодеяния; и как в болезнях последующее сильнейшее страдание заглушает ощущение предшествовавшей боли, так и чрезмерность этой язвы делает то, что уже не кажется нетерпимым и нетерпимое – разврат с женщиною. Хотят, кажется, иметь возможность избегать этих сетей, и женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменяют отроки. И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полною безопасностью и беззаконие стало законом. Никто уже не опасается и не страшится; никто не стыдится и не краснеет; но еще хвалятся этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие – не здравомыслящими; если они слабы, то подвергаются побоям, а если сильны, то терпят насмешки, поругания и бесчисленные издевательства. Не помогают ни суды, ни законы, ни воспитатели, ни отцы, ни приставники, ни учители: одних успели развратить деньгами, другие имеют в виду только то, чтобы им было жалованье; а из тех, которые добросовестнее и заботятся о спасения вверенных им, одни легко поддаются укрывательству и обманам, а другие боятся силы развратников. Легче спастись заподозренному в тирании, нежели избежать рук этих нечестивцев тому, кто попытался бы удалять от них (детей); так среди городов, как бы в великой пустыне, «мужчины на мужчинах делают срам» (Римл.1:27). Если же некоторые избежали этих сетей, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников; во-первых, потому, что их весьма немного, отчего они легко затмеваются множеством порочных; во-вторых, потому, что сами окаянные и злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им этим способом; не имея сил нанести смертельную рану и поразить самую душу, они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы. Посему многие, слышал я, удивляются, как и теперь не ниспал еще другой огненный дождь, как еще не подвергся участи Содома наш город, достойный наказания тем более тяжкого, что не вразумился и бедствиями Содома. Не смотря на то, что та страна уже две тысячи лет видом своим сильнее, чем голосом, взывает к (людям) всей вселенной, чтобы не дерзали на такую гнусность, они не только не воздерживаются от этого греха, но стали еще бесстыднее, как будто состязаясь с Богом и стараясь показать своими делами, что они тем более будут предаваться этим порокам, чем более Он будет угрожать им. Почему же не произошло ничего такого: грехи содомские совершаются, а содомских наказаний нет? Потому, что их ожидает другой огонь, более жестокий, и наказание бесконечное. Так и жившие после потопа дерзали совершать дела гораздо более нечестивые, нежели погибшие от потопа, однако с того времени не было такого наводнения. И здесь опять та же самая причина; иначе, почему жившие в первые времена, когда и судов не было, и страх пред начальниками не тяготел, не было ни угрожающего закона, ни вразумляющего сонма пророков, ни ожидания геенны, ни надежды царствия, ни другого любомудрия, ни чудес, способных оживить даже камни, – почему люди, не имевшие ничего этого, понесли за свои грехи такое наказание, а получившие все это и живущие под таким страхом судов божеских и человеческих, доныне еще не потерпели одинаково с теми, тогда как они достойны более тяжкого наказания? Не ясно ли и для младенца, что они сберегаются для строжайшего осуждения? Если мы так гневаемся и негодуем, то, как допустит безнаказанно совершать такие дела Бог, Который более всего печется о человеческом роде и крайне отвращается и ненавидит порочность? Этого быть не может, нет! Он непременно наложит на них крепкую руку, нанесет нестерпимый удар и подвергнет мучениям столь жестоким, что бедствия, постигшие Содом, в сравнении с ними покажутся игрушкою. Подлинно, каких варваров, какую породу зверей не превзошли эти люди своею бесстыдною похотью? Бывает у некоторых бессловесных вожделение сильное и похоть неудержимая, не отличающаяся от бешенства, но и они не знают этой страсти, а удерживаются в пределах природы, и, сколько бы ни раздражались, не нарушают законов природы. А эти, одаренные разумом, сподобившиеся божественного учения, преподающие другим, что должно делать и чего не должно, и слышавшие Писания, нисшедшие с неба, не с такою наглостью совокупляются с блудницами, как с отроками. Они с таким неистовством покушаются на все, что будто они не люди, и как будто нет Промысла Божия, бодрствующего и судящего дела, но как будто бы все покрыла тьма, и никто не видит и не слышит этого. А отцы растлеваемых отроков переносят это молча, не зарываются в землю вместе с детьми и не придумывают какого-либо средства против зла. Между тем, если бы надобно было от этого недуга отправить детей на чужбину, на море, на острова, на необитаемую землю, на самый отдаленный от нас край вселенной, не надлежало ли бы сделать и потерпеть все, чтобы не было таких мерзостей? Когда какое-либо селение подвергается болезни и заразе, то не уводим ли мы оттуда детей, хотя бы там предстояло им много выгод, хотя бы сами они были совершенно здоровы? А теперь, когда все объяла такая зараза, мы не только сами влечем их к этим пропастям, но и тех, которые хотят избавить их, отгоняем, как губителей. Какого же гнева, каких громов не достойно это, когда язык их мы стараемся очистить помощью внешнего образования, а душу, лежащую в самой мерзости разврата и постоянно растлеваемую, не только оставляем без внимания, но и препятствуем, когда она хочет восстать? Ужели же осмелится кто-нибудь еще сказать, что живущим в таких пороках можно спастись? Каким образом? Иные, конечно, избежали неистовства развратником (впрочем, таких немного); но и они не избегают тех жестоких и все губительных страстей – корыстолюбия и честолюбия, а большая часть заражена и этими самыми страстями и, в гораздо большей еще степени, сладострастием. Далее, когда мы хотим ознакомить детей с науками, то не только устраняем препятствия к учению, но и доставляем им все, содействующее ему, – приставляем к ним воспитателей и учителей, издерживаем деньги, освобождаем их от других занятий, и чаще, чем приставники на олимпийских играх, твердим им о бедности от не ученья и богатстве от ученья, – делаем и говорим все, и сами и чрез других, чтобы довести их до окончания предпринятого занятия, и при всем том часто не успеваем. А скромность нравов и строгость доблестной жизни, неужели, по вашему мнению, придут сами собою и притом при столь многих к тому препятствиях? Что может быть хуже этого неразумия – на самое легкое обращать столько внимания и забот, как будто бы иначе и нельзя успеть в этом, а о гораздо более трудном думать, что оно, как бы что-нибудь пустое и ничтожное, сбудется и при нашем сне? Но любомудрие души настолько труднее и тяжелее изучения наук, насколько деятельность труднее разглагольствования и насколько дела труднее слов.
9. А для чего, скажешь, нашим детям нужно это любомудрие и строгий образ жизни? Вот это самое и сгубило все, – что дело столь необходимое и поддерживающее нашу жизнь считается излишним и ненужным. Увидев сына больным по телу, никто не скажет: для чего нужно ему доброе и крепкое здоровье? Напротив, всячески постарается привести его в такое благосостояние, чтобы болезнь более не возвратилась; а когда заболевает душа, то говорят: не нужно им никакого лечения, и после таких слов осмеливаются называть себя отцами. Что же, скажешь, неужели всем нам любомудрствовать, а житейским делам погибнуть? Нет, почтеннейший, не преданность любомудрию, а не любомудрие погубило и расстроило все. Кто, скажи мне, расстраивает настоящее положение дел, те ли, которые живут воздержно и скромно, или те, которые выдумывают новые и беззаконные способы наслаждения? Те ли, которые стараются захватить себе все чужое, или те, которые довольствуются своим? Те ли, которые имеют толпы слуг и окружают себя роями льстецов, или те, которые считают для себя достаточным только одного слугу (предполагаю еще не высокое любомудрие, но доступное многим)? Человеколюбивые ли, и кроткие, и не имущие похвалы от народа, или те, которые требуют ее от единоплеменников более всего должного, и делают тысячу неприятностей тому, кто не встанет пред ними, не скажет первый приветствия, не поклонится, не выкажет раболепства? Те ли, которые стараются повиноваться, или те, которые стремятся к власти или начальству и для этого готовы сделать и перенести все? Те ли, которые считают себя лучше всех, и поэтому думают, что им можно говорить и делать все, или те, которые ставят себя в числе последних и этим укрощают безумное своеволие страстей? Те ли, которые строят великолепные дома и предлагают роскошные трапезы, или те, которые не ищут ничего, кроме необходимого пропитания и жилища? Те ли, которые прирезывают себе тысячи десятин земли, или те, которые не считают для себя нужным приобретение и одного холма? Те ли, которые прилагают проценты к процентам и гоняются путем неправды за всяким прибытком, или те, которые раздирают неправедные записи и из своей собственности помогают нуждающимся? Те ли, которые признают немощь человеческой природы, или те, которые не хотят и знать этого, но от чрезмерной гордости даже перестали считать себя людьми? Те ли, которые питают блудниц и оскверняют чужие браки, или те, которые воздерживаются и от своей жены? Первые, не тоже ли в общественной жизни, что опухоли на теле и бурные ветры на море, своею невоздержностью потопляя тех, которые сами по себе могли бы спастись? А последние, как яркие светила среди глубокого мрака, не призывают ли бедствующих среди моря к своей безопасности, и, возжегши вдали на высоте светильники любомудрия, не руководят ли таким образом желающих в спокойную пристань? Не от первых ли возмущения и войны, и ссоры, и разрушения городов, и угнетения, и порабощения, и пленения, и убийства, и бесчисленные бедствия в жизни, не только наносимые людям от людей, но и все (посылаемые) с неба, как-то: засухи, и наводнения, и землетрясение, и разрушения, и потопления городов, и голода, и язвы, и все прочее, что свыше насылается на нас?
10. Так они извращают общественную жизнь и губят общее благо; они причиняют бесчисленные бедствия и другим, беспокоя ищущих спокойствия, развлекая и возмущая их со всех сторон; для них и суды, и законы, и взыскания, и различные роды наказаний. Как в доме, где много больных, а здоровых мало, можно найти много и лекарств и приходящих врачей; так и во вселенной нет народа, нет города, где бы не было много и законов, много и начальников, много и наказаний; потому что лекарства сами по себе не могут восстановить больного, а нужны еще те, которые бы прилагали их; таковы и есть судии, заставляющие этих больных, волею и неволею, принимать врачевание. Однако и при этом болезнь так усилилась, что превзошла самое искусство врачей и вошла в самих судей; и теперь происходит то же, как если бы кто, страдая горячкою, водянкою и множеством других жесточайших болезней, и не одолевая собственных недугов, стал усиливаться избавлять других, одержимых теми же недугами. Так волны пороков, подобно стремительному потоку, разрушив все преграды, вторглись в души людей. Но что я говорю об извращении общественной жизни? Эта язва, занесенная нечестивцами, угрожает истребить во многих даже самое понятие о Промысле Божием: так она распространяется, возрастает, стремится овладеть всем, перевернула все вверх дном и, наконец, восстает против самого неба, вооружая языки людей уже не против подобных им рабов, но и против самого Господа Вседержителя. Откуда, скажи мне, так много речей о судьбе? Отчего многие приписывают все происходящее неразумному течению звезд? Почему некоторые предпочитают счастье и случай? Отчего думают, что все делается без причины и без цели? От тех ли, которые живут скромно и воздержно, или от тех, о которых ты говоришь, будто они поддерживают общественную жизнь, а я доказал, что они общая язва вселенной? Очевидно – от последних. Никто не соблазняется тем, что такой-то любомудрствует и презирает настоящее, но тем, что такой-то богатеет, роскошествует, предан корыстолюбию и хищничеству, что он при своей злобе и бесчисленных пороках блистает и благоденствует. На это ропщут и жалуются неверующие в Бога, этим многие соблазняются, тогда, как по поводу живущих скромно не только не скажут ни одного такого слова, но и стали бы осуждать самих себя, если бы склонялись роптать на Промысл Божий. Если бы все, или даже большая часть людей, захотели так жить, то никто и не подумал бы о подобных речах, и не возникло бы главнейшего из этих зол – исследования о том, откуда зло. Если бы зло не существовало и не обнаруживалось, то кто стал бы отыскивать причину зла и этим изысканием производить бесчисленные ереси? Так и Маркион, и Манес, и Валентин, и большая часть язычников отсюда получили начало. Но если бы все любомудрствовали, то не было бы такого изыскания; напротив, если не из чего другого, то из этого наилучшего образа жизни все узнали бы, что мы живем под властью Царя-Бога, и что Он распоряжается и управляет нашими делами по Своей премудрости и разуму; это, конечно, совершается и теперь, но не легко усматривается вследствие великой мглы, которая распространилась по всей вселенной, а если бы этого не было, то Промысл Божий открылся бы пред всеми, как в светлый полдень и в ясную погоду. Подлинно, если бы не было ни судов, ни обвинителей и клеветников, ни истязаний и пыток, ни темниц и наказаний, ни отнятия имений и потерь, ни страхов и опасностей, ни вражды и козней, ни злословий и ненависти, ни голода и зараз, ни иного чего из перечисленных бедствий, но все жили бы с надлежащею скромностью, тогда кто из всех живущих усомнился бы в Божием Промысле? Никто. А теперь происходит тоже, как если бы во время бури кормчий делал все со своей стороны и старался бы спасти судно, но его ревностное искусство не было бы замечаемо находящимися на судне вследствие смятения, и страха, и беспокойства от угрожающих бедствий. Так и Бог управляет вселенною и теперь, но многие не видят этого вследствие смятения и неустройства в делах, которое эти люди производят больше всех, так что не только извращают общественную жизнь, но вредят и благочестию; и тот не погрешил бы, кто назвал бы общими врагами этих людей, которые живут во вред спасению других, потопляя своими гнусными учениями и нечистою жизнью плывущих вместе с ними.
11. Ничего такого нельзя видеть в монастырях, но хотя бы (в мире) поднялась буря, (отшельники) одни сидят в пристани в спокойствии и великой безопасности, как бы с неба взирая на кораблекрушения других, потому что они избрали образ жизни достойный неба, и пребывают в нем не хуже ангелов. Как между ангелами нет никакого нестроения, нет того, чтобы одни благоденствовали, а другие терпели крайние бедствия, но все одинаково наслаждаются миром, радостью и славою; так и здесь, никто не жалуется на бедность, никто не превозносится богатством: это – твое, а это – мое, – такое разделение, извращающее и смущающее все дела, изгнано отсюда, все у них общее – и трапеза, и жилище, и одежда. И что удивительного в этом, когда и самая душа у всех одна и та же? Все они благородны одинаковым благородством, рабы одинаковым рабством, свободны одинаковою свободою; одно там у всех богатство – истинное богатство, одна слава – истинная слава, потому что блага их не в названиях, а в делах; одно удовольствие, одно стремление, одна надежда у всех; все у них благоустроено как бы по мере и весу, и нет никакой неправильности, но – порядок, стройность и гармония, самое точное согласие и постоянное соблюдение благодушия. Посему все они и делают и терпят все для того, чтобы им благодушествовать и радоваться. Только там и можно находить это в чистом виде, а в другом месте нигде, не оттого только, что у них презирается настоящее, устранен всякий повод к несогласию и вражде и имеются светлые надежды на будущее, но и оттого, что случающиеся с каждым скорби и радости считаются для всех. И скорбь проходит легче, когда все согласно помогают каждому нести бремя; и для благодушия много поводов имеют те, которые радуются не своему только благополучию, но и чужому не менее, как и своему. Так и у нас – как пошли бы дела, если бы все мы стали подражать им? Теперь они пропадают и расстроены от тех, которые далеко уклонились от такого образа жизни. А ты, утверждая противное, делаешь то же, как если бы кто хорошо настроенную лиру стал охуждать, как негодную, а испорченную чрезмерным напряжением или ослаблением (струн) назвал годною и для игры и для увеселения зрителей. Но как по отношению к говорящему это мы не стали бы искать другого еще доказательства невежества его в музыке, так и по отношению к утверждающим вышесказанное не нужно другого яснейшего доказательства их недоброжелательности и ненависти к людям. А что говорят отцы более скромные? Пусть, говорят они, дети прежде займутся науками и, усовершенствовавшись в красноречии, потом уже и переходят к этому любомудрию: тогда никто не будет препятствовать. Но откуда известно, что они непременно достигнут мужеского возраста? Многие скончались, подвергшись преждевременной смерти. Впрочем, пусть это будет так; положим, что они достигнут возмужалости возраста: кто поручится за весь предшествующий возраст? Не желая спорить, я скажу, что если бы кто представил надежное в том ручательство, то я не вывел бы (в пустыню) приобретших такое искусство, напротив тогда особенно и посоветовал бы им оставаться (в городе) и не похвалил бы тех, которые стали бы склонять их к бегству, но отнесся бы к ним как врагам общественной жизни, так как, срывая светильники и унося светила из города в пустыню, они лишили бы живущих там величайших благ. Но если никто не будет обещать этого, то какая польза посылать (детей) к учителям, где они научатся прежде красноречия порокам, и, желая приобрести менее важное, потеряют важнейшее – силу души и все доброе настроение. Так что же? Разрушить нам, скажут, училища? Я не говорю этого, но (говорю) о том, как бы нам не разрушить здание добродетели и не заглушить живой души. Когда душа целомудренна, тогда не будет никакой потери от незнания красноречия; а когда она развращена, тогда бывает величайший вред, хотя бы язык был весьма изощрен, и тем больший, чем больше это искусство; ибо порочность в соединении с искусством в слове производит гораздо худшие беды, чем необразованность. А если, скажешь ты, они, удалившись туда, при необразованности языка не будут иметь и добродетели? А если, скажи мне, они, оставаясь в городе, при развращении души, не приобретут в школе никакого красноречия? Мне позволительнее будет сказать это, нежели тебе твое. Почему? Потому что, хотя то и другое, как будущее, не известно, но твое более сомнительно. Как и почему? Потому что для надлежащего занятия красноречием нужна добрая нравственность; а добрая нравственность не нуждается в пособии красноречия. Можно быть целомудренным и без этого знания, но никто никогда не приобретет силы красноречия без добрых нравов, проводя все время в пороках и распутстве. Таким образом, чего ты боишься там, того же должно бояться и здесь, и здесь тем больше, чем чаще неудачи и чем высшему угрожает опасность. Там нужно заниматься только одним, а здесь предстоит овладеть двумя предметами, так как невозможно приобрести одного без другого, – без благонравности изучить красноречие. Но, если хочешь, предположим, невозможное возможным: что будет нам доброго от знания красноречия, когда у нас будет поражено самое существенное? И что худого от незнания, когда у нас, исправно самое важное? И это признано не только у нас, которые смеемся над внешнею мудростью и почитаем ее буйством (1 Кор.3:19), но даже у самих внешних философов. Посему многие (из них) не очень заботились об этом знании, а другие и совсем пренебрегли им и до конца остались неудачными и, посвятив всю свою жизнь нравственной части философии, сделались весьма знаменитыми и славными. Так Анахарсис, Кратис и Диоген нисколько не заботились об этом искусстве; а некоторые говорят тоже и о Сократе, и это может засвидетельствовать нам тот, кто более всех отличался в этом искусстве и точнее других знал дела его. Введя Сократа в судилище для оправдания, в защитительной речи пред судьями, (Платон) представил его говорящим так: «Афиняне, вы услышите от меня всю правду, клянусь Зевсом, а не речи, расцвеченные и разукрашенные, подобно речам судей, отменными выражениями и словами; нет, вы услышите речь, изложенную просто и прямо, словами, какие случатся; ибо я уверен в справедливости того, что говорю, и никто из вас пусть не ожидает чего-нибудь другого; и с моим возрастом несообразно было бы явиться пред вами подобно юноше, сочиняющему речи» [7 - Философ Платон в сочинении «Апология Сократа».]. Этими словами он показал, что не учился красноречию и не пользовался им, не по лености, но потому, что не считал его важным. Итак, красноречие не дело философов, и вообще мужей, – а предмет честолюбия для забавляющихся юношей, как думают и сами философы, не только прочие, а даже и тот, который в этом превзошел всех; и он не допускает своему учителю украшаться этим искусством, считая такое украшение постыдным для философа. Эти примеры справедливо было бы привести для неверующего, но еще более – для верующего. Не странно ли, что те, которые гонятся за похвалами толпы и не могут ничем другим отличиться, как только внешнею мудростью, считают ее за ничто, а мы так восхищаемся и увлекаемся ею, что ради нее пренебрегаем самым необходимым?
12. Итак, для неверующего довольно этих примеров, а для верующего, кроме этих, необходимо привести и наши примеры. Какие же? Тех великих и святых мужей, из которых у первых не было грамотности, у последующих – была грамотность, но еще не было искусства красноречия, а у позднейших была и грамотность, и искусство красноречия. Первые не знали ни того ни другого, потому что не учились не только красноречию, но и самой грамоте: однако же, в тех самых случаях, в которых особенно необходима, кажется, сила красноречия, они так превзошли самых сильных в нем, что эти оказались хуже неразумных детей. Если сила убеждения заключается в красноречии, и, однако, философы не убеждают ни одного тирана, а люди некнижные и простые обращают всю вселенную; то, очевидно, торжество мудрости принадлежит простым и некнижным, а не изучившим то и другое искусство. Так, истинная мудрость и истинное образование есть не что иное, как страх Божий. И пусть никто не думает, будто я узакониваю, чтобы дети оставались невеждами; нет, если кто поручится на счет самого необходимого, я не стану препятствовать, чтобы у них было в избытке и это искусство. Как тогда, когда колеблются основания и весь дом со всем зданием находится в опасности упасть, было бы крайне бессмысленно и безумно – бежать к красильщикам, а не к строителям; так и тогда, когда стены стоят твердо и крепко, было бы неуместным упрямством препятствовать желающему окрасить их. А что я говорю это от души, расскажу вам теперь то, что я познал на деле. Один юноша, очень богатый, поселился некогда в нашем городе для изучения латинской и греческой словесности. Этот юноша имел при себе воспитателя, у которого было одно только дело – образовать его душу. Пришедши к этому воспитателю (он был из числа живущих в горах), я попытался узнать, по какому поводу он, посвятивший себя этой мудрости, вступил в жизнь воспитателя. Он сказал, что ему остается немного времени (провести) в этом занятии, и рассказал нам все предшествовавшее. «У этого юноши, говорил он, отец суров и жесток и предан житейским делам; а мать – благонравная, рассудительная, строгая и стремящаяся только к небу. Отец, как оказавший много заслуг на войнах, хочет устроить сына в своем звании, а мать не хочет этого и не соглашается и даже сильно противится; она молится и желает видеть сына сияющим в монашеской жизни. Но сказать это отцу она не посмела, потому что боялась, как бы он, заметив это, заранее не связал сына житейскими узами и, отвлекши его от того намерения, не облек его в воинскую одежду со всею ее суетностью, и не сделал затем для него невозможною жизнь подвижническую. Посему она придумывает другое средство: призвав меня к себе в дом и сообщив все это, она, взяв правую руку отрока, влагает ее в мои руки. Когда же я спросил, для чего делает это? Она сказала, что нам остается одно средство к спасению сына, если я пожелаю и соглашусь в качестве воспитателя взять отрока и придти сюда; а она убедит отца, что если (сын) изберет и воинскую жизнь, для него, однако, будет полезно изучение красноречия. Если я, говорила она, успею в этом, ты, живя с ним одним на чужбине и не встречая противодействия ни от отца, ни от кого-либо из родных, будешь иметь возможность образовать его с полною свободою, и настроить его жить так, как бы в монастыре; согласись же и обещай содействовать мне в этом деле. Забота у меня не о маловажном; я беспокоюсь и опасаюсь за душу моего отрока. Не пренебреги же опасным положением того, кто для меня любезнее всего, но исхить его из сетей, бури и волнения, которые уже со всех сторон окружают его. Если же ты не хочешь оказать эту милость, то призываю Бога в посредники между нами, и свидетельствую, что я не опустила ничего надлежащего для спасения души его, и чиста от крови этого отрока; и если случится ему потерпеть что-либо, свойственное человеку молодому, живущему в роскоши и рассеянности, то от тебя и твоих рук взыщет Бог в тот день душу этого отрока. Сказав это и еще многое другое, и заплакав сильно и горько, она убедила меня принять на себя этот труд, и с такими внушениями отпустила». И не тщетно было придуманное ею средство: благородный воспитатель в короткое время так настроил отрока, и такой возбудил в нем огонь ревности (к подвигам), что он вдруг бросил все и убежал в пустыню, и нужна была другая мера, чтобы расположить его от усиленного подвижничества к умеренному, потому что была опасность, как бы он, такою ревностью прежде времени обнаружив придуманное дело, не возбудил жестокой войны против матери, и воспитателя и всех монахов. Ведь если бы отец узнал о его бегстве, то не преминул бы употребить все меры к тому, чтобы разогнать святых мужей, не только тех, которые приняли сына его, но и всех прочих. Встретив такого сына и сказав ему это и многое другое, я постарался сохранить в нем и даже еще более усилил расположение к любомудрию, но предложил ему жить в городе и заниматься науками, чтобы таким образом принести величайшую пользу сверстникам и укрыться от отца. А это я считал необходимым не только для тех святых, и для матери, и для воспитателя, но и для самого отрока. Если бы отец удержал его в самом начале, то, вероятно, потряс бы в нем ростки любомудрия, еще нежные, только что насажденные; но когда пройдет много времени и они хорошо укоренятся, тогда, – я твердо был уверен – что бы ни случилось, отец не в силах будет повредить сыну: так действительно, и произошло, и надежда не обманула меня. Когда отец, по прошествии уже долгого времени, приступил к нему и нападал с великою силою, то не только не поколебал этого здания, но обнаружил в нем большую крепость; и многие из товарищей его получили столько пользы от общения с ним, что сделались его соревнователями. Между тем он, имея постоянно при себе руководителя, подобно статуе тщательно обделываемой рукою художника, с каждым днем более и более усовершенствовал свою душевную красоту. И вот что удивительно: являясь вне дома, он, по-видимому, ничем не отличался от других, потому что и в обращении не был груб и суров, и одежды необычной не носил, но и по виду, и по взгляду, и по голосу, и по всему прочему был таков же, как и все. Поэтому и мог он многих из своих собеседников уловлять в свои сети, скрывая внутри себя великое любомудрие. А если бы кто увидел его дома, то подумал бы, что это – один из живущих на горах (отшельников); потому что и дом у него устроен был точно как монастырь, не заключая в себе ничего, кроме необходимого. Время у него все употреблялось на чтение священных книг; быстро усваивая науки, он внешнему учению уделял малую часть дня, а все остальное время занимался непрестанными молитвами и божественными книгами, и по целому дню оставался без пищи и даже не по одному и не по два только, но и больше. И ночи были у него свидетелями тех же слез и молитв и того же чтения. Все это пересказал нам воспитатель тайно, потому что отрок был недоволен, если узнавал, что какой-нибудь из подвигов его обнаружен; притом он говорил, что отрок и одежду сделал себе из волос, и в ней спал по ночам, нашедши в ней мудрое средство к тому, чтобы скорее вставать от сна. И (все) прочее делалось у него в точности как у монахов, и постоянно прославлял он Бога, даровавшего ему столь легкие крылья любомудрия. Итак, если бы и теперь кто показал мне такую душу и представил такого воспитателя и обо всем прочем обещал столько же позаботиться, я в тысячу раз больше самих родителей пожелал бы, чтобы дело слагалось так. Улов был бы у нас обильнее, когда бы подобные люди, и своею жизнью, и возрастом, и постоянным обращением уловляли своих сверстников. Но нет никого, кто бы обещал это и сделал; а если нет, то было бы безмерною жестокостью оставить того, кто не может защищать самого себя, но лежит пораженный бесчисленными ранами и на других наводит уныние, терзаться среди битвы, вместо того, чтобы вынести его оттуда. Так и военачальника наказали бы, когда бы он способных сражаться выводил из строя, а раненым и лежащим, которые и других приводят в смятение, приказывал постоянно лежать на месте.
13. Но так как многие из отцов настоятельно желают видеть каждый своего сына занимающимся красноречием, как бы точно зная, что сын непременно достигнет совершенства в красноречии; то мы не станем спорить об этом и говорить, что он не будет иметь успеха, даже уступим на словах, что он непременно окончит учение и достигнет совершенства. Но пусть будут нам предложены на выбор два дела: или пусть сын, посещая училища, старается изучать науки, или пусть в пустыне (печется) о душе; в чем лучше, скажи мне, успевать? Если бы возможно было в том и другом, то этого и я желаю; но если одно из двух останется недостижимым, то лучше избрать превосходнейшее. Так, скажут на это; но откуда нам известно, что он там останется и устоит, а не падет? Многие уже пали. – А откуда известно, что он не останется и не устоит? Многие уже устояли, и таких больше, чем павших, так что надобно более надеяться из-за этих, нежели бояться из-за тех. А почему ты не боишься того же самого и по отношению к науке, где, в особенности следовало бы бояться? Между монахами из многих не достигли цели немногие, а в занятиях науками из многих успели немногие. И не поэтому только, а и по многим другим причинам справедливо можно более бояться касательно последнего. Здесь неспособность отрока, и неопытность учителей, и небрежность воспитателей, и недосуг отца, и недостаток средств на издержки и жалованье, и разность нравов, и порочность, и зависть, и ненависть товарищей, и многое другое препятствует дойти до конца. И не только эти, но и по окончании – еще другие большие (беды); потому что, когда он, преодолев все и не потерпев поражения ни от одного из этих препятствий, достигнет до самого верха образования, опять встречаются другие препоны. Здесь и неприязнь начальника, и зависть сослуживцев, и неблагоприятные обстоятельства времени, и недостаток друзей, и бедность часто удаляют от цели. Но у монахов не так: им нужно только одно – благородная и добрая ревность; и если это есть, тогда ничто не воспрепятствует достигнуть совершенства в добродетели. Посему, не справедливо ли – там, где прекрасные надежды ясны и близки, отчаиваться и бояться, а там, где ожидается противное, в отдаленности и с многочисленными препятствиями, не отчаиваться, а смело надеяться, не взирая на большую очевидность и многочисленность затруднений? В отношении к наукам смотреть не на случающиеся часто неприятности, но на добрые, редко бывающие, последствия, а в отношении к монахам поступать напротив, и там, где надежд на доброе много, устремлять взор только на печальное, а там, где ожидается противное, обращать внимание только на добрые последствия? Между тем там, когда даже сойдутся все благоприятные обстоятельства, часто преждевременная смерть постигает борца у самой цели, и уносит его, после бесчисленных подвигов, не увенчанным; а здесь, хотя бы (смерть) случилась среди самых подвигов, он тогда именно и отходит особенно славным и увенчанным. Итак, если ты боишься за будущее, то больше должно бояться в отношении к наукам, где много препятствий к достижению конца; в этом деле ты долгое время остаешься в ожидании, и не смотришь ни на какие встречающиеся препятствия, ни на издержки, ни на трудность занятий, ни на сомнительность успеха, но только на конец; а здесь, когда отрок не вступил еще и в преддверие, еще и не коснулся этого прекрасного любомудрия, ты уже боишься, трепещешь и впадаешь духом в отчаяние! Между тем, сам же ты прежде говорил: «что же, разве живущему в городе и имеющему дом нельзя спастись?» Так, если можно спастись в городе, имея дом и жену, то гораздо более – без жены и без прочего. Непозволительно одному и тому же человеку – то быть уверенным, что спасение возможно и для того, кто связан житейскими делами, то бояться и трепетать за того, кто будет свободен от всего, как будто без этого невозможно вести доблестную жизнь. Если и живущий в городе мог бы спастись, как ты говоришь, то гораздо более удалившийся в пустыню. Как же ты боишься невозможности здесь, а не боишься ее там, где больше следовало бы бояться ее?
14. Но скажет кто-нибудь, не одно и то же – погрешит ли мирянин, или навсегда посвятивший себя Богу; так как не с одной высоты падают оба они, то и раны у них не одинаковы. Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха; разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет, во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога, и взирающий на женщину «с вожделением», будет ли он тем или другим, одинаково будет наказан за это прелюбодеяние (Матф.5:22, 28). Если же можно прибавить что-нибудь по соображению, то – мирянин менее извинителен в этой страсти; потому что не все равно, тот ли прельстится красотою женщины, кто имеет жену и пользуется этою утехою, или будет уловлен этим грехом тот, кто вовсе не имеет такой помощи (против страсти). Также клянущийся, будет ли он тем или другим, одинаково будет осужден, потому что Христос, когда давал касательно этого повеление и закон, не сделал такого различения и не сказал: если клянущийся будет монах, то клятва его от лукавого, а если не монах, то нет, а просто и вообще всем сказал: «а Я говорю вам: не клянись вовсе» (Матф.5:34). И еще сказав: «горе вам, смеющиеся ныне» (Лук.6:25), не прибавил: монахам, но вообще всем положил это правило; так Он поступил и во всех прочих, великих и дивных повелениях. Когда напр. Он говорит: «блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду», несущие за Него от внешних (неверующих) упомянутые и неупомянутые поношения (Матф.5:3-11), то не приводит названия ни мирянина, ни монаха: такое различение привнесено умом человеческим. Писания же не знают этого, но желают, чтобы все жили жизнью монахов, хотя бы и имели жен. Послушай, что говорит и Павел (а когда говорю о Павле, говорю опять о Христе). Павел же, в послании обращаясь к людям, имеющим жен и воспитывающим детей, требует от них всей строгости жизни, свойственной монахам. Так, устраняя всякую роскошь и в одежде и в пище, он пишет такие слова: «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою» (1Тим.2:9); и еще: «сластолюбивая заживо умерла» (1Тим.5:6); и еще: «имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6:8). Чего еще больше этого можно было бы требовать от монашествующих? А, научая других удерживать язык, он опять постановляет строгие правила, такие, которые исполнить трудно и монахам, потому что устраняет не только срамные и глупые речи, но и шутовские, изгоняет из уст верных не только ярость, и гнев, и обиду, но и крик: «всякое», говорит, «раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф.4:31). Или мало тебе кажется этого? Подожди и услышишь гораздо больше о том, что Он заповедует всем о незлобии. «Солнце», говорит, «да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4:26), «смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем» (1Фесс.5:15); и еще: «не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим.12:21). Видишь ли доходящую до самой вершины степень любомудрия и долготерпения? Послушай также, что заповедует он о любви – главе добродетелей: поставив ее выше всего и сказав о ее действиях, он объяснил, что от мирян он требует той же любви, какой (требовал) Христос от учеников. Как Спаситель сказал, что самая высшая степень любви состоит в том, чтобы душу свою полагать за друзей своих (Иоан.15:13); так и Павел выразил то же самое, сказав: «не ищет своего» (1 Кор.13:5), и к такой-то любви заповедал стремиться; так что, если бы только это одно было сказано, было бы достаточно для доказательства, что и от мирян требуется то же самое, что от монахов, потому что любовь есть связь и корень многих добродетелей, а Павел излагает ее и по частностям. Чего же можно требовать больше этого любомудрия? Когда он повелевает быть выше и гнева, и ярости, и крика, и любостяжания, и чревоугодия, и роскоши, и тщеславия и прочего житейского и не иметь ничего общего с землею; когда заповедует «умертвите земные члены ваши» (Колос.3:5), то, очевидно, требует от нас такой же строгой жизни, какой (требовал) от учеников Христос, и желает, чтобы мы были так же мертвы для грехов, как умершие и погребенные. Посему и говорит: «умерший освободился от греха» (Рим.6:7). А в иных местах он увещевает нас подражать Христу, а не только ученикам Его; так, когда убеждает нас к любви, к не злопамятству и кротости, то приводит в пример Христа. Итак, если (Павел) повелевает подражать не монахам только и даже не ученикам, но самому Христу, и не подражающим назначает величайшее наказание, то почему ты называешь их высоту большею? Всем людям должно восходить на одну и ту же высоту; то именно и извратило всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующему нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить беспечно. Нет, нет, от всех нас требуется, говорит он, одинаковое любомудрие: это весьма хотел бы я внушить; или – лучше – не я, но Сам тот, кто будет судить нас. Если же ты еще удивляешься и недоумеваешь, то вот мы опять почерпнем для слуха твоего из тех же источников, чтобы тебе совершенно омыться от всякой нечистоты неверия. Я представлю доказательство от наказаний, имеющих быть в тот день (суда). Богач не за то много наказан, что был жестоким монахом, но – если можно сказать нечто в пояснение, – за то, что, будучи мирянином и живя в богатстве и пурпуре, презирал Лазаря в крайней бедности. Впрочем, не скажу ни того, ни другого, а только то, что он был жесток и за это терпел тягчайшие муки в огне. И девы за то, что не имели человеколюбия, были отвержены от брачного чертога; и, если можно прибавить нечто и от себя, наказание им не только не было усилено за девство их, но, может быть, еще смягчено за это; ибо они не услыхали: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Матф.25:41), но только: «не знаю вас» (Матф.25:12). Если же кто скажет, что то и другое одинаково, – противоречить не стану; потому что я стараюсь теперь доказать, что жизнь монахов не делает наказаний более тяжкими, но что и миряне подвергаются тем же самым наказаниям, если грешат одинаково с ними. Так и одетый в нечистую одежду (Матф.22:1-13) и требовавший (с должника) сто динариев (Матф.18:23–34) потерпели постигшие их беды не за то, что были монахи, но первый погиб за блудодеяние, – а последний за злопамятство. Если кто посмотрит и на других, которые будут тогда наказаны, то увидит, что они подвергаются наказанию только за грехи. Это можно заметить не только в наказаниях, но и в увещаниях. Так, (Господь), говоря: «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф.11:28,29), говорит это не одним только монашествующим, но всему человеческому роду. И когда он повелевает идти тесным путем (Лук.13:24), то обращает речь не к ним только одним, но ко всем людям; одинаково всем заповедал Он ненавидеть душу свою в мире сем (Иоан.12:25) и все прочее тому подобное. Когда же Он говорит не ко всем, и не закон преподает, то Сам же и объясняет нам это. Так, говоря о девстве, Он присовокупил: «кто может вместить, да вместит» (Матф.19:12); не сказал: всякий, не преподал этого в качестве заповеди. Так и Павел, который везде является подражающим Учителю, коснувшись этого предмета, сказал: «относительно девства я не имею повеления Господня» (1 Кор.7:25). Итак, впредь думаю, и самый склонный к спорам и бесстыдный не будет отвергать, что и мирянину и монаху должно достигать одинаковой высоты, и что оба они, в случае падения, получат одинаковые кары.
15. Ясно доказав это, исследуем теперь и то, кто легче и скорее может пасть. Впрочем, здесь не нужно нам и исследования. Хотя сохранение целомудрия легко для человека женатого, как пользующегося великою утехою, – в отношении к прочим добродетелям и для него это оказывается не очень (легким), – однако, и здесь мы видим падающими больше женатых, нежели монахов. Не столько выходят из монастырей для вступления в брак, сколько от брачного ложа уходят к блудницам. Если же (миряне) так часто падают в том, против чего им легко бороться, то что им делать с прочими страстями, которыми они возмущаются более, нежели монахи? На этих, конечно, сильнее нападает похоть, так как они не имеют общения с женщинами; но прочие страсти могут и не приближаться к ним, тогда как мирян сильно преследуют и поражают в самую голову. Если же монахи и в том, в чем сильнее бывает у них борьба, побеждают легче, нежели люди, не подвергающиеся такой борьбе, то они очевидно гораздо легче последних устоят против прочих страстей, которыми они не возмущаются. Так корыстолюбие и страсть к удовольствиям и власти и всему прочему обыкновенно гораздо легче преодолеваются ими, нежели мирянами. Как на войне и в сражении мы называем более легкою не ту часть борьбы, где мертвые падают часто и один за другим, но ту, где падают редко и немногие: так надобно судить и об этом предмете. Корыстолюбие легче преодолеет не тот, кто вращается среди мира, но тот, кто пребывает в горах; первый легко и побеждается им, а побежденного корыстолюбием, надобно причислять к идолослужителям (Колос.3:5). Последний, если имеет деньги, не захочет оставить без пособия и родных своих, но с охотою отдаст им все, между тем как первый не только оставит их без внимания, но и обидит не меньше чужих: а это уже другой род идолослужения, тяжелее первого. И надобно ли исчислять все прочее, что монашествующими легко побеждается, а мирян низлагает с великою силою? Как же ты не боишься и не трепещешь, вводя (сына) в такую жизнь, в которой он скоро может быть побежден пороками? Или тебе кажется делом маловажным служить идолам, быть хуже неверных, отрицаться делами от служения Богу, – чему всему скорее подвергнутся люди, привязанные к миру, нежели монахи? Не видишь ли, что тот страх твой – пустой предлог? Если уже надобно бояться, то не за тех, которые избегают волнений и поспешают к пристани, но за тех, которые носятся по волнам среди вихря и бури. Здесь скорее могут быть кораблекрушения, оттого, что и волнений больше, и те, кому предстоит бороться, беспечнее; а там и волн таких нет, и великая тишина, и усердия больше в тех, которые должны бороться. Поэтому мы и привлекаем (других) в пустыню, не для того, чтобы они только облеклись во власяницу, надели на себя вериги и посыпались пеплом, но чтобы, прежде всего другого, избегли пороков и предались добродетели. Что же, скажут, неужели все женатые погибнут? Не это говорю я, но то, что им, если захотят спастись, предстоит больше трудов, по неизбежной необходимости, – потому что несвязанному легче бежать, нежели связанному. Но получит ли он и большую награду и блистательнейшие венцы? Нет; потому что он сам налагает на себя эту необходимость, между тем как можно бы и не налагать. Итак, когда у нас ясно доказано, что мы подлежим ответственности одинаковой с монахами, пойдем и сами по удобнейшему пути и сыновей поведем по нему; а не станем, как враги и неприятели, потоплять их и увлекать в бездны порочности. Если бы это делали другие, было бы не так ужасно; но когда родители, испытавшие все житейское и на самом деле узнавшие, как пусты настоящие удовольствия, доходят до такого безумия, что влекут к ним других, так как им самим возраст уже не позволяет (предаваться им), и, когда им следовало бы укорять самих себя за прежнее, ввергают туда же и других, и притом – находясь уже близ смерти, суда и тамошних истязаний; то какое останется для них оправдание, какое прощение, какая милость? Они будут наказаны не только за свои грехи, но и за влияние на детей, успеют ли они довести их до падения, или нет.
16. Но, может быть, вы хотите видеть детей от детей? Как же это, когда вы сами еще не сделались (истинными) отцами? Не рождение делает таким отцом: с этим согласятся и сами родители, которые, видя детей своих дошедшими до крайней порочности, отвергают и чуждаются их, как бы не своих, и ни природа, ни рождение и ничто другое, тому подобное, не может удержать их от этого. Пусть же они и не считаются отцами тех, которые далеки от любомудрия; но когда родят их, таким образом, тогда пусть и ожидают себе внуков, потому что тогда только и смогут они увидеть их. Дети их суть те, «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан.1:13). Эти дети не заставляют отцов беспокоиться ни о деньгах, ни о браке и ни о чем-либо другом подобном, но, оставив их свободными от всякой заботы, доставляют им большее наслаждение, чем каким пользуются плотские отцы. Они и рождаются и воспитываются не так, как те, но гораздо лучше и блистательнее; потому и радуют родителей более. Кроме того, сказал бы я и то, что неверующим в воскресение естественно плакать о детях, так как для них и остается одно только это утешение; но мы, которые смерть почитаем сном и научены презирать все здешнее, удостоимся ли какого-либо прощения, если станем плакать о них и будем стараться о том, чтобы видеть детей и оставить их здесь, откуда сами стремимся удалиться и где, пребывая, воздыхаем? Впрочем, это сказано нами для людей более духовных. А тем, которые любят плоть и очень привязаны к настоящей жизни, я сказал бы, что, во-первых, неизвестно, будут ли непременно дети после брака; во-вторых, если и будут, то от них будет горя больше, потому что мы получаем не столько радости, сколько скорби от ежедневных забот, беспокойств и опасений за них. Но кому, скажут, оставим мы поля, дома, рабов и золото (они, как я слышу, и об этом плачут)? Тому, кто и прежде имел (право) наследовать их, а теперь тем более чем более надежным будет он теперь и хранителем и обладателем их. Тогда многое могло вредить этим благам: и тля, и долговременность, и разбойники, и клеветники, и завистники, и неизвестность будущего, и непостоянство людей, и, наконец, смерть могла лишить сына и денег, и этих имений; а теперь он сложил свое богатство выше всего этого, нашедши место безопасное, куда ничто из сказанного достигнуть не может. Именно небо есть такое место, которое недоступно никакому нападению, плодоноснее всякой земли, и сложившим в нем свои богатства дает пожинать плоды их в великом изобилии. Посему не теперь надлежало бы говорить так, но когда бы сын намеревался быть человеком мирским, тогда (надлежало бы) плакать и говорить: кому оставим мы поля, кому золото, кому прочее имущество? Теперь у него столь много власти над богатством, что он не лишится обладания им даже и по отшествии отсюда, но тогда особенно и будет наслаждаться выгодами от богатства, когда отойдет отсюда. Если же хочешь еще здесь видеть сына господином имущества, то и этого скорее можно ожидать от монаха, нежели от мирянина. Кто, скажи мне, бывает более господином богатства: тот ли, кто издерживает и раздает его с великою щедростью, или тот, кто от скупости не смеет и прикоснуться к нему, но зарывает его и воздерживается от своего, как бы от чужого? Тот ли, кто тратит безрассудно и напрасно, или кто делает это надлежащим образом? Тот ли, кто сеет на земле, или кто делает это на небе? Тот ли, кому не позволяется раздать все свое, кому он захочет, или кто свободен от всех требователей разных поборов? К земледельцу и торговцу многие приступают со всех сторон, принуждая платить подати и требуя каждый своей доли; но кто желает подавать нуждающимся, к тому никто ни откуда не явится с подобными требованиями, так что он и здесь более бывает господином (своего богатства). Неужели того, кто расточал бы имение на блудниц, на чревоугодие, на тунеядцев и льстецов, позорил бы свою честь, терял бы спасение и делался бы достойным посмеяния, ты назовешь господином расточаемого, а того, кто издерживает свое имущество с великим благоразумием, для истинной славы и пользы и на угодное Богу, ты не назовешь таким? Тогда ты сделаешь то же, как если бы, видя кого-нибудь бросающим свои имущества в водосточные канавы, назвал его господином их, а употребляющего их на необходимые нужды стал бы оплакивать, как бы не имеющего власти над издерживаемым. А лучше сказать, таковых людей надобно сравнивать не с теми, которые просто тратят (свое имение), но с теми, которые тратят на зло своим головам, потому что те издержки делают человека более знатным, более достаточным и более безопасным, а эти подвергают не только стыду и позору, но и неизбежной погибели.
17. Но, скажут, разве после брака и рождения детей нельзя посвятить себя любомудрию, достигши глубокой старости? А кто нам поручится, во-первых, что мы достигнем глубокой старости, и, во-вторых, что, достигши ее, непременно сохраним это намерение? Мы не властны в пределах жизни, чему учит и Павел, когда говорить: «что день Господень так придет, как тать ночью» (1Фесс.5:2); и наши мысли не остаются всегда в одинаковом настроении. Посему и премудрый дает такое увещание: «не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день: ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения» (Сир.5:8,9). Но если бы даже и не было такой неизвестности, и тогда не следовало бы откладывать дела с сыновьями и опускать из вида, сколько от этого бывает вреда. Подлинно, крайне было бы безрассудно, когда юноша нуждается в помощи и когда ему угрожает сильный враг, приказывать ему погружаться в житейские дела, так что он легко может быть побежден (врагом), а когда он получит тысячи ран и не будет уже на нем ни одного здорового места, тогда вооружать и возбуждать его, уже лежащего и изнемогшего. Да, скажут, тогда и легка борьба, тогда и удобна битва, когда погаснут похоти. Но какая уже борьба тогда, когда никто не вступает в борьбу с нами? За это не будет потом и венцов светлых; ибо «благо человеку, когда он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит» (Плач.3:27,28). Тот достоин бесчисленных похвал, прославлений и почестей, кто обуздывает беснующуюся природу и спасает ладью во время самой жестокой бури. Впрочем, не будем спорить об этом; пусть будет отсрочена борьба, если хочешь. Но, если бы от нас зависело время борьбы, можно было бы ожидать старости; если же надобно человеку бороться в течение всей настоящей жизни, начиная с самого юного возраста, или с десяти лет (ибо с этого возраста надлежит давать отчет за грехи, как показывает пример отроков, пожранных медведями за насмешки над Елисеем), и притом бороться с того возраста, в котором воздвигается против нас сильнейшая война, то почему ты назначаешь для подвигов время старости? Если бы ты властен был приказать и диаволу, чтобы он не нападал и не вступал в борьбу, то этот совет твой имел бы некоторый смысл; но если ему ты предоставляешь действовать и поражать, а мне повелеваешь оставаться спокойным, или даже добровольно преклоняться пред ним, что может быть хуже этой обиды – в то самое время, когда враг неистовствует, обезоруживать того, на кого он нападает, и таким образом предавать в его руки? – Но сын молод и слаб? Потому-то он и нуждается в большей безопасности, а, нуждаясь в безопасности, имеет нужду и в большем попечении. Такому человеку надобно быть всегда в тишине и спокойствии, не вмешиваться в (мирские) дела и вращаться в той среде, где много шума и смятения. А ты этих самых, для кого борьба особенно тяжела и по их возрасту, и по слабости, и по неопытности, и по рассеянности среди мира, влечешь в мир, как будто уже опытных и крепких, и не позволяешь им уйти подвизаться в пустыне, подобно тому, как если бы кто человеку, который может одержать тысячи побед, приказывал размышлять о делах военных в бездействии, а неопытного, который не может и взглянуть на сражение, по этому самому заставлял бы быть в сражении, ввергая его в крайние затруднения в этом неисполнимом деле. Притом надобно знать и то, что по вступлении в брак нельзя быть господином самого себя, но неизбежно одно из двух: или иметь постоянное сожительство с женою, если она захочет этого, или, если она пожелает воздерживаться, оставить ее и предаться любодеянию. Надобно ли говорить о прочих затруднениях, о заботах касательно детей и дома, которые могут притупить всякое усердие (к благочестию) и произвести в душе великое расслабление?
18. Поэтому лучше вооружать (сына) с юного возраста, когда он властен над собою и ничем не связан, – лучше не только по сказанным причинам, но не меньше и по тому, что имеет быть сказано. Приступивший к любомудрию в конце своей жизни употребляет все время на то, чтобы посильно омыть грехи, соделанные в прежнем возрасте, и на это истощается все его усердие; но часто он не успевает и в этом, а отходит отсюда с остатками ран; а кто с юных лет вступил в подвижничество, тот не тратит времени на это и не сидит, врачуя свои раны, но с самого начала уже получает награды; для первого желательно избавиться от всех ран, а последний с самого вступления на поприще воздвигает трофеи и присоединяет победы к победам; он, как олимпийский борец, с юного возраста до старости шествуя среди победных восклицаний, отходит туда, увенчанный бесчисленными на главе венцами. С кем же ты желаешь быть твоему сыну? С теми ли, которые с великим дерзновением могут взирать на самих архангелов, или с теми, которые стоят вместе со всеми и занимают последнее место? Такие, конечно, займут последнее место, если даже будут в состоянии преодолеть все препятствия, какие исчислил я теперь: если не постигнет их преждевременная смерть, если затем не воспрепятствует жена, если не получат они столько ран, что для излечения их недостаточно будет всей старости, и если навсегда сохранять свое расположение (к благочестию) твердым и непоколебимым. Когда все это сойдется, и тогда они едва займут место между последними. С ними ли ты желаешь быть твоему сыну, или в числе тех, которые блистают в первом ряду воинства (небесного)? Кто же, скажут, так жалок, чтобы пожелать своим детям первого, а не последнего? – но мы следуем привычке и хотим, чтобы они были при нас. Этого и я желаю, и не менее вас, родителей, молюсь, чтобы они возвратились в родительский дом, и вознаградили за воспитание так, что других равных воздаяний и найти было бы невозможно; но не будем требовать от них этого теперь. Не странно ли, посылая их учиться красноречию, удалять надолго даже из отечества, или, когда они намереваются изучить какое-нибудь слесарное, или другое еще более низкое ремесло, не пускать их в свой дом, а приказывать и обедать и ночевать в доме учителя; когда же они намереваются приступить к изучению не человеческой науки, но небесного любомудрия, тотчас отвлекать их от этого, прежде, нежели исполнится нами желаемое? Иной, учащийся ходить по натянутой веревке, надолго расстается с родными; а тех, которые учатся взлетать от земли на небо, мы станем удерживать при родителях? Что может быть хуже такого безрассудства? Не видите ли, что и земледельцы, как ни сильно желают получить плоды трудов своих, никогда, однако же, не решатся собирать их преждевременно? Так не будем же и мы прежде времени отклонять сыновей от пустыннической жизни, но предоставим урокам укрепиться в них и семенам (благочестия) укорениться; не будем беспокоиться и скорбеть, хотя бы должно было им воспитываться в монастыре десять или двадцать лет; потому что, чем кто более станет упражняться в школе, тем более приобретет силы. А лучше, если угодно, не станем назначать срока; но пусть будет единственным пределом то время, когда посеянные в сыне плоды достигнут зрелости; тогда пусть он возвращается из пустыни, а прежде – нет; потому что от поспешности нашей произойдет только то, что он никогда не будет зрелым. Кто прежде времени лишается питания в корне, тот и в надлежащее время не будет годен; а чтобы этого не случилось (с нашими детьми), будем терпеливо переносить разлуку, и не только сами не станем торопить, но, если и они захотят возвратиться преждевременно, не позволим. Усовершенствовавшись, сын будет для всех приобретением, и для отца и матери, и для дома и города, и для общества; если же он возвратится, не достигши цели, то будет предметом посмеяния и позора, и повредит себе и другим. Не будем же делать такого вреда. Отправляя сыновей на чужбину, мы хотим увидеть их тогда, когда они усовершенствуются в том, для чего предприняли путешествие; если же они возвратятся прежде, то мы не столько получаем удовольствия от их прибытия, сколько скорби от того, что они возвратились без пользы. Так, не крайне ли безрассудно – о духовном не прилагать и такого попечения, какое мы показываем в отношении к житейскому, но там любомудро переносить разлуку с детьми, даже с пожеланием большего продолжения ее, если это будет сколько-нибудь полезно, а здесь быть столь нежными и чувствительными к разлуке, что от такого малодушия погибают величайшие блага, имея притом здесь гораздо больше утешений не только в том, что дети посвятили себя важнейшим занятиям и непременно достигнут своей цели и ничто не разрушит их надежд, но и в самой даже разлуке? Когда дети находятся в дальнем путешествии, то трудно видеться с ними, особенно если родители будут в преклонных летах; а здесь можно часто приходить к ним. Так и станем делать: когда детям еще нельзя придти к нам, будем мы приходить к ним для свидания и собеседования. От этого нам будет много пользы и удовольствия: мы не только будем радоваться при свидании с любимыми детьми, но и возвращаться домой с великими плодами для нас самих; а нередко и сами останемся с ними, проникнувшись любовью к любомудрию. Итак, станем вызывать их тогда, когда они сделаются крепкими и способными приносить пользу другим; тогда только будем выводить их оттуда, чтобы они были светом для всех, чтобы светильник стоял на свечнике. Тогда вы увидите, каких детей отцы вы, и каких – те, кого вы считаете счастливыми; тогда вы узнаете пользу любомудрия, когда (дети ваши) станут врачевать людей, страдающих неизлечимыми болезнями, когда будут прославляться, как общие благодетели, покровители и спасители, когда будут жить с людьми на земле как ангелы, и обращать на себя взоры всех; или вернее, что бы мы ни сказали, вам не высказать всего того, что можно видеть на опыте и на самом деле. Так и законодателям надлежало бы поступать, чтобы делалось должное, – не тогда внушать молодым людям страх, когда они сделаются мужами, но наставлять и направлять их в детстве; тогда и впоследствии не было бы нужды в угрозах. А теперь бывает то же самое, как если бы какой-либо врач начинающему заболевать не говорил ничего и не указывал, чем ему освободиться от болезни, а изнуренному и неизлечимому стал бы преподавать бесчисленные правила. Так и законодатели тогда руководят нас, когда мы уже развратились. Но не так (поступает) Павел; он приставляет к детям учителей добродетели сначала и с юного их возраста, преграждая порокам доступ к ним. Самое лучшее учение не то, когда, допустив наперед порокам одержать верх, потом стараются изгнать их, но то, когда употребляют все меры, чтобы сделать природу нашу недоступною для них. Посему увещеваю не только удерживать других желающих поступать так, но и самим действовать и спасать ладью (жизни), и стараться, чтобы она плыла при попутном ветре. Подлинно, если бы мы все усвоили себе такой образ мыслей и прежде всего другого вели детей к добродетели, считая это главным делом, а все прочее придаточным, то отовсюду произошло бы столько благ, что, перечисляя их теперь, я показался бы преувеличивающим дело. Если же кто желает убедиться в этом, тот хорошо может узнать это из самых дел, и изъявит нам, а прежде нас Богу, великую благодарность, видя, что на земле процветает жизнь небесная, и что вследствие этого учение о будущих благах и воскресении принимают с верою и сами неверные.
19. А что это не самохвальство, видно из следующего: когда мы говорим неверным о жизни пустынников, они не могут сказать ничего против нее, а думают найти опору для возражений в малочисленности провождающих такую жизнь. Но если бы мы насадили этот плод в городах, если бы благочиние стало законом и началом и если бы мы детей своих прежде всего другого наставляли быть друзьями Божиими и учили вместо всех и прежде всех прочих наук духовным, то прекратились бы все скорби, настоящая жизнь избавилась бы от бесчисленных зол, и то, что говорится о будущей жизни, т. е. «печаль и воздыхание удалятся» (Ис.35:10), все мы имели бы и здесь. Если бы не было в нас пристрастия ни к деньгам, ни к пустой славе, если бы мы не боялись ни смерти, ни бедности, скорби считали не злом, но величайшим благом, не знали ни вражды, ни ненависти, то не страдали бы ни от своих, ни от чужих горестей, но род человеческий приближался бы к самим ангелам. Но, скажет кто-нибудь, кто из людей достиг такого совершенства? Ты, конечно, не поверишь этому, проживая в городах и не читая божественных книг; но если бы ты узнал живущих в пустынях и древних, упоминаемых в духовных книгах, то убедился бы, что и монахи, и прежде них апостолы, и прежде этих (ветхозаветные) праведники, со всею верностью отличались таким любомудрием. Впрочем, чтобы нам не спорить с тобою, положим, что твой сын будет на две или на три степени ниже их, но и в таком случае он получит не мало благ. Он не сравняется с Петром и Павлом и даже не будет близко к ним: но неужели, поэтому лишим его и низшей сравнительно с ними чести? Так рассуждая, ты сделал бы то же, как если бы сказал: если он не может быть драгоценным камнем, то пусть остается железом, но не будет ни серебром, ни золотом. Почему же ты не рассуждаешь так и во внешних делах, но совсем напротив? Посылая сына учиться красноречию, ты хотя и не надеешься непременно увидеть его на высоте совершенства, однако поэтому не отвлекаешь его от этого занятия, а делаешь все со своей стороны, считая удовлетворительным, если сыну твоему, по успехам в красноречии, удастся быть пятым или десятым от первых. И определяя сыновей на службу царю, вы не ожидаете, что они непременно достигнут степени военачальников, однако не приказываете им снять с себя воинскую одежду и не приближаться даже к порогу дворца, но употребляете все средства, чтобы они не были устранены от пребывания там, считая достаточным видеть их хотя в числе средних. Почему же вы там, если и нельзя получить большего, стараетесь и заботитесь о меньшем, хотя надежда и на это также сомнительна, а здесь не радеете и уклоняетесь? Потому, что тех благ вы сильно желаете, а этих ни мало; а после, стыдясь признаться в этом, придумываете отговорки и предлоги; между тем, если бы вы истинно желали (этих блага), вас ничто не отклонило бы от них. Это действительно так: кто подлинно любит что-нибудь, тот, если не может достигнуть всего или самого высшего, постарается, по крайней мере, достигнуть среднего и даже в тысячу раз низшего. Так, пристрастный к вину и напиткам, если не может получить вина сладкого и ароматного, не откажется никогда и от самого дурного; и корыстолюбивый, хотя бы кто дал ему не драгоценные камни и не золото, но серебро, будет весьма благодарен. Такова страсть: это некое насилие, способное принудить всякого, одержимого ею, терпеть и переносить все для чего бы то ни было; посему, если бы ваши слова не были только предлогом, то вы должны бы содействовать нам, потому что желающему осуществления чего-нибудь свойственно не препятствовать этому осуществлению, но всячески содействовать ему. Так и выходящие на олимпийские игры, хотя знают, что из множества (соперников) только одному достанется награда за победу, однако же, вступают в борьбу и подвизаются. Между тем нет никакого сравнения между здешним и тамошним, не только по цели подвигов, но и потому, что там увенчанным уходит непременно только один, а здесь преимущество и унижение не в том, что один уходит не увенчанным, а другой увенчанным, но в том, что он один получает более блистательную похвалу, другой менее, однако все получают. Вообще, если бы мы захотели с начала настроить детей и передать желающим воспитывать их, то не было бы невероятным, что они станут в первом ряду воинства; потому что Бог не презрел бы такого усердия и ревности, но простер бы Свою руку и приложил бы ее к этим (живым) изваяниям. А когда действует рука Его, тогда невозможна безуспешность в чем бы то ни было, или вернее, невозможно не дойти до самой высшей степени блеска и славы, только бы при этом было и должное с нашей стороны. Если и жены были в состоянии умолить Бога, чтобы Он помог им в воспитании детей, тем более мы могли бы сделать это, если бы захотели. Чтобы не удлинять слова, я умолчу о прочих женах, хотя и мог бы сказать о многих, а упомяну только об одной.
20. Была одна иудеянка, Анна. Эта Анна родила одного сына и не надеялась иметь другого, потому что и того едва получила после многих слез, так, как была бесплодна. Хотя она видела, что соперница часто укоряет ее за это, она, однако не поступила так, как поступаете вы, но, и, получив этого сына, держала его при себе только дотоле, пока нужно было питать его молоком. А как скоро он уже не стал нуждаться в этой пище, она, взяв его, немедленно посвятила Богу, не приглашала его приходить в дом родительский, и он жил постоянно в храме Божием: и если когда она, как мать, хотела видеть его, то не вызывала отрока к себе, но сама с отцом приходила к нему, обращаясь с ним, как уже посвященным (Богу). Оттого юноша сделался столь доблестным и великим, что когда Бог отвратился от народа еврейского за распространившееся в нем нечестие, не изрекал пророчеств и не открывал никакого видения, он своею добродетелью опять преклонил и умолил даровать (иудеям) то же, что и прежде, и возвратил отлетевший дар пророчества. И это сделал он, когда был не в зрелом возрасте, но еще малым отроком: «слово Господне было редко в те дни», говорит Писание, «видения [были] не часты» (1 Цар.3:1); между тем, ему Бог часто открывал Свою волю. Так полезно всегда отдавать свои стяжания Богу и отказываться от всего, не только от денег и имений, но и от самых детей. Если нам велено поступать так с душою своею (Матф.16:24, 25), тем более со всем прочим. Так поступил и патриарх Авраам, или, лучше сказать, гораздо выше: за то и получил обратно сына с большею славою. По истине, мы тогда особенно и остаемся с детьми своими, когда отдаем их Господу. Он гораздо лучше (нас) сохранит их, так как больше и печалится о них. Не видите ли, что так бывает и в домах богачей? И там можно видеть, что низшие (слуги), живущие с отцами, не так заметны и не имеют такой силы; а те, которых, господа, отняв от родителей, определяют к себе на службу для хранения сокровищ, пользуются большим благоволением и свободою, и бывают настолько славнее своих со служителей, насколько господа славнее рабов. Если же люди так добры и благосклонны к своим слугам, то гораздо более беспредельна Благость, т. е. Бог. Отпустим же детей служить (Богу), вводя их не в храм, как Самуила, но в самое небо, вместе с ангелами и архангелами. А что посвятившие себя этому любомудрию действительно будут служить вместе с ними, это очевидно для всякого. Они будут предстательствовать с великим дерзновением не только за себя самих, но и за вас. Ибо, если некоторые получали (от Бога) некоторую милость за отцов, тем более отцы (получат) за детей; потому что в первом случае правом (на милость) служит только единство природы, а в последнем – и воспитание, которое гораздо важнее природы. То и другое я могу подтвердить вам и божественными писаниями. Так Езекию добродетельного и благочестивого, но не имевшего по своим делам дерзновения противостать великой опасности, Бог спасает, как Сам сказал, за добродетель отца: «буду охранять», говорит, «город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего» (4Цар.19:34). И Павел в послании к Тимофею о родителях сказал: «спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1Тим.2:15). И Иова Писание прославило как за то, что он был «непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов.1:1), так и за попечение о детях; а оно состояло не в собирании для них богатства, и не в старании сделать их славными и знаменитыми, но в чем? Послушай, что говорит Писание: «когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал [за ними] и освящал их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем» (Иов.1:5). Какое же будем иметь оправдание мы, дерзающие на такие дела? Если тот, кто жил прежде благодати и прежде закона, и не слышал никакого учения, имел столь великое попечение о детях, что опасался и за тайные грехи их, то кто оправдает нас, которые живем во время благодати, имеем столько учителей, такие примеры и такие увещания, и между тем не только не боимся за тайные, но не обращаем внимания и на явные грехи, и не только не обращаем внимания, но и желающих исправить их преследуем? И Авраам, как я сказал прежде, прославился между прочими и этою добродетелью.