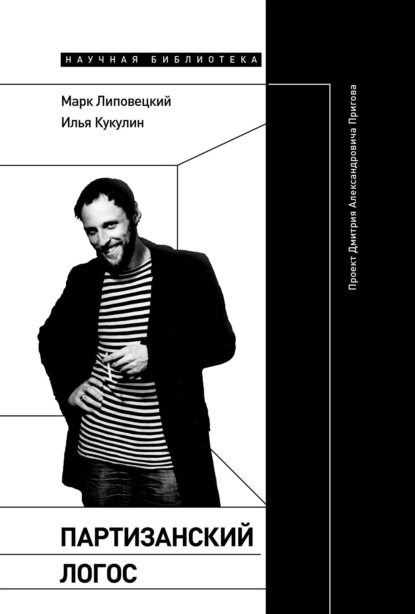По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что б разрушить – я вокруг гляжу
От христьянства до социализма
Чтоб разрушить, все внутри ношу
А пока ношу – то забываю
Что разрушить собственно хотел
Уж не разделяю наших тел –
Все свое люблю и обожаю [4: 283]
Пригов выступает и как «драматург», и как «актер, и как «режиссер» собственного творчества. Возможно, он первым создал в русской культуре эстетическую систему, целиком и полностью основанную на том, что в девяностые годы в западном теоретическом дискурсе получило название «перформативное письмо» (performative writing[23 - См., например: Pollock 1998; Shepherd 2016: 47–54.]). Но перформатизм у Пригова не сводится лишь к театрализации «сцены письма»[24 - «Сцена письма» – разработанное в исследованиях Жака Деррида понимание письма и литературного сочинительства как процессов, которые развертываются во времени, принципиально социальны, открыты обществу – протекают словно бы на «сцене», обозримой потенциальным наблюдателем – и делают видимыми внутренние противоречия в сознании сочинителя: «Чтобы писать и даже просто „воспринимать“, уже нужно быть во множественном числе. ‹…› Письмо немыслимо без вытеснения. ‹…› То, что представляется в политической цензуре совершенно внешним, отсылает к той сущностной цензуре, которая связывает писателя со своим собственным письмом» [Деррида 2000а: 360].], поскольку для Пригова и само письмо не является ни единственной, ни даже доминирующей сферой деятельности современного художника. Одновременно с моделированием субъектов культуры Пригов преследует и более масштабную цель, которую можно определить как перформанс нового типа художественного поведения. Именно в повороте к «поведенческому» аспекту Пригов видит существо и своего творчества, и вообще деятельности современного художника.
Вот почему столь важной категорией эстетики Пригова является «назначающий жест»: «Чем отличается язык художественного произведения, вернее сам художественный текст от любого другого – да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считывание его соответствующей культурной оптикой… Автор в этом случае вычитывается не на языковом, а на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями его драматургии» [5: 334]. «Назначающий жест» можно интерпретировать как проявление «режиссерской» функции современного художника, однако, это понятие явно шире, поскольку предполагает операции не на уровне конкретного текста или даже медиа, а в целостном контексте культуры, где нечто, до сего момента не воспринимаемое как эстетический объект, в результате назначающего жеста приобретает такую функцию.
Разумеется, задолго до Пригова было известно: то, что прежде считалось «нехудожественным», может быть включено в сферу «искусства». На этой идее, например, основана статья Юрия Тынянова «Литературный факт» (1924). По мнению Тынянова, «не-литературное» превращается в «литературное» благодаря «приложени[ю] конструктивного фактора к материалу, ‹…› „оформлени[ю]“ (т. е. по существу – деформации) материала» [Тынянов 1977: 261]. Но у Тынянова предполагалось, что такое «приложение конструктивного фактора» делает обновленную поэтику словно бы частью авторской идентичности: если, например, Алексей Крученых сделал заумь фактом литературы, то он и превращается ipso facto в «того, кто легитимизировал заумь». Идея назначающего жеста разрывает эту связь: тот, кто «назначает» те или иные явления или практики «искусством», совершенно не обязан превращать их в часть своей литературной идентичности или в свою «торговую марку». Это именно жест, то есть не «присоединение к себе», а «указание на то, что находится вовне».
Концепция Тынянова стала утонченным и новаторским для своего времени выражением эстетической парадигмы, которая господствовала в европейском и американском искусстве еще несколько десятилетий после публикации его статьи – приблизительно до 1960?х годов. Пригов в своих многочисленных текстах с упоминанием «назначающего жеста» исходил уже из парадигмы следующего, постмодернистского этапа развития культуры, акцентируя прежде всего разрыв между самосознанием художника и любым законченным индивидуальным «стилем» или коллективными социолектами и идеолектами.
Пригов понимает «жест» очень широко – как действие, осуществляемое из метапозиции, занятой по отношению к «местному», то есть советскому, или, по выражению Кабакова, «собачьему» языку. Занимая такую позицию, художник одновременно признает этот язык своим собственным и занимает по отношению к нему критическую дистанцию, осуществляя тем самым своего рода феноменологическую редукцию «советского» в собственном сознании – и тем самым ставя под вопрос «принадлежность» сознания – субъекту: «мое» сознание – никогда не вполне «мое»[25 - С исторической точки зрения такая постановка вопроса восходит к одному из первых русских последователей феноменологической философии – Густаву Шпету, который в 1916 году написал эссе «Сознание и его собственник». Для Шпета, как позже и для Пригова, умение критически рассмотреть собственное сознание и отделить его от «соборной» совокупности чужих сознаний является начальным условием индивидуальной свободы.].
Что же такое жест в понимании Пригова?
Жест в системе приговских идей – это заметное в публичном пространстве действие, по своей природе одновременно социальное и эстетическое; жест конституирует воображаемую субъективную инстанцию, которую можно назвать литературной личностью. Например, в предисловии к публикации в американском журнале «Berkeley Fiction Review»[26 - Berkeley Fiction Review. № 6. 1985–1986. Р. 129–135.] таких разных поэтов, как Елена Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Лев Рубинштейн и сам Пригов, он пишет: «жест в насыщенном культурном поле обрел значение почти равное тексту, судьба, четкое выстраивание поэтической позы со всей отчетливостью осозналось как важнейший компонент поэтики». Общим для всех этих авторов (в отличие от, например, тоже не публиковавшихся ранее Еременко, Парщикова, Жданова), по Пригову, были: неизвестность, невключенность и непримиримость; «…в отличие от культуры общепризнанной, повязанной разного рода внутренними и внешними, субъективными и объективными ограничениями, нормами, правилами этикетного поведения [Шварц, Кривулин, Седакова, Рубинштейн и он сам] не только свободны от всего подобного, но и почитают за основной принцип своего культурного поведения, позы, доведение до предела обнаженности своих культурно-поэтических пристрастий» [5: 117]. Жест в такой интерпретации реализует поведенческую стратегию, которая включает в себя и собственно поэзию.
Приговское понимание жеста принципиально отличается от модернистского жизнетворчества, которое предполагало превращение повседневной жизни в объект художественного творчества. Напротив, Пригов предлагает «оплотнение» творческого поведения, складывающегося из «жестов», «текстов» и выбора эстетических ориентиров, до нового «агрегатного состояния» – отрефлексированной личной концепции, последовательно реализуемой на протяжении многих лет. Эти-то персонализированные концепции и дают авторам, о которых он говорит, возможность сопротивляться агрессии советской литературной системы, по сути – безличной[27 - О значении эстетического концепта жеста для Пригова одним из первых написал Алексей Парщиков: Парщиков А. Жест без контекста // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. См.: Парщиков 2010.].
Жест у Пригова порождает действие, при котором художник вдруг может взглянуть со стороны на коллективные, обобществленные дискурсы, на которых ему приходится говорить или думать, одновременно – доводит эти дискурсы до гротескного или забавного вида и тем самым изобретает заново себя, свое «я». Жест требует умения – и сознательного стремления – вычленять в своем сознании «общие», безличные клише, изобразительные и словесные. Такое стремление отделяет художников-концептуалистов не только от художников-метафизиков, таких, как Михаил Шварцман, но даже и от более ироничных и абсурдистски настроенных авторов, таких как Владимир Немухин, не склонный, однако, к прямой рефлексии идеологически окрашенного языка. Более того, примерно такая же разница прослеживается и между Приговым и такими уже упомянутыми неподцензурными авторами, как Елена Шварц, Виктор Кривулин (впрочем, его позиции конца 1990?х стали гораздо ближе к приговским, чем, например, в 1980?е) или Ольга Седакова[28 - Более подробно о соотношении эстетических систем Седаковой и Пригова (между которыми было гораздо больше перекличек, чем кажется на первый взгляд) см.: Кукулин 2017.].
В этом смысле Пригов как постмодернист выступает последовательным критиком модернизма и любых его влияний; чтобы подчеркнуть радикализм своей позиции, он был готов критиковать и канонизированную в русской неофициальной культуре эстетику Мандельштама и Ахматовой, объявляя их поэтики глубоко устаревшими. Они устарели, считает он, потому что в их творчестве явлен образ поэта, давно ставший клише или «художественным промыслом», по выражению Пригова. Это образ поэта как носителя сакрального дара высказывать истину.
Из типологии жестов вырастает приговская типология культуры, в основании которой лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». Иначе говоря, Пригов описывает культуру через то, каким образом в ней представлена фигура художника, всегда отвоевывающего новые культурные территории и, условно говоря, стоящего на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций.
В манифестах конца 1980?х – начала 1990?х годов Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то большую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. ‹…› В разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника» [5: 527]. Преобладающее влияние того или иного «позвонка», уровня, определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей – «…художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки», – пишет Пригов Ры Никоновой в 1982 году [5: 529].
В текстах конца 1990?х – начала 2000?х годов Пригов говорил о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социально-культурных «проектов». Первый, Возрожденческий, основан на оппозиции «автор – не-автор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую – учителя, просветителя и мудреца. Основным содержанием авторства для этого типа культуры становятся правда и/или знание, противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект – Романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между высоким и низким, хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский – между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Завершение четырех проектов», ок. 1999 – 5: 186). Наконец, четвертый проект – Авангардный. Его основа – преодоление оппозиции «искусство – не искусство»: «основная драматургия авангардного типа поведения… была явлена в постоянно[м] расширени[и] зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» («Вторая сакро-куляризация», 1990 – 5: 157). В сущности, именно в этой культурной фазе «назначающий жест» становится главной функцией художника, что радикально изменяет его идентификацию.
Внутри авангардной эпохи Пригов выделяет «три возраста» авангарда. Первый – футуристически-конструктивистский, он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов вслед за Б. Гройсом как автором книги «Стиль Сталин» [см.: Гройс 2013], послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая лишь перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив „большие“ онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» [5: 159], – класс, народ, партия, история.
Второй «возраст» – абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, [его] недетерминированность никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операционными законами» [там же]. В России этот тип авангардной культуры, считает Пригов, «сумел перекодировать элементы [существовавших на тот момент] языковой тактики и стратегии, совпав по времени с западным новым авангардом – результатом прямого наследия традиции» [5: 160].
Наконец, третий возраст идентифицируется как поп-артистско-концептуалистский и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики… и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» [там же].
Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» [там же]. Как Пригов говорит в одном из интервью: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовой, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами» [Шаповал 2003: 16]. Именно здесь, полагает Пригов, и наступает «конец текстоцентризма»: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования». «Операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста».
Перформативность – в этой интерпретации – пронизывает все без исключения практики художника. В интервью Алене Яхонтовой Пригов так описывает собственную деятельность:
…Для меня все ‹…› виды [моей] деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП – Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома [Пригов – Яхонтова 2010: 74].
Авторский «центральный фантом» становится по этой логике главным продуктом тотального перформанса, включающего в себя тексты, картины, инсталляции, собственно перформансы и любые публичные высказывания (например, интервью). Его можно было бы сопоставить с «первичным автором» из черновых записей М. М. Бахтина [Бахтин 2002: 412], но с оговоркой: Бахтин, кажется, считал этого «первичного автора» эманацией реального «я», для Пригова же само существование единого «я», единого субъекта, стоящего за этим «первичным автором», было проблематичным, если не сомнительным. Более того, сам этот виртуальный автор и был главным произведением Пригова. «Нет и не было никакого Пригова. Он придумал, вылепил какого-то Дмитрия Алексаныча, наделил его особым языком, голосом и неповторимой интонацией, а сам исчез!» [Пивоваров 2010: 699].
В пределе речь идет о перформативной жизни автора, о «поведении, обнаруживающемся в пределах неигрового вида искусства, где привычный конвенциональный профессиональный язык не предполагает (вернее, до определенного времени не предполагал) появление самого творца, релятивизирующего тем самым ценность, прочность, однозначность и самодостаточность языка произведенных им объектов» («Оценки по поведению», 1990?е гг. – 5: 326).
Эрика Фишер-Лихте в своей «Эстетике перформативности» выделяет три главных эффекта этого феномена: (1) автопоэзис – обратная связь со зрителем и материальным окружением, которые влияют на ход перформанса, (2) разрушение бинарных оппозиций и (3) создание ситуации лиминальности [Фишер-Лихте 2015: 293–327]. В приговском творчестве первая черта заметно ослаблена – зритель редко влияет на его перформативный проект, зато акцентированы вторая и особенно последняя черты. Благодаря перформативности, разрушение бинарных оппозиций происходит не только в постмодернистских текстах Пригова, но и в создаваемом им «авторском контексте», который дестабилизирует оппозицию между имиджем и аутентичностью, между «Я» и «Другим». Эта дестабилизация порождает у зрителя или читателя психологическое напряжение («Это он серьезно или нет? Это он о себе или нет?»), которое разрешается смехом. Пограничность, или лиминальность, этой ситуации выражается именно в потере ориентации, выходе за пределы привычных бинарных дихотомий («жизнь»/«искусство», «автор»/«герой», «означаемое»/«означающее») и радости от этой опасной свободы.
Приговская концепция перформативности отчетливо резонирует с теорией перформативной (гендерной) идентичности, созданной Джудит Батлер. Подобно Батлер, хотя и независимо от нее, Пригов исключает всякую возможность «додискурсивного» Я в структуре идентичности (в его случае – художественной). Как Батлер, так и Пригов видят в идентичности исключительно эффекты языка и языковых практик (а не наоборот), понимая перформативность как род цитирования. Оба обнажают репрессивные социальные и культурные нормы, оформляющие политики идентичности. Вместе с тем приговская перформативность – это именно практика, избегающая стабилизации и ускользающая от конвенциональности, что совпадает с батлеровской концепцией идентичности как практики [см.: Butler 1990: 145]. Не случайно приговская перформативность перекликается с феминистическими концепциями квир-идентичности, поскольку и в том, и в другом случае речь идет о формировании де-центрованной субъектности, которая манифестирует себя через процесс трансгрессии границ, разделяющих дискурсы и тела, социокультурные идентичности и формации. Например, известный теоретик феминизма Тереса де Лауретис понимает идентичность как «локус множественных и вариабельных позиций» [De Lauretis 2007: 174][29 - О других перекличках поэтики Пригова с феминистской теорией см: Чепела, Сандлер 2010.]. Ее характеристика «эксцентричного субъекта», кажется, написана с Пригова и его перформативности:
…он ни целостен, ни расщеплен между позициями ‹…› скорее, он размещает себя поперек позиций, по многим осям координат и различий, поперек дискурсов и практик, которые могли бы быть и часто действительно являются противоречащими друг другу ‹…› наконец, что особенно существенно, этот субъект обладает агентностью (а не просто совершает «выбор»), он способен менять свою позицию, самостоятельно определяя свою (дис)локацию, а следовательно, он воплощает социальную ответственность [там же].
Впервые о «квирных» чертах тела в произведениях Пригова написали К. Чепела и С. Сандлер в своей новаторской во многих отношениях статье [2010]. Скорее всего, Пригов пришел к своей концепции независимо от современной ему западной теории, которая по большей части не была ему известна, – по крайней мере, до 1990?х годов. Как нам представляется, важнейшим источником приговской концепции перформативности стал исторически конкретный психологический опыт, а именно – переживание психологического разрыва между самоощущением меньшинства и гегемониальным языком позднесоветской культуры. Пригов был представителем неофициального искусства. Такие стихи, как писал он и другие люди того же круга – концептуалисты и не-концептуалисты не только не могли быть опубликованы, но даже упомянуты в печати и вообще в публичной сфере (кроме как с прибавлением крайне негативных оценок). Индивидуальный комплекс отчуждения, свойственный Пригову (см. Введение), тоже вносил вклад в это переживание. Но, в отличие от авторов бунтарского, неоромантического типа (как Венедикт Ерофеев), Пригов, как и некоторые другие российские писатели и художники 1970?х годов, разработал в своем творчестве механизмы игровой «диссимуляции» и «гиперкомпенсации», которые показывали, что советский гегемониальный дискурс был глубоко насильственным по методам своего функционирования.
Пригов, как и другие российские концептуалисты, самостоятельно переоткрыл – но и по-своему сконструировал – творческую стратегию, хорошо известную авторам квир- и постколониальных исследований. Когда представители «младшей», подавленной культуры (subaltern culture) начинают входить в публичное поле, они могут поначалу использовать язык гегемониальной культуры, переосмысляя его и подчеркивая его перформативность. Представитель культуры меньшинства одновременно обращается к «своей» аудитории, осмеивая культуру большинства, – и демонстрирует самоосмеяние для «внешнего» зрителя или слушателя, разыгрывая особую, «прибедняющуюся», колониальную самоиронию. Именно так были построены выступления афроамериканских исполнителей песен перед смешанной аудиторией в США в начале ХХ века[30 - Подробнее см., например: Gates 1988: 44–88.].
Концептуалисты имели дело с советской гегемониальной культурой, которая на момент их социализации уже была морально скомпрометирована, – по крайней мере, для критически мыслящих интеллектуалов. В этих условиях Пригов изобрел жест двойного остранения: подчеркнутое, утрированное использование гегемониального языка он сделал перформативным, но и саму эту перформативность остранил, представив ее как искусственно сконструированную стратегию. Это второе остранение помогало ему отказаться от любой моральной солидаризации с гегемониальным языком и показать его условность, «сделанность», чего в «классическом» языке колонизированных меньшинств не было.
По своей структуре такие отношения автора и дискурса напоминали дистанцированные отношения актера и роли в «диалектическом» театре Бертольда Брехта. Как справедливо отмечает Александр Скидан, приговская «актерская техника», т. е. его метод работы с образом субъекта ближе к театру Брехта, чем Станиславского:
Подобно тому, как в брехтовском театре актер не перевоплощается в персонажа пьесы, а показывает его, занимая по отношению к нему критическую дистанцию, так же и ДАП в своих текстах постоянно «выходит из роли», обнажая искусственность, сделанность текстовой конструкции, наряду с конструкцией («персонажностью») лирического субъекта. ‹…› …эта саморефлексивная, аналитическая техника становится у Брехта, равно как и у Пригова, инструментом показа-кристаллизации господствующей идеологии, в той степени, в какой та говорит через конвенциональные художественные формы и дискурсы. Нужно ли напоминать, что для Брехта такой распыленной в «эстезисе» инстанцией власти являлась идеология буржуазная, тогда как для Пригова по большей части – коммунистическая (утопическая, мессианская) [Скидан 2010: 126].
Однако Пригов по сравнению с Брехтом резко переносит смысловые акценты: «актер» в его «театре» последовательно разоблачает не ложные общественные отношения, а претензии идеологического языка на то, чтобы программировать человеческое самосознание. «Закавыченная перформативность» становится важнейшим средством такого разоблачения.
Томаш Гланц, впрочем, не без оснований полагает, что термин «отстранение» больше подходит Пригову, чем «остранение» Шкловского или «отчуждение» Брехта. По его мнению, Пригов в 1970?е годы
создал не только особый тип письма, но и в целом новый стиль артистического поведения путем комбинирования в своем репертуаре элементов литературы, визуального искусства и перформанса. Разрушая границу между поэтикой и метапоэтикой, Пригов создал новый тип поэтической выразительности, новый тип авторства, художественную стратегию, которая не имеет ни продолжателей, ни предшественников. Акцентированный отказ от авторского голоса служит основанием для уникальной авторской позиции, основанной на последовательной авторефлексии [Glanc 2018: 147].
Вероятно, Гланц прав, и отказ от авторского голоса и размывание границы между поэтикой и метапоэтикой – необходимые условия приговской перформативности. Именно такую перформативность Пригов считал определяющей для современного художника, называя ее «мерцательным типом поведения»:
…в принципе неподвижное существование в виртуальной зоне границы в реальности представляет собой как бы быстрое мерцание, перебегание из зоны в зону, [при котором автор] не задержива[ется] ни в одной из них настолько, чтобы влипнуть в нее и быть идентифицированным с нею, но и оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться ее и быть с ней в контакте («Культо-мульти-глобализм», начало 2000?х гг. – 5: 182).
В статье, предположительно 1999 года, Пригов так пояснял значение этой категории. Говоря о художниках, работающих в персонажных масках, – что, разумеется, соотносилось и с его собственным методом, – Пригов характеризует их так:
Художники, работавшие подобным образом, подобной стратегией, не идентифицировались полностью со своими масками-имиджами. Это был некий род мерцания, процесс неимоверной скорости, почти одновременного присутствия в имидже и вне его. То есть непривычный зритель, готовый к длительному и медленному созерцанию текстов, картин, объектов, не был приспособлен к подобного рода динамике. Задачей же художника было столь краткое присутствие в тексте, чтобы не влипнуть в него полностью. Но и отсутствие в нем не должно быть столь длительным, чтобы полностью выпасть из него, препарируя и обличая текст как посторонний [5: 330].
Тогда же, в 1999 году, выходит составленный Монастырским «Словарь терминов московской концептуальной школы», в который включена статья Пригова о мерцательности:
Мерцательность – утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения предполагает временное «влипание» его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, – и снова «отлетание» от них в метаточку стратегемы и не «влипание» в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть полностью идентифицированным и с ней, – и называется «мерцательностью». Полагание себя в зоне между этой точкой и языком, жестом и поведением и является способом художественной манифестации «мерцательности» [Словарь 1999: 58–59].
Даниил Лейдерман, посвятивший мерцанию свою диссертацию [см.: Leiderman 2016 и Leiderman 2017], считает, что этот принцип лежит в основании формальных поисков художников-концептуалистов начиная с середины 70?х. Вслед за Приговым Лейдерман интерпретирует мерцание как попеременную реализацию противоположных и даже взаимоисключающих парадигматических подходов в структуре художественного пространства, в отношениях между субъектом и объектом, автором и персонажем («персонажность») – в частности, между организаторами акций «Коллективных действий» и их участниками. Исследователь подчеркивает, что, в отличие от эстетической амбивалентности, мерцание предполагает сознательное и последовательное ускользание («предательство») автора, избегающего полного отождествление с какой бы то ни было из сталкиваемых в тексте дискурсивных логик/эстетических систем.
Смысл мерцания, таким образом, состоит в освобождении автора – а за ним и читателя/зрителя – от жестких рамок дискурсивных режимов, преодолении зависимости от авторитетных систем идей и принципов, снятии героического пафоса самопожертвования (свойственному и многим представителям нонконформизма), подрыве метафизических и профетических амбиций и в конечном счете служит тому, что Пригов считал целью постмодернизма: критике собственного высказывания.
Главным эффектом «мерцательного типа поведения художника» или «эксцентрической субъективности» является тактика «невлипания» или «незалипания». Слово «незалипание» – одно из ключевых в кружковом лексиконе московского концептуализма [см.: Словарь 1999: 62–63]; возможно, оно возникло под влиянием философской концепции «ускользания» и «детерриторизации», предложенной в дилогии Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (ее составляют книги «Анти-Эдип» и «Тысяча плато»). Активным пропагандистом идей Делёза и Гваттари в кругу московских концептуалистов был Михаил Рыклин – скорее всего, от него Пригов первоначально и узнал о работах французских философов. Однако важно подчеркнуть, что рецепция идеи «невлипания» у Пригова, как и у других концептуалистов, была вполне инновативной: Делёз и Гваттари призывали творчески настроенных интеллектуалов (к которым они в первую очередь и адресовались) сопротивляться любым дискурсам власти и общественного большинства, но мало говорили о временном режиме этого сопротивления и о том, как можно, сопротивляясь, все же изучать и эстетически осваивать властные языки – «оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться… и быть… в контакте». Пригов тоже не дал – да, вероятно, и не планировал дать – систематического описания действий, которые может предпринимать художник на границе гегемониальных дискурсов. Однако он неустанно разыгрывал эти действия, организуя композиции своих сборников и «Азбук», а в «предуведомлениях» анализировал многочисленные варианты этих «перформансов неповиновения» – одновременно пародируя такой анализ и ставя под вопрос саму его возможность[31 - О категории «мерцания» в теоретических и публицистических текстах Пригова см.: Janecek 2018; Rutz 2018.].
Именно этот аспект – или эффект – приговской перформативности особенно важен, поскольку он непосредственно связан с вопросом власти. Разумеется, само пересечение границ и создание лиминальной «опасной свободы» по определению насыщено политическим смыслом. Вместе с тем в постсоветский период перформативность все чаще становится орудием власти – политической и символической, чему можно найти множество примеров – от перформанса выборов до перформансов Олимпиады или чемпионата мира по футболу, воплощающих политическую и символическую гегемонию. Впервые об этой «перформативной силе» российских властных институтов в общем виде написал в 2006 году социолог культуры Борис Дубин:
…Направленное торможение социальной, экономической, культурной дифференциации общества, усложнения его структур, с одной стороны, и ослабление независимости различных институтов, инициативных групп – с другой, влечет за собой расширение поля действия интегративных символов и церемоний причастности «всех» к коллективному целому державы-нации, ритуализацию или церемониализацию текущей политики… [Дубин 2006: 16]
На такую символическую гегемонию власти отвечают «подрывные» перформансы групп «Война» и Pussy Riot и публичные акции Петра Павленского и других художников[32 - В теоретическом смысле вопрос о связи между перформансом и властью обсуждает Alexander 2011.].
Именно в этом контексте политический смысл приговской перформативности раскрывается в полной мере. Это качество его эстетики сформировалось намного раньше 2000?х годов, но именно ретроспективно, из 2020 года, видно, до какой степени Пригов предвосхитил будущее развитие искусства со своей последовательной рефлексией перформативности.
2. Поэтическая семиотика
От христьянства до социализма
Чтоб разрушить, все внутри ношу
А пока ношу – то забываю
Что разрушить собственно хотел
Уж не разделяю наших тел –
Все свое люблю и обожаю [4: 283]
Пригов выступает и как «драматург», и как «актер, и как «режиссер» собственного творчества. Возможно, он первым создал в русской культуре эстетическую систему, целиком и полностью основанную на том, что в девяностые годы в западном теоретическом дискурсе получило название «перформативное письмо» (performative writing[23 - См., например: Pollock 1998; Shepherd 2016: 47–54.]). Но перформатизм у Пригова не сводится лишь к театрализации «сцены письма»[24 - «Сцена письма» – разработанное в исследованиях Жака Деррида понимание письма и литературного сочинительства как процессов, которые развертываются во времени, принципиально социальны, открыты обществу – протекают словно бы на «сцене», обозримой потенциальным наблюдателем – и делают видимыми внутренние противоречия в сознании сочинителя: «Чтобы писать и даже просто „воспринимать“, уже нужно быть во множественном числе. ‹…› Письмо немыслимо без вытеснения. ‹…› То, что представляется в политической цензуре совершенно внешним, отсылает к той сущностной цензуре, которая связывает писателя со своим собственным письмом» [Деррида 2000а: 360].], поскольку для Пригова и само письмо не является ни единственной, ни даже доминирующей сферой деятельности современного художника. Одновременно с моделированием субъектов культуры Пригов преследует и более масштабную цель, которую можно определить как перформанс нового типа художественного поведения. Именно в повороте к «поведенческому» аспекту Пригов видит существо и своего творчества, и вообще деятельности современного художника.
Вот почему столь важной категорией эстетики Пригова является «назначающий жест»: «Чем отличается язык художественного произведения, вернее сам художественный текст от любого другого – да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считывание его соответствующей культурной оптикой… Автор в этом случае вычитывается не на языковом, а на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями его драматургии» [5: 334]. «Назначающий жест» можно интерпретировать как проявление «режиссерской» функции современного художника, однако, это понятие явно шире, поскольку предполагает операции не на уровне конкретного текста или даже медиа, а в целостном контексте культуры, где нечто, до сего момента не воспринимаемое как эстетический объект, в результате назначающего жеста приобретает такую функцию.
Разумеется, задолго до Пригова было известно: то, что прежде считалось «нехудожественным», может быть включено в сферу «искусства». На этой идее, например, основана статья Юрия Тынянова «Литературный факт» (1924). По мнению Тынянова, «не-литературное» превращается в «литературное» благодаря «приложени[ю] конструктивного фактора к материалу, ‹…› „оформлени[ю]“ (т. е. по существу – деформации) материала» [Тынянов 1977: 261]. Но у Тынянова предполагалось, что такое «приложение конструктивного фактора» делает обновленную поэтику словно бы частью авторской идентичности: если, например, Алексей Крученых сделал заумь фактом литературы, то он и превращается ipso facto в «того, кто легитимизировал заумь». Идея назначающего жеста разрывает эту связь: тот, кто «назначает» те или иные явления или практики «искусством», совершенно не обязан превращать их в часть своей литературной идентичности или в свою «торговую марку». Это именно жест, то есть не «присоединение к себе», а «указание на то, что находится вовне».
Концепция Тынянова стала утонченным и новаторским для своего времени выражением эстетической парадигмы, которая господствовала в европейском и американском искусстве еще несколько десятилетий после публикации его статьи – приблизительно до 1960?х годов. Пригов в своих многочисленных текстах с упоминанием «назначающего жеста» исходил уже из парадигмы следующего, постмодернистского этапа развития культуры, акцентируя прежде всего разрыв между самосознанием художника и любым законченным индивидуальным «стилем» или коллективными социолектами и идеолектами.
Пригов понимает «жест» очень широко – как действие, осуществляемое из метапозиции, занятой по отношению к «местному», то есть советскому, или, по выражению Кабакова, «собачьему» языку. Занимая такую позицию, художник одновременно признает этот язык своим собственным и занимает по отношению к нему критическую дистанцию, осуществляя тем самым своего рода феноменологическую редукцию «советского» в собственном сознании – и тем самым ставя под вопрос «принадлежность» сознания – субъекту: «мое» сознание – никогда не вполне «мое»[25 - С исторической точки зрения такая постановка вопроса восходит к одному из первых русских последователей феноменологической философии – Густаву Шпету, который в 1916 году написал эссе «Сознание и его собственник». Для Шпета, как позже и для Пригова, умение критически рассмотреть собственное сознание и отделить его от «соборной» совокупности чужих сознаний является начальным условием индивидуальной свободы.].
Что же такое жест в понимании Пригова?
Жест в системе приговских идей – это заметное в публичном пространстве действие, по своей природе одновременно социальное и эстетическое; жест конституирует воображаемую субъективную инстанцию, которую можно назвать литературной личностью. Например, в предисловии к публикации в американском журнале «Berkeley Fiction Review»[26 - Berkeley Fiction Review. № 6. 1985–1986. Р. 129–135.] таких разных поэтов, как Елена Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Лев Рубинштейн и сам Пригов, он пишет: «жест в насыщенном культурном поле обрел значение почти равное тексту, судьба, четкое выстраивание поэтической позы со всей отчетливостью осозналось как важнейший компонент поэтики». Общим для всех этих авторов (в отличие от, например, тоже не публиковавшихся ранее Еременко, Парщикова, Жданова), по Пригову, были: неизвестность, невключенность и непримиримость; «…в отличие от культуры общепризнанной, повязанной разного рода внутренними и внешними, субъективными и объективными ограничениями, нормами, правилами этикетного поведения [Шварц, Кривулин, Седакова, Рубинштейн и он сам] не только свободны от всего подобного, но и почитают за основной принцип своего культурного поведения, позы, доведение до предела обнаженности своих культурно-поэтических пристрастий» [5: 117]. Жест в такой интерпретации реализует поведенческую стратегию, которая включает в себя и собственно поэзию.
Приговское понимание жеста принципиально отличается от модернистского жизнетворчества, которое предполагало превращение повседневной жизни в объект художественного творчества. Напротив, Пригов предлагает «оплотнение» творческого поведения, складывающегося из «жестов», «текстов» и выбора эстетических ориентиров, до нового «агрегатного состояния» – отрефлексированной личной концепции, последовательно реализуемой на протяжении многих лет. Эти-то персонализированные концепции и дают авторам, о которых он говорит, возможность сопротивляться агрессии советской литературной системы, по сути – безличной[27 - О значении эстетического концепта жеста для Пригова одним из первых написал Алексей Парщиков: Парщиков А. Жест без контекста // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. См.: Парщиков 2010.].
Жест у Пригова порождает действие, при котором художник вдруг может взглянуть со стороны на коллективные, обобществленные дискурсы, на которых ему приходится говорить или думать, одновременно – доводит эти дискурсы до гротескного или забавного вида и тем самым изобретает заново себя, свое «я». Жест требует умения – и сознательного стремления – вычленять в своем сознании «общие», безличные клише, изобразительные и словесные. Такое стремление отделяет художников-концептуалистов не только от художников-метафизиков, таких, как Михаил Шварцман, но даже и от более ироничных и абсурдистски настроенных авторов, таких как Владимир Немухин, не склонный, однако, к прямой рефлексии идеологически окрашенного языка. Более того, примерно такая же разница прослеживается и между Приговым и такими уже упомянутыми неподцензурными авторами, как Елена Шварц, Виктор Кривулин (впрочем, его позиции конца 1990?х стали гораздо ближе к приговским, чем, например, в 1980?е) или Ольга Седакова[28 - Более подробно о соотношении эстетических систем Седаковой и Пригова (между которыми было гораздо больше перекличек, чем кажется на первый взгляд) см.: Кукулин 2017.].
В этом смысле Пригов как постмодернист выступает последовательным критиком модернизма и любых его влияний; чтобы подчеркнуть радикализм своей позиции, он был готов критиковать и канонизированную в русской неофициальной культуре эстетику Мандельштама и Ахматовой, объявляя их поэтики глубоко устаревшими. Они устарели, считает он, потому что в их творчестве явлен образ поэта, давно ставший клише или «художественным промыслом», по выражению Пригова. Это образ поэта как носителя сакрального дара высказывать истину.
Из типологии жестов вырастает приговская типология культуры, в основании которой лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». Иначе говоря, Пригов описывает культуру через то, каким образом в ней представлена фигура художника, всегда отвоевывающего новые культурные территории и, условно говоря, стоящего на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций.
В манифестах конца 1980?х – начала 1990?х годов Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то большую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. ‹…› В разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника» [5: 527]. Преобладающее влияние того или иного «позвонка», уровня, определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей – «…художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки», – пишет Пригов Ры Никоновой в 1982 году [5: 529].
В текстах конца 1990?х – начала 2000?х годов Пригов говорил о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социально-культурных «проектов». Первый, Возрожденческий, основан на оппозиции «автор – не-автор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую – учителя, просветителя и мудреца. Основным содержанием авторства для этого типа культуры становятся правда и/или знание, противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект – Романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между высоким и низким, хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский – между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Завершение четырех проектов», ок. 1999 – 5: 186). Наконец, четвертый проект – Авангардный. Его основа – преодоление оппозиции «искусство – не искусство»: «основная драматургия авангардного типа поведения… была явлена в постоянно[м] расширени[и] зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» («Вторая сакро-куляризация», 1990 – 5: 157). В сущности, именно в этой культурной фазе «назначающий жест» становится главной функцией художника, что радикально изменяет его идентификацию.
Внутри авангардной эпохи Пригов выделяет «три возраста» авангарда. Первый – футуристически-конструктивистский, он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов вслед за Б. Гройсом как автором книги «Стиль Сталин» [см.: Гройс 2013], послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая лишь перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив „большие“ онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» [5: 159], – класс, народ, партия, история.
Второй «возраст» – абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, [его] недетерминированность никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операционными законами» [там же]. В России этот тип авангардной культуры, считает Пригов, «сумел перекодировать элементы [существовавших на тот момент] языковой тактики и стратегии, совпав по времени с западным новым авангардом – результатом прямого наследия традиции» [5: 160].
Наконец, третий возраст идентифицируется как поп-артистско-концептуалистский и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики… и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» [там же].
Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» [там же]. Как Пригов говорит в одном из интервью: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовой, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами» [Шаповал 2003: 16]. Именно здесь, полагает Пригов, и наступает «конец текстоцентризма»: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования». «Операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста».
Перформативность – в этой интерпретации – пронизывает все без исключения практики художника. В интервью Алене Яхонтовой Пригов так описывает собственную деятельность:
…Для меня все ‹…› виды [моей] деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП – Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома [Пригов – Яхонтова 2010: 74].
Авторский «центральный фантом» становится по этой логике главным продуктом тотального перформанса, включающего в себя тексты, картины, инсталляции, собственно перформансы и любые публичные высказывания (например, интервью). Его можно было бы сопоставить с «первичным автором» из черновых записей М. М. Бахтина [Бахтин 2002: 412], но с оговоркой: Бахтин, кажется, считал этого «первичного автора» эманацией реального «я», для Пригова же само существование единого «я», единого субъекта, стоящего за этим «первичным автором», было проблематичным, если не сомнительным. Более того, сам этот виртуальный автор и был главным произведением Пригова. «Нет и не было никакого Пригова. Он придумал, вылепил какого-то Дмитрия Алексаныча, наделил его особым языком, голосом и неповторимой интонацией, а сам исчез!» [Пивоваров 2010: 699].
В пределе речь идет о перформативной жизни автора, о «поведении, обнаруживающемся в пределах неигрового вида искусства, где привычный конвенциональный профессиональный язык не предполагает (вернее, до определенного времени не предполагал) появление самого творца, релятивизирующего тем самым ценность, прочность, однозначность и самодостаточность языка произведенных им объектов» («Оценки по поведению», 1990?е гг. – 5: 326).
Эрика Фишер-Лихте в своей «Эстетике перформативности» выделяет три главных эффекта этого феномена: (1) автопоэзис – обратная связь со зрителем и материальным окружением, которые влияют на ход перформанса, (2) разрушение бинарных оппозиций и (3) создание ситуации лиминальности [Фишер-Лихте 2015: 293–327]. В приговском творчестве первая черта заметно ослаблена – зритель редко влияет на его перформативный проект, зато акцентированы вторая и особенно последняя черты. Благодаря перформативности, разрушение бинарных оппозиций происходит не только в постмодернистских текстах Пригова, но и в создаваемом им «авторском контексте», который дестабилизирует оппозицию между имиджем и аутентичностью, между «Я» и «Другим». Эта дестабилизация порождает у зрителя или читателя психологическое напряжение («Это он серьезно или нет? Это он о себе или нет?»), которое разрешается смехом. Пограничность, или лиминальность, этой ситуации выражается именно в потере ориентации, выходе за пределы привычных бинарных дихотомий («жизнь»/«искусство», «автор»/«герой», «означаемое»/«означающее») и радости от этой опасной свободы.
Приговская концепция перформативности отчетливо резонирует с теорией перформативной (гендерной) идентичности, созданной Джудит Батлер. Подобно Батлер, хотя и независимо от нее, Пригов исключает всякую возможность «додискурсивного» Я в структуре идентичности (в его случае – художественной). Как Батлер, так и Пригов видят в идентичности исключительно эффекты языка и языковых практик (а не наоборот), понимая перформативность как род цитирования. Оба обнажают репрессивные социальные и культурные нормы, оформляющие политики идентичности. Вместе с тем приговская перформативность – это именно практика, избегающая стабилизации и ускользающая от конвенциональности, что совпадает с батлеровской концепцией идентичности как практики [см.: Butler 1990: 145]. Не случайно приговская перформативность перекликается с феминистическими концепциями квир-идентичности, поскольку и в том, и в другом случае речь идет о формировании де-центрованной субъектности, которая манифестирует себя через процесс трансгрессии границ, разделяющих дискурсы и тела, социокультурные идентичности и формации. Например, известный теоретик феминизма Тереса де Лауретис понимает идентичность как «локус множественных и вариабельных позиций» [De Lauretis 2007: 174][29 - О других перекличках поэтики Пригова с феминистской теорией см: Чепела, Сандлер 2010.]. Ее характеристика «эксцентричного субъекта», кажется, написана с Пригова и его перформативности:
…он ни целостен, ни расщеплен между позициями ‹…› скорее, он размещает себя поперек позиций, по многим осям координат и различий, поперек дискурсов и практик, которые могли бы быть и часто действительно являются противоречащими друг другу ‹…› наконец, что особенно существенно, этот субъект обладает агентностью (а не просто совершает «выбор»), он способен менять свою позицию, самостоятельно определяя свою (дис)локацию, а следовательно, он воплощает социальную ответственность [там же].
Впервые о «квирных» чертах тела в произведениях Пригова написали К. Чепела и С. Сандлер в своей новаторской во многих отношениях статье [2010]. Скорее всего, Пригов пришел к своей концепции независимо от современной ему западной теории, которая по большей части не была ему известна, – по крайней мере, до 1990?х годов. Как нам представляется, важнейшим источником приговской концепции перформативности стал исторически конкретный психологический опыт, а именно – переживание психологического разрыва между самоощущением меньшинства и гегемониальным языком позднесоветской культуры. Пригов был представителем неофициального искусства. Такие стихи, как писал он и другие люди того же круга – концептуалисты и не-концептуалисты не только не могли быть опубликованы, но даже упомянуты в печати и вообще в публичной сфере (кроме как с прибавлением крайне негативных оценок). Индивидуальный комплекс отчуждения, свойственный Пригову (см. Введение), тоже вносил вклад в это переживание. Но, в отличие от авторов бунтарского, неоромантического типа (как Венедикт Ерофеев), Пригов, как и некоторые другие российские писатели и художники 1970?х годов, разработал в своем творчестве механизмы игровой «диссимуляции» и «гиперкомпенсации», которые показывали, что советский гегемониальный дискурс был глубоко насильственным по методам своего функционирования.
Пригов, как и другие российские концептуалисты, самостоятельно переоткрыл – но и по-своему сконструировал – творческую стратегию, хорошо известную авторам квир- и постколониальных исследований. Когда представители «младшей», подавленной культуры (subaltern culture) начинают входить в публичное поле, они могут поначалу использовать язык гегемониальной культуры, переосмысляя его и подчеркивая его перформативность. Представитель культуры меньшинства одновременно обращается к «своей» аудитории, осмеивая культуру большинства, – и демонстрирует самоосмеяние для «внешнего» зрителя или слушателя, разыгрывая особую, «прибедняющуюся», колониальную самоиронию. Именно так были построены выступления афроамериканских исполнителей песен перед смешанной аудиторией в США в начале ХХ века[30 - Подробнее см., например: Gates 1988: 44–88.].
Концептуалисты имели дело с советской гегемониальной культурой, которая на момент их социализации уже была морально скомпрометирована, – по крайней мере, для критически мыслящих интеллектуалов. В этих условиях Пригов изобрел жест двойного остранения: подчеркнутое, утрированное использование гегемониального языка он сделал перформативным, но и саму эту перформативность остранил, представив ее как искусственно сконструированную стратегию. Это второе остранение помогало ему отказаться от любой моральной солидаризации с гегемониальным языком и показать его условность, «сделанность», чего в «классическом» языке колонизированных меньшинств не было.
По своей структуре такие отношения автора и дискурса напоминали дистанцированные отношения актера и роли в «диалектическом» театре Бертольда Брехта. Как справедливо отмечает Александр Скидан, приговская «актерская техника», т. е. его метод работы с образом субъекта ближе к театру Брехта, чем Станиславского:
Подобно тому, как в брехтовском театре актер не перевоплощается в персонажа пьесы, а показывает его, занимая по отношению к нему критическую дистанцию, так же и ДАП в своих текстах постоянно «выходит из роли», обнажая искусственность, сделанность текстовой конструкции, наряду с конструкцией («персонажностью») лирического субъекта. ‹…› …эта саморефлексивная, аналитическая техника становится у Брехта, равно как и у Пригова, инструментом показа-кристаллизации господствующей идеологии, в той степени, в какой та говорит через конвенциональные художественные формы и дискурсы. Нужно ли напоминать, что для Брехта такой распыленной в «эстезисе» инстанцией власти являлась идеология буржуазная, тогда как для Пригова по большей части – коммунистическая (утопическая, мессианская) [Скидан 2010: 126].
Однако Пригов по сравнению с Брехтом резко переносит смысловые акценты: «актер» в его «театре» последовательно разоблачает не ложные общественные отношения, а претензии идеологического языка на то, чтобы программировать человеческое самосознание. «Закавыченная перформативность» становится важнейшим средством такого разоблачения.
Томаш Гланц, впрочем, не без оснований полагает, что термин «отстранение» больше подходит Пригову, чем «остранение» Шкловского или «отчуждение» Брехта. По его мнению, Пригов в 1970?е годы
создал не только особый тип письма, но и в целом новый стиль артистического поведения путем комбинирования в своем репертуаре элементов литературы, визуального искусства и перформанса. Разрушая границу между поэтикой и метапоэтикой, Пригов создал новый тип поэтической выразительности, новый тип авторства, художественную стратегию, которая не имеет ни продолжателей, ни предшественников. Акцентированный отказ от авторского голоса служит основанием для уникальной авторской позиции, основанной на последовательной авторефлексии [Glanc 2018: 147].
Вероятно, Гланц прав, и отказ от авторского голоса и размывание границы между поэтикой и метапоэтикой – необходимые условия приговской перформативности. Именно такую перформативность Пригов считал определяющей для современного художника, называя ее «мерцательным типом поведения»:
…в принципе неподвижное существование в виртуальной зоне границы в реальности представляет собой как бы быстрое мерцание, перебегание из зоны в зону, [при котором автор] не задержива[ется] ни в одной из них настолько, чтобы влипнуть в нее и быть идентифицированным с нею, но и оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться ее и быть с ней в контакте («Культо-мульти-глобализм», начало 2000?х гг. – 5: 182).
В статье, предположительно 1999 года, Пригов так пояснял значение этой категории. Говоря о художниках, работающих в персонажных масках, – что, разумеется, соотносилось и с его собственным методом, – Пригов характеризует их так:
Художники, работавшие подобным образом, подобной стратегией, не идентифицировались полностью со своими масками-имиджами. Это был некий род мерцания, процесс неимоверной скорости, почти одновременного присутствия в имидже и вне его. То есть непривычный зритель, готовый к длительному и медленному созерцанию текстов, картин, объектов, не был приспособлен к подобного рода динамике. Задачей же художника было столь краткое присутствие в тексте, чтобы не влипнуть в него полностью. Но и отсутствие в нем не должно быть столь длительным, чтобы полностью выпасть из него, препарируя и обличая текст как посторонний [5: 330].
Тогда же, в 1999 году, выходит составленный Монастырским «Словарь терминов московской концептуальной школы», в который включена статья Пригова о мерцательности:
Мерцательность – утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения предполагает временное «влипание» его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, – и снова «отлетание» от них в метаточку стратегемы и не «влипание» в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть полностью идентифицированным и с ней, – и называется «мерцательностью». Полагание себя в зоне между этой точкой и языком, жестом и поведением и является способом художественной манифестации «мерцательности» [Словарь 1999: 58–59].
Даниил Лейдерман, посвятивший мерцанию свою диссертацию [см.: Leiderman 2016 и Leiderman 2017], считает, что этот принцип лежит в основании формальных поисков художников-концептуалистов начиная с середины 70?х. Вслед за Приговым Лейдерман интерпретирует мерцание как попеременную реализацию противоположных и даже взаимоисключающих парадигматических подходов в структуре художественного пространства, в отношениях между субъектом и объектом, автором и персонажем («персонажность») – в частности, между организаторами акций «Коллективных действий» и их участниками. Исследователь подчеркивает, что, в отличие от эстетической амбивалентности, мерцание предполагает сознательное и последовательное ускользание («предательство») автора, избегающего полного отождествление с какой бы то ни было из сталкиваемых в тексте дискурсивных логик/эстетических систем.
Смысл мерцания, таким образом, состоит в освобождении автора – а за ним и читателя/зрителя – от жестких рамок дискурсивных режимов, преодолении зависимости от авторитетных систем идей и принципов, снятии героического пафоса самопожертвования (свойственному и многим представителям нонконформизма), подрыве метафизических и профетических амбиций и в конечном счете служит тому, что Пригов считал целью постмодернизма: критике собственного высказывания.
Главным эффектом «мерцательного типа поведения художника» или «эксцентрической субъективности» является тактика «невлипания» или «незалипания». Слово «незалипание» – одно из ключевых в кружковом лексиконе московского концептуализма [см.: Словарь 1999: 62–63]; возможно, оно возникло под влиянием философской концепции «ускользания» и «детерриторизации», предложенной в дилогии Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (ее составляют книги «Анти-Эдип» и «Тысяча плато»). Активным пропагандистом идей Делёза и Гваттари в кругу московских концептуалистов был Михаил Рыклин – скорее всего, от него Пригов первоначально и узнал о работах французских философов. Однако важно подчеркнуть, что рецепция идеи «невлипания» у Пригова, как и у других концептуалистов, была вполне инновативной: Делёз и Гваттари призывали творчески настроенных интеллектуалов (к которым они в первую очередь и адресовались) сопротивляться любым дискурсам власти и общественного большинства, но мало говорили о временном режиме этого сопротивления и о том, как можно, сопротивляясь, все же изучать и эстетически осваивать властные языки – «оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться… и быть… в контакте». Пригов тоже не дал – да, вероятно, и не планировал дать – систематического описания действий, которые может предпринимать художник на границе гегемониальных дискурсов. Однако он неустанно разыгрывал эти действия, организуя композиции своих сборников и «Азбук», а в «предуведомлениях» анализировал многочисленные варианты этих «перформансов неповиновения» – одновременно пародируя такой анализ и ставя под вопрос саму его возможность[31 - О категории «мерцания» в теоретических и публицистических текстах Пригова см.: Janecek 2018; Rutz 2018.].
Именно этот аспект – или эффект – приговской перформативности особенно важен, поскольку он непосредственно связан с вопросом власти. Разумеется, само пересечение границ и создание лиминальной «опасной свободы» по определению насыщено политическим смыслом. Вместе с тем в постсоветский период перформативность все чаще становится орудием власти – политической и символической, чему можно найти множество примеров – от перформанса выборов до перформансов Олимпиады или чемпионата мира по футболу, воплощающих политическую и символическую гегемонию. Впервые об этой «перформативной силе» российских властных институтов в общем виде написал в 2006 году социолог культуры Борис Дубин:
…Направленное торможение социальной, экономической, культурной дифференциации общества, усложнения его структур, с одной стороны, и ослабление независимости различных институтов, инициативных групп – с другой, влечет за собой расширение поля действия интегративных символов и церемоний причастности «всех» к коллективному целому державы-нации, ритуализацию или церемониализацию текущей политики… [Дубин 2006: 16]
На такую символическую гегемонию власти отвечают «подрывные» перформансы групп «Война» и Pussy Riot и публичные акции Петра Павленского и других художников[32 - В теоретическом смысле вопрос о связи между перформансом и властью обсуждает Alexander 2011.].
Именно в этом контексте политический смысл приговской перформативности раскрывается в полной мере. Это качество его эстетики сформировалось намного раньше 2000?х годов, но именно ретроспективно, из 2020 года, видно, до какой степени Пригов предвосхитил будущее развитие искусства со своей последовательной рефлексией перформативности.
2. Поэтическая семиотика