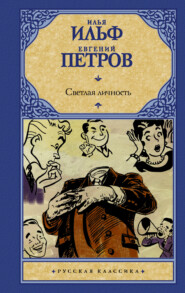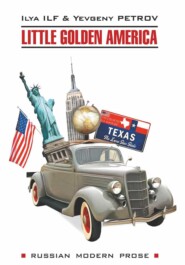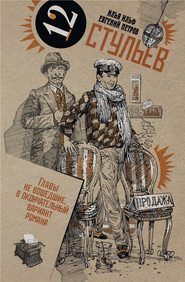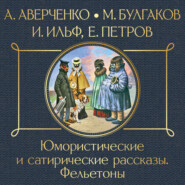По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лучшие произведения в одном томе
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В театре колумба
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.
В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.
Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.
На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.
Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.
– Послушайте, – сказал вдруг великий комбинатор, – как вас звали в детстве?
– А зачем вам?
– Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем – слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?
– Киса, – ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
– Конгениально. Так вот что, Киса, – посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.
Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.
– Ого, – сказал Ипполит Матвеевич, – краснота какая-то.
Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.
– Честное слово, цифра восемь! – воскликнул Воробьянинов. – Первый раз вижу такой синяк.
– А другой цифры нет? – спокойно спросил Остап.
– Как будто бы буква Р.
– Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула.
– А я тоже… Я тоже пострадал! – поспешно вставил Киса.
– Это когда же? Когда вы приударивали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый флирт закончился не совсем удачно! Или, может быть, во время дуэли с оскорбленным Колей?
– Нет-с, простите, повреждения я получил на работе-с!
– Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба?
– Да, да… Когда за нами гнался сторож…
– Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора?
– Я ударился коленной чашечкой о мостовую.
– Не беспокойтесь! При теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют.
Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений.
– Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, – с грустью сказал Остап, – придется, Киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей!.. И ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке, как часовой, не двигаясь с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною – стул вдовицы. За мною – два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага – архиепископа.
Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.
Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить – оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.
– А то, может быть, разделимся? – спросил Остап. – Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.
– Из двух зайцев, – сказал он, – выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!
Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми».
Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен.
Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель:
– Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал…
Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о пюпитр и высыпал в толпу, ожидавшую трамвай, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер 6. Уже взвился занавес, уже старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем только под голос Ленского – «в вашем доме…».
Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.
Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
– Все-таки, – сказал он, – очень дорого. Шестнадцатый ряд – три рубля.
– Как я не люблю, – заметил Остап, – этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?
– Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!
– Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе». Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.
Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы же видите, что я даже калош не снял», пробился к окошечку и заглянул внутрь.
Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.
– Да! – кричал он. – Да, да! Восемь тридцать!
Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить.
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.
В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.
Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.
На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знаменитый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.
Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.
– Послушайте, – сказал вдруг великий комбинатор, – как вас звали в детстве?
– А зачем вам?
– Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем – слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?
– Киса, – ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.
– Конгениально. Так вот что, Киса, – посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.
Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.
– Ого, – сказал Ипполит Матвеевич, – краснота какая-то.
Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.
– Честное слово, цифра восемь! – воскликнул Воробьянинов. – Первый раз вижу такой синяк.
– А другой цифры нет? – спокойно спросил Остап.
– Как будто бы буква Р.
– Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула.
– А я тоже… Я тоже пострадал! – поспешно вставил Киса.
– Это когда же? Когда вы приударивали за чужой женой? Насколько мне помнится, этот запоздалый флирт закончился не совсем удачно! Или, может быть, во время дуэли с оскорбленным Колей?
– Нет-с, простите, повреждения я получил на работе-с!
– Ах! Это когда мы по стратегическим соображениям отступали из театра Колумба?
– Да, да… Когда за нами гнался сторож…
– Значит, вы считаете героизмом свое падение с забора?
– Я ударился коленной чашечкой о мостовую.
– Не беспокойтесь! При теперешнем строительном размахе ее скоро отремонтируют.
Ипполит Матвеевич проворно завернул левую штанину и в недоумении остановился. На желтом колене не было никаких повреждений.
– Как нехорошо лгать в таком юном возрасте, – с грустью сказал Остап, – придется, Киса, поставить вам четверку за поведение и вызвать родителей!.. И ничего-то вы толком не умеете. Почему нам пришлось бежать из театра? Из-за вас! Черт вас дернул стоять на цинке, как часовой, не двигаясь с места. Это, конечно, вы делали для того, чтобы привлечь всеобщее внимание. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною – стул вдовицы. За мною – два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага – архиепископа.
Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.
Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить – оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.
– А то, может быть, разделимся? – спросил Остап. – Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.
– Из двух зайцев, – сказал он, – выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!
Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась – в люди ее не пускали. А ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми».
Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен.
Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель:
– Молодой помещик и поэт Ленский влюблен в дочь помещика Ольгу Ларину. Евгений Онегин, чтобы досадить другу, притворно ухаживает за молодой Ольгой. Прослушайте увертюру. Даю зрительный зал…
Громкоговоритель быстро закончил настройку инструментов, звонко постучал палочкой дирижера о пюпитр и высыпал в толпу, ожидавшую трамвай, первые такты увертюры. С мучительным стоном подошел трамвай номер 6. Уже взвился занавес, уже старуха Ларина, покорно глядя на палочку дирижера и напевая «Привычка свыше нам дана», колдовала над вареньем, а трамвай еще никак не мог оторваться от штурмующей толпы. Ушел он с ревом и плачем только под голос Ленского – «в вашем доме…».
Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.
Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.
– Все-таки, – сказал он, – очень дорого. Шестнадцатый ряд – три рубля.
– Как я не люблю, – заметил Остап, – этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?
– Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!
– Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.
И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих тесно связанных с театром лиц, как то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе». Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.
Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы же видите, что я даже калош не снял», пробился к окошечку и заглянул внутрь.
Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.
– Да! – кричал он. – Да, да! Восемь тридцать!
Он с лязгом вешал трубку, чтобы снова ее схватить.