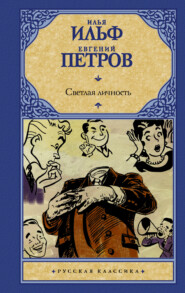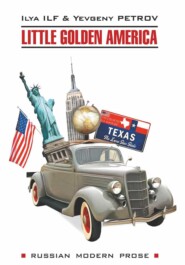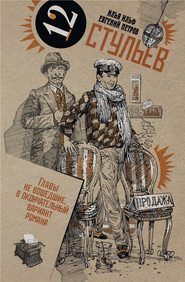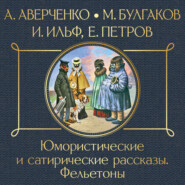По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Двенадцать стульев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но о каком спаде можно было говорить? Ильф и Петров находились в расцвете сил и таланта. Просто талант страшился самоповторений и проторенных дорожек. А новое нащупывалось с трудом.
«Мы чувствуем, – говорил Петров, – что нужно писать что-то другое. Но что?»
В ту пору, когда начинался «Золотой теленок», в очередной раз заявили о себе «упразднители» сатиры и юмора. В критике разгорелись шумные баталии. «Упразднители» требовали изъять сатиру и юмор из литературы как чуждые пролетариату, изжившие себя и вообще вредные социалистическому обществу, поскольку наше героическое время не дает оснований для смеха. Ильф и Петров, чьи имена не раз трепали в критических перебранках, вмешались в полемику, предварив «Золотого теленка» диалогом с неким строгим гражданином.
«– Смеяться грешно, – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода».
Шел 1931 год. Пока еще можно было отстаивать сатиру и юмор, спорить со строгим гражданином, высмеивать его абсурдные рассуждения. Можно было ответить лаконично, в стиле Бернарда Шоу: «Не будьте идиотом». В таком примерно духе Ильф с Петровым и ответили, а в заключение обратились к прокурору республики с просьбой: если строгий гражданин снова будет уныло твердить, что сатира не должна быть смешной, привлечь его к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. И хотя все время, пока сочинялся «Золотой теленок», над писателями реял лик строгого гражданина, они не отреклись от права на смешную сатиру.
Но есть в новом романе и новые краски. В «Золотом теленке» явственнее, чем в «Двенадцати стульях», звучит лирическая мелодия, лиризм здесь чаще становится спутником смеха, и веселый неунывающий плут Остап, оказывается, умеет и грустить.
Генеалогию Остапа прослеживали не раз. У него есть предшественники и соседи в произведениях советских писателей: авантюрист бухгалтер Прохоров из знаменитого «дорожного» романа Валентина Катаева «Растратчики», устремляющийся в неудержимый бег по градам и весям; Олег Баян в «Клопе» Маяковского, устроитель «красных, трудовых бракосочетаний», учащий молодоженов танцевать первый фокстрот после свадьбы; проходимец Аметистов из «Зойкиной квартиры» Булгакова.
<…>
Можно продолжить аналогии, и все же Остап – это Остап. Если в чем-то на кого-то и похожий, то в главном всегда неповторимый. Плуты Маяковского или Булгакова проще, грубее, вульгарнее. И не потому, что написаны не в полную силу таланта. Лицо каждого отчетливо закрепилось в памяти. Но художники ставили перед собой другие цели и краски выбирали соответствующие. Остап же – нравилось или не нравилось это критикам Ильфа и Петрова – артистичен, талантлив, находчив в своих плутовских проделках. В «Двенадцати стульях» погоня за сокровищами превратилась для него в своеобразное действо. Мы уже говорили, что при случае он не прочь был блеснуть высоким искусством обмана и розыгрыша. В «Золотом теленке» все это осталось при нем. Но если в «Двенадцати стульях» Остап еще довольно смутно представлял себе, как распорядиться бриллиантами, то теперь знает. Теперь это для него вопрос жизни. При первой же встрече с Шурой Балагановым он прямо говорит: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
И это, в сущности, уже было началом конца традиций плутовского романа, которые Ильф и Петров обновили и одновременно исчерпали. По крайней мере для себя.
Выиграв битву с Корейко, Остап все-таки оказывается в проигрыше. Бедный плут! Корейко прочно укоренился в советском обществе, врос в его быт. Он точно знает, когда надо прикинуться «тихим советским мышонком», когда схорониться, и ждет момента, когда можно будет снова безбоязненно всплыть на поверхность со своими миллионами. Корейко – воплощение самых темных торгашеских сил, и, когда рядом с «медальным профилем» великого комбинатора вдруг вылезает это «белоглазое ветчинное рыло», эта «молодецкая харя с севастопольскими полубаками», мы понимаем, что сатирики бьют наотмашь, что, следуя «агитационному уклону» Маяковского, они с первых же слов прямо указывают, кто здесь сволочь.
Неблагодарное для критика занятие – пророчествовать и пытаться предсказать возможную судьбу литературного героя лет эдак через сорок – пятьдесят. Но Корейко без натяжек легко представить «крестным отцом» какой-нибудь сегодняшней торговой мафии. Остапу с его запасом в четыреста способов сравнительно честного отъема денег тягаться с Корейко на этом поприще не под силу. Да он бы и не стал. Дух стяжательства претит Остапу. Он вдруг понял, что обладать миллионом куда хлопотней, чем пустым карманом. «Частному лицу» даже с миллионом не развернуться. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – высокопарно восклицал Остап. А ничего-то и не тронулось. Индивидууму, которому чужды проблемы социалистической переделки человека, в СССР ходу нет.
В условиях рыночной экономики кооператор, предприниматель, пенсионер, живущий за чертой бедности, знают, как распорядиться миллионом. В далекие 1920 – 1930-е годы Остап этого не знал, если не собирался пойти путем Корейко. Люди жили трудно, бедно, в условиях всеобщей нищенской «уравниловки». На что тратить деньги да и откуда их взять неутомимо вкалывающим строителям социализма? Но, по совести говоря, честная бедность общительных, веселых и голодных студентов политехникума, оказавшихся в одном купе с Остапом, симпатичнее спекулянтских замашек тех цепких, что прекрасно знают, почем нынче золотой теленочек, готовых хапать и наживаться.
Во втором романе Ильфа и Петрова перед экипажем «Антилопы…», мчащейся из одного города в другой, мелькает целый калейдоскоп лиц. Тут и бюрократ Полыхаев, начальник дутого, как мыльный пузырь, «Геркулеса», в недрах которого туго пришлось даже великому комбинатору и где привольно живется архижулику Корейко. Тут и обитатели «Вороньей слободки» – групповой портрет поднаторевших в квартирных склоках обывателей.
И как это часто случалось с персонажами Ильфа и Петрова, «геркулесовцы» и обитатели квартиры номер три в Лимонном переулке напомнили о себе в новых произведениях соавторов, выступив под другими именами, в другом обличье, но сохранив свои манеры, повадки, хамство и невежество, дух склочничества, своекорыстие. Снова начав писать фельетоны, Ильф и Петров нашли место в хороводе разных мелких и крупных бесов и этим персонажам.
В начале 1930-х годов соавторы часто выступали с фельетонами в «Литературной газете», подписывая их новым псевдонимом «Холодный философ», и в «Правде» с фельетонами на бытовые темы, показывая, как говорил Ю. Олеша, высокий класс журнализма.
Все, что делалось Ильфом и Петровым в жанре фельетона, делалось ими в полную силу, безо всяких скидок на «газетность». Для них вообще не существовало деления на жанры высокие и низкие. Они создавали свою, новую, гофманиаду, не фантастическую, а совершенно конкретную, привязанную к определенным фамилиям, датам, адресам, простым житейским фактам, нередко почерпнутым из читательской почты. И очень огорчались, когда дружески расположенные к ним люди в недоумении разводили руками: писали бы романы; далась вам эта сиюминутность, эта злободневность!
<…>
Перечитывая сегодня фельетоны Ильфа и Петрова, заново убеждаешься в их злободневности и долговечности… По-прежнему омрачают жизнь угрюмые чиновники, дельцы, бюрократы, злобные дураки, ханжи с каменно-бездушными ухватками, безразличные к чужому горю и не интересующиеся ничем, кроме самих себя. Писать о таких людях «нестерпимо», «почти физически больно», говорили Ильф и Петров. Но борьбу с неуважением к людям, с оскорблением человеческого достоинства они считали своим гражданским, писательским долгом.
<…>
Уходило с годами бурное, безоглядное веселье «Двенадцати стульев». Свои фельетоны Ильф и Петров умели писать очень смешно. Смех не пропал. Но соавторы становились все строже, серьезнее, внутренне сосредоточенней. Друзья Ильфа и Петрова, близко знавшие обоих, запомнили их доброту, чуткость, отзывчивость, готовность помочь людям, ободрить, облегчить их жизнь. Но писатели не могли без гнева и негодования говорить о чиновнике, грубо, взашей, вытолкнувшем из своего кабинета старика-пенсионера; о дураке, запретившем прописать молодую женщину на жилой площади мужа, к которому она переехала после свадьбы из другого города; о хаме, отказавшемся уступить такси беременной женщине, которую срочно надо доставить в родильный дом. Как правило, такие подлецы получали в фельетонах не имена и фамилии, а нарицательные клички, которые к ним буквально прилипали: «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Саванарыло».
В 1936 году Ильф и Петров завершили последнюю свою большую совместную книгу «Одноэтажная Америка», книгу-очерк, книгу-репортаж, итог трехмесячного пребывания в Соединенных Штатах.
Отправляясь за океан, писатели не собирались отыскивать в американском образе жизни сплошь негативные черты и всё писать черными красками, как тогда было принято. Не надевали на глаза шоры. Все хорошее были готовы поддержать, искренне радовались доброжелательному отношению американцев к России и с готовностью отвечали дружбой на дружбу. Но подлаживаться в своих суждениях к американским представлениям, хвалить то, что было им не по душе, и тем самым завоевывать расположение хозяев Ильф и Петров также считали недостойным. Свою позицию они сформулировали в конце книги. Это как бы ключ к ее пониманию. «Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка – не премьера новой пьесы, а мы – не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней».
<…>
После смерти Ильфа остались записные книжки. Ильф любил ходить, глазеть, записывать. Он называл себя зевакой. Но это был не обычный зевака, а внимательный, зоркий наблюдатель жизни. В записные книжки он заносил смешные реплики, неожиданный каламбур, удивительную фамилию, остроту, анекдот… А иногда страницы записной книжки становятся своеобразным лирическим дневником. Так складывалась книга поэтичная, веселая и глубоко печальная.
Свободные по форме записи могут показаться случайными, разрозненными. Но это только кажется. Как в каждой хорошей книге, тут есть свой постоянный сюжет, своя внутренняя логика, свой пафос – пафос целой жизни художника. Ненависть к пошлости, мещанству, хамству, свинскому, бездушному отношению к людям.
Ильф знал, что умирает. В присутствии Петрова он грустно шутил насчет шампанского марки «Их штербе» («Я умираю»), а однажды сказал, что видел сон, будто его съели туберкулезные палочки. Однако эти страшные предчувствия скрывал и в последних заметках только вскользь, глухо проговаривался о случившейся беде: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло». Даже последние записи, сделанные рукой умирающего человека, говорят о силе духа, не сломленного болезнью, о зрелости таланта и поразительном жизнелюбии.
Он высмеивал художника, который так нарисовал лису, что сразу стало понятно: моделью ему послужила горжетка жены. Моделью для Ильфа всегда служила живая натура, а не муляжи. Среди его записей много маленьких лирических акварелей, дышащих прелестью и очарованием. Скромная природа Подмосковья. Песок и сосны. Повалившийся забор выгнулся, как оперенье громадной птицы. Красноносая ледяная московская весна. Пышный пейзаж побережья Крыма. Цветут фиолетовые иудины деревья. «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».
«Все войдет, – обещал он самому себе, – и площадка перед четвертым корпусом, и шум вечно сыплющегося песка, и новый парапет, слишком большой для такой площадки, и туман, один день надвигающийся с моря, а другой с гор».
Но это уже никуда не вошло. Коротенькие, «как чеки», записи так и остались в блокнотах. Ильф умер 13 апреля 1937 года, умер молодым, не успев реализовать все, что накопил в последние годы для новых книг, не раскрыв до конца свой первоклассный лирический дар.
И вот настал день, который Ильф и Петров себе представляли и не могли представить. Уже не двое уселись перед пишущей машинкой, а только один.
Что же писал Петров, снова взявшись за перо? Оставшись без друга и соавтора, он как бы заново испытывал себя в различных жанрах. Делал наброски книги «Мой друг Ильф», написал комедию-памфлет «Остров мира» (воскресил традицию созданных когда-то с Ильфом сценариев кинокомедий «Барак», «Цирк», «Однажды летом»). Написал (в соавторстве с Г. Мунблитом) сценарии кинокомедий «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится», кинокомедию «Воздушный извозчик», энергично работал как фельетонист, очеркист, редактировал журнал «Огонёк».
Война заставила сменить самый образ жизни. Начальный ее период Петров провел на фронте в качестве военного корреспондента «Правды», «Красной звезды» и американского газетного агентства.
Он был под Москвой в дни поражений и побед, а в 1942 году, когда немцы готовились к «мурманскому прыжку», поехал на Кольский полуостров. Потом с берегов Баренцева моря помчался на другой конец гигантского фронта – к Черному морю, в Севастополь. Корреспонденции с трех театров войны – подмосковного, мурманского, севастопольского – составили три раздела его «Фронтового дневника», занявшего почетное место в литературе первых лет войны.
Военный корреспондент Петров погиб 2 июля 1942 года, возвращаясь из осажденного Севастополя, в авиационной катастрофе. Его полевая сумка была набита записями для будущих статей и очерков. Брат Петрова Валентин Катаев с горечью говорил:
«В самолете были люди. Многие уцелели. А Женя прошел в каюту летчика. В детстве он всегда любил стоять возле вагоновожатого в трамвае или возле рулевого на катере. Это осталось у него на всю жизнь».
Ильф и Петров избрали для себя нелегкий литературный жанр, самый гонимый и преследуемый тоталитарными режимами. Баловать сатиру вниманием не очень-то было принято. Ругали чаще, чем хвалили. «Двенадцать стульев» преднамеренно замалчивали. Долгое и упорное сопротивление пришлось преодолеть и при издании «Золотого теленка». Помогло вмешательство Максима Горького.
Если Ильфу и Петрову не пришлось, как Михаилу Зощенко, испытать в 1946 году трагическую судьбу отлученных от литературы писателей, так лишь потому, что к тому времени их уже не было в живых. Однако когда развернулась позорная травля Зощенко, задним числом вспомнили и ставшие уже классическими романы покойных авторов. Настало их время расплачиваться за веселый смех и сатиру, за великого комбинатора, которому, по меркам середины 1930-х, место было не в романах, а на стройке Беломоро-Балтийского канала. О «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» было сказано коротко и грозно: «Путешествие плутов по стране дураков». Пусть с запозданием, но приговор все же вынесли. Из библиотек изымали книги Ильфа и Петрова, а вышедшее после войны новое издание романов сочли «грубой ошибкой». Известный критик и литературовед, редактор книги Евгения Ковальчик, подписавшая ее в печать, получила партийное взыскание.
Задолго до этих дней Ильф и Петров очень часто с тревогой задумывались о положении литературы и литераторов в обществе, об отношении партийных функционеров к писателям как к людям подозрительным и неудобным. Писатели не станут писать лучше, с горечью предостерегали Ильф и Петров, если устроить «избиение литгугенотов, против некоторых фамилий поставить кресты, а затем учинить варфоломеевскую ночь с факелами и оргвыводами». Предостерегали, не представляя тогда размаха грядущей варфоломеевской ночи, масштабов развязанной сталинским режимом расправы.
Илья Эренбург запомнил слова, которые любил повторять Ильф: «Репертуар исчерпан» – или: «Ягода сходит». «Как теперь нам писать? – говорил он Эренбургу. – „Великие комбинаторы" изъяты из обращения. Напишешь рассказ – сразу загалдят: „Обобщаете нетипичное явление, клевета"».
А ведь Ильфу и Петрову выпала не столь горькая судьба, как Зощенко, Кольцову, Эрдману, Булгакову. В ту пору, когда начиналась их деятельность, паролем и лозунгом времени были слова партийного гимна: «Отречемся от старого мира…» Судя по тону официальных упреков, Ильф и Петров отрекались недостаточно энергично. Дворян, аристократов и всех бывших критиковали без должной классовой нетерпимости. Подумать только, Остап даже привязался к бывшему предводителю дворянства!..
Сегодня Ильфа и Петрова за обличение старого мира и насмешки над бывшими критикуют уже слева. «Кому сейчас охота смеяться над людьми, которых революция лишила дома и родины? – спрашивала уважаемая мной дама-критик в уважаемом московском издании. – Очень ли смешно, что „умственная" интеллигенция, не принявшая режим, была обречена на вымирание или прозябание… Какие уж тут шутки?.. Насмешка, беспощадная до издевательства».
Если в компанию глупцов, окружающих Остапа, затесался глупый предводитель дворянства (не все предводители – Турбины и «умственные» интеллигенты), что прикажете делать с ним сатирикам? К тому же не будем забывать: Воробьянинов не только смешон, он жаден, подл, умеет зло огрызаться и, как мы узнаём в конце романа, совершает убийство.
Время вносит неизбежные коррективы. Меняемся с годами мы, меняются наши понятия и представления. Не будем, однако, спешить с выговорами авторам умных, талантливых и таких живых романов.
В окаянные годы веселая муза Ильфа и Петрова ободряла, утешала, поддерживала, смешила, многое помогала увидеть иначе и в смехе обрести душевную опору. И не дай бог нынешним «прогрессистам», успевшим твердо усвоить, что такое хорошо и что такое плохо, безапелляционно рассуждать о заблуждениях Ильфа и Петрова. Время моды на «оргвыводы» миновало. Будем надеяться, проходит мода и на шумные, сенсационные разоблачения с обязательным наклеиванием ярлыков вроде: литераторы, «обслуживавшие режим» (это об Ильфе и Петрове-то!). Урон, нанесенный вразумлениями с «оргвыводами», в свое время был неисчислим. Нужно ли начинать сызнова?
Ильф и Петров ушли из жизни, когда им, как одному, так и другому, еще не исполнилось сорока. Но книги сорокалетних, пережив свое вот уже шестидесятилетие, по-прежнему остаются в числе классических, самых любимых и столь нужных читателям в наши нелегкие дни.
Борис Галанов
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Часть первая. Старгородский лев
«Мы чувствуем, – говорил Петров, – что нужно писать что-то другое. Но что?»
В ту пору, когда начинался «Золотой теленок», в очередной раз заявили о себе «упразднители» сатиры и юмора. В критике разгорелись шумные баталии. «Упразднители» требовали изъять сатиру и юмор из литературы как чуждые пролетариату, изжившие себя и вообще вредные социалистическому обществу, поскольку наше героическое время не дает оснований для смеха. Ильф и Петров, чьи имена не раз трепали в критических перебранках, вмешались в полемику, предварив «Золотого теленка» диалогом с неким строгим гражданином.
«– Смеяться грешно, – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!
– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода».
Шел 1931 год. Пока еще можно было отстаивать сатиру и юмор, спорить со строгим гражданином, высмеивать его абсурдные рассуждения. Можно было ответить лаконично, в стиле Бернарда Шоу: «Не будьте идиотом». В таком примерно духе Ильф с Петровым и ответили, а в заключение обратились к прокурору республики с просьбой: если строгий гражданин снова будет уныло твердить, что сатира не должна быть смешной, привлечь его к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом. И хотя все время, пока сочинялся «Золотой теленок», над писателями реял лик строгого гражданина, они не отреклись от права на смешную сатиру.
Но есть в новом романе и новые краски. В «Золотом теленке» явственнее, чем в «Двенадцати стульях», звучит лирическая мелодия, лиризм здесь чаще становится спутником смеха, и веселый неунывающий плут Остап, оказывается, умеет и грустить.
Генеалогию Остапа прослеживали не раз. У него есть предшественники и соседи в произведениях советских писателей: авантюрист бухгалтер Прохоров из знаменитого «дорожного» романа Валентина Катаева «Растратчики», устремляющийся в неудержимый бег по градам и весям; Олег Баян в «Клопе» Маяковского, устроитель «красных, трудовых бракосочетаний», учащий молодоженов танцевать первый фокстрот после свадьбы; проходимец Аметистов из «Зойкиной квартиры» Булгакова.
<…>
Можно продолжить аналогии, и все же Остап – это Остап. Если в чем-то на кого-то и похожий, то в главном всегда неповторимый. Плуты Маяковского или Булгакова проще, грубее, вульгарнее. И не потому, что написаны не в полную силу таланта. Лицо каждого отчетливо закрепилось в памяти. Но художники ставили перед собой другие цели и краски выбирали соответствующие. Остап же – нравилось или не нравилось это критикам Ильфа и Петрова – артистичен, талантлив, находчив в своих плутовских проделках. В «Двенадцати стульях» погоня за сокровищами превратилась для него в своеобразное действо. Мы уже говорили, что при случае он не прочь был блеснуть высоким искусством обмана и розыгрыша. В «Золотом теленке» все это осталось при нем. Но если в «Двенадцати стульях» Остап еще довольно смутно представлял себе, как распорядиться бриллиантами, то теперь знает. Теперь это для него вопрос жизни. При первой же встрече с Шурой Балагановым он прямо говорит: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
И это, в сущности, уже было началом конца традиций плутовского романа, которые Ильф и Петров обновили и одновременно исчерпали. По крайней мере для себя.
Выиграв битву с Корейко, Остап все-таки оказывается в проигрыше. Бедный плут! Корейко прочно укоренился в советском обществе, врос в его быт. Он точно знает, когда надо прикинуться «тихим советским мышонком», когда схорониться, и ждет момента, когда можно будет снова безбоязненно всплыть на поверхность со своими миллионами. Корейко – воплощение самых темных торгашеских сил, и, когда рядом с «медальным профилем» великого комбинатора вдруг вылезает это «белоглазое ветчинное рыло», эта «молодецкая харя с севастопольскими полубаками», мы понимаем, что сатирики бьют наотмашь, что, следуя «агитационному уклону» Маяковского, они с первых же слов прямо указывают, кто здесь сволочь.
Неблагодарное для критика занятие – пророчествовать и пытаться предсказать возможную судьбу литературного героя лет эдак через сорок – пятьдесят. Но Корейко без натяжек легко представить «крестным отцом» какой-нибудь сегодняшней торговой мафии. Остапу с его запасом в четыреста способов сравнительно честного отъема денег тягаться с Корейко на этом поприще не под силу. Да он бы и не стал. Дух стяжательства претит Остапу. Он вдруг понял, что обладать миллионом куда хлопотней, чем пустым карманом. «Частному лицу» даже с миллионом не развернуться. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» – высокопарно восклицал Остап. А ничего-то и не тронулось. Индивидууму, которому чужды проблемы социалистической переделки человека, в СССР ходу нет.
В условиях рыночной экономики кооператор, предприниматель, пенсионер, живущий за чертой бедности, знают, как распорядиться миллионом. В далекие 1920 – 1930-е годы Остап этого не знал, если не собирался пойти путем Корейко. Люди жили трудно, бедно, в условиях всеобщей нищенской «уравниловки». На что тратить деньги да и откуда их взять неутомимо вкалывающим строителям социализма? Но, по совести говоря, честная бедность общительных, веселых и голодных студентов политехникума, оказавшихся в одном купе с Остапом, симпатичнее спекулянтских замашек тех цепких, что прекрасно знают, почем нынче золотой теленочек, готовых хапать и наживаться.
Во втором романе Ильфа и Петрова перед экипажем «Антилопы…», мчащейся из одного города в другой, мелькает целый калейдоскоп лиц. Тут и бюрократ Полыхаев, начальник дутого, как мыльный пузырь, «Геркулеса», в недрах которого туго пришлось даже великому комбинатору и где привольно живется архижулику Корейко. Тут и обитатели «Вороньей слободки» – групповой портрет поднаторевших в квартирных склоках обывателей.
И как это часто случалось с персонажами Ильфа и Петрова, «геркулесовцы» и обитатели квартиры номер три в Лимонном переулке напомнили о себе в новых произведениях соавторов, выступив под другими именами, в другом обличье, но сохранив свои манеры, повадки, хамство и невежество, дух склочничества, своекорыстие. Снова начав писать фельетоны, Ильф и Петров нашли место в хороводе разных мелких и крупных бесов и этим персонажам.
В начале 1930-х годов соавторы часто выступали с фельетонами в «Литературной газете», подписывая их новым псевдонимом «Холодный философ», и в «Правде» с фельетонами на бытовые темы, показывая, как говорил Ю. Олеша, высокий класс журнализма.
Все, что делалось Ильфом и Петровым в жанре фельетона, делалось ими в полную силу, безо всяких скидок на «газетность». Для них вообще не существовало деления на жанры высокие и низкие. Они создавали свою, новую, гофманиаду, не фантастическую, а совершенно конкретную, привязанную к определенным фамилиям, датам, адресам, простым житейским фактам, нередко почерпнутым из читательской почты. И очень огорчались, когда дружески расположенные к ним люди в недоумении разводили руками: писали бы романы; далась вам эта сиюминутность, эта злободневность!
<…>
Перечитывая сегодня фельетоны Ильфа и Петрова, заново убеждаешься в их злободневности и долговечности… По-прежнему омрачают жизнь угрюмые чиновники, дельцы, бюрократы, злобные дураки, ханжи с каменно-бездушными ухватками, безразличные к чужому горю и не интересующиеся ничем, кроме самих себя. Писать о таких людях «нестерпимо», «почти физически больно», говорили Ильф и Петров. Но борьбу с неуважением к людям, с оскорблением человеческого достоинства они считали своим гражданским, писательским долгом.
<…>
Уходило с годами бурное, безоглядное веселье «Двенадцати стульев». Свои фельетоны Ильф и Петров умели писать очень смешно. Смех не пропал. Но соавторы становились все строже, серьезнее, внутренне сосредоточенней. Друзья Ильфа и Петрова, близко знавшие обоих, запомнили их доброту, чуткость, отзывчивость, готовность помочь людям, ободрить, облегчить их жизнь. Но писатели не могли без гнева и негодования говорить о чиновнике, грубо, взашей, вытолкнувшем из своего кабинета старика-пенсионера; о дураке, запретившем прописать молодую женщину на жилой площади мужа, к которому она переехала после свадьбы из другого города; о хаме, отказавшемся уступить такси беременной женщине, которую срочно надо доставить в родильный дом. Как правило, такие подлецы получали в фельетонах не имена и фамилии, а нарицательные клички, которые к ним буквально прилипали: «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Саванарыло».
В 1936 году Ильф и Петров завершили последнюю свою большую совместную книгу «Одноэтажная Америка», книгу-очерк, книгу-репортаж, итог трехмесячного пребывания в Соединенных Штатах.
Отправляясь за океан, писатели не собирались отыскивать в американском образе жизни сплошь негативные черты и всё писать черными красками, как тогда было принято. Не надевали на глаза шоры. Все хорошее были готовы поддержать, искренне радовались доброжелательному отношению американцев к России и с готовностью отвечали дружбой на дружбу. Но подлаживаться в своих суждениях к американским представлениям, хвалить то, что было им не по душе, и тем самым завоевывать расположение хозяев Ильф и Петров также считали недостойным. Свою позицию они сформулировали в конце книги. Это как бы ключ к ее пониманию. «Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка – не премьера новой пьесы, а мы – не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней».
<…>
После смерти Ильфа остались записные книжки. Ильф любил ходить, глазеть, записывать. Он называл себя зевакой. Но это был не обычный зевака, а внимательный, зоркий наблюдатель жизни. В записные книжки он заносил смешные реплики, неожиданный каламбур, удивительную фамилию, остроту, анекдот… А иногда страницы записной книжки становятся своеобразным лирическим дневником. Так складывалась книга поэтичная, веселая и глубоко печальная.
Свободные по форме записи могут показаться случайными, разрозненными. Но это только кажется. Как в каждой хорошей книге, тут есть свой постоянный сюжет, своя внутренняя логика, свой пафос – пафос целой жизни художника. Ненависть к пошлости, мещанству, хамству, свинскому, бездушному отношению к людям.
Ильф знал, что умирает. В присутствии Петрова он грустно шутил насчет шампанского марки «Их штербе» («Я умираю»), а однажды сказал, что видел сон, будто его съели туберкулезные палочки. Однако эти страшные предчувствия скрывал и в последних заметках только вскользь, глухо проговаривался о случившейся беде: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло». Даже последние записи, сделанные рукой умирающего человека, говорят о силе духа, не сломленного болезнью, о зрелости таланта и поразительном жизнелюбии.
Он высмеивал художника, который так нарисовал лису, что сразу стало понятно: моделью ему послужила горжетка жены. Моделью для Ильфа всегда служила живая натура, а не муляжи. Среди его записей много маленьких лирических акварелей, дышащих прелестью и очарованием. Скромная природа Подмосковья. Песок и сосны. Повалившийся забор выгнулся, как оперенье громадной птицы. Красноносая ледяная московская весна. Пышный пейзаж побережья Крыма. Цветут фиолетовые иудины деревья. «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».
«Все войдет, – обещал он самому себе, – и площадка перед четвертым корпусом, и шум вечно сыплющегося песка, и новый парапет, слишком большой для такой площадки, и туман, один день надвигающийся с моря, а другой с гор».
Но это уже никуда не вошло. Коротенькие, «как чеки», записи так и остались в блокнотах. Ильф умер 13 апреля 1937 года, умер молодым, не успев реализовать все, что накопил в последние годы для новых книг, не раскрыв до конца свой первоклассный лирический дар.
И вот настал день, который Ильф и Петров себе представляли и не могли представить. Уже не двое уселись перед пишущей машинкой, а только один.
Что же писал Петров, снова взявшись за перо? Оставшись без друга и соавтора, он как бы заново испытывал себя в различных жанрах. Делал наброски книги «Мой друг Ильф», написал комедию-памфлет «Остров мира» (воскресил традицию созданных когда-то с Ильфом сценариев кинокомедий «Барак», «Цирк», «Однажды летом»). Написал (в соавторстве с Г. Мунблитом) сценарии кинокомедий «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится», кинокомедию «Воздушный извозчик», энергично работал как фельетонист, очеркист, редактировал журнал «Огонёк».
Война заставила сменить самый образ жизни. Начальный ее период Петров провел на фронте в качестве военного корреспондента «Правды», «Красной звезды» и американского газетного агентства.
Он был под Москвой в дни поражений и побед, а в 1942 году, когда немцы готовились к «мурманскому прыжку», поехал на Кольский полуостров. Потом с берегов Баренцева моря помчался на другой конец гигантского фронта – к Черному морю, в Севастополь. Корреспонденции с трех театров войны – подмосковного, мурманского, севастопольского – составили три раздела его «Фронтового дневника», занявшего почетное место в литературе первых лет войны.
Военный корреспондент Петров погиб 2 июля 1942 года, возвращаясь из осажденного Севастополя, в авиационной катастрофе. Его полевая сумка была набита записями для будущих статей и очерков. Брат Петрова Валентин Катаев с горечью говорил:
«В самолете были люди. Многие уцелели. А Женя прошел в каюту летчика. В детстве он всегда любил стоять возле вагоновожатого в трамвае или возле рулевого на катере. Это осталось у него на всю жизнь».
Ильф и Петров избрали для себя нелегкий литературный жанр, самый гонимый и преследуемый тоталитарными режимами. Баловать сатиру вниманием не очень-то было принято. Ругали чаще, чем хвалили. «Двенадцать стульев» преднамеренно замалчивали. Долгое и упорное сопротивление пришлось преодолеть и при издании «Золотого теленка». Помогло вмешательство Максима Горького.
Если Ильфу и Петрову не пришлось, как Михаилу Зощенко, испытать в 1946 году трагическую судьбу отлученных от литературы писателей, так лишь потому, что к тому времени их уже не было в живых. Однако когда развернулась позорная травля Зощенко, задним числом вспомнили и ставшие уже классическими романы покойных авторов. Настало их время расплачиваться за веселый смех и сатиру, за великого комбинатора, которому, по меркам середины 1930-х, место было не в романах, а на стройке Беломоро-Балтийского канала. О «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» было сказано коротко и грозно: «Путешествие плутов по стране дураков». Пусть с запозданием, но приговор все же вынесли. Из библиотек изымали книги Ильфа и Петрова, а вышедшее после войны новое издание романов сочли «грубой ошибкой». Известный критик и литературовед, редактор книги Евгения Ковальчик, подписавшая ее в печать, получила партийное взыскание.
Задолго до этих дней Ильф и Петров очень часто с тревогой задумывались о положении литературы и литераторов в обществе, об отношении партийных функционеров к писателям как к людям подозрительным и неудобным. Писатели не станут писать лучше, с горечью предостерегали Ильф и Петров, если устроить «избиение литгугенотов, против некоторых фамилий поставить кресты, а затем учинить варфоломеевскую ночь с факелами и оргвыводами». Предостерегали, не представляя тогда размаха грядущей варфоломеевской ночи, масштабов развязанной сталинским режимом расправы.
Илья Эренбург запомнил слова, которые любил повторять Ильф: «Репертуар исчерпан» – или: «Ягода сходит». «Как теперь нам писать? – говорил он Эренбургу. – „Великие комбинаторы" изъяты из обращения. Напишешь рассказ – сразу загалдят: „Обобщаете нетипичное явление, клевета"».
А ведь Ильфу и Петрову выпала не столь горькая судьба, как Зощенко, Кольцову, Эрдману, Булгакову. В ту пору, когда начиналась их деятельность, паролем и лозунгом времени были слова партийного гимна: «Отречемся от старого мира…» Судя по тону официальных упреков, Ильф и Петров отрекались недостаточно энергично. Дворян, аристократов и всех бывших критиковали без должной классовой нетерпимости. Подумать только, Остап даже привязался к бывшему предводителю дворянства!..
Сегодня Ильфа и Петрова за обличение старого мира и насмешки над бывшими критикуют уже слева. «Кому сейчас охота смеяться над людьми, которых революция лишила дома и родины? – спрашивала уважаемая мной дама-критик в уважаемом московском издании. – Очень ли смешно, что „умственная" интеллигенция, не принявшая режим, была обречена на вымирание или прозябание… Какие уж тут шутки?.. Насмешка, беспощадная до издевательства».
Если в компанию глупцов, окружающих Остапа, затесался глупый предводитель дворянства (не все предводители – Турбины и «умственные» интеллигенты), что прикажете делать с ним сатирикам? К тому же не будем забывать: Воробьянинов не только смешон, он жаден, подл, умеет зло огрызаться и, как мы узнаём в конце романа, совершает убийство.
Время вносит неизбежные коррективы. Меняемся с годами мы, меняются наши понятия и представления. Не будем, однако, спешить с выговорами авторам умных, талантливых и таких живых романов.
В окаянные годы веселая муза Ильфа и Петрова ободряла, утешала, поддерживала, смешила, многое помогала увидеть иначе и в смехе обрести душевную опору. И не дай бог нынешним «прогрессистам», успевшим твердо усвоить, что такое хорошо и что такое плохо, безапелляционно рассуждать о заблуждениях Ильфа и Петрова. Время моды на «оргвыводы» миновало. Будем надеяться, проходит мода и на шумные, сенсационные разоблачения с обязательным наклеиванием ярлыков вроде: литераторы, «обслуживавшие режим» (это об Ильфе и Петрове-то!). Урон, нанесенный вразумлениями с «оргвыводами», в свое время был неисчислим. Нужно ли начинать сызнова?
Ильф и Петров ушли из жизни, когда им, как одному, так и другому, еще не исполнилось сорока. Но книги сорокалетних, пережив свое вот уже шестидесятилетие, по-прежнему остаются в числе классических, самых любимых и столь нужных читателям в наши нелегкие дни.
Борис Галанов
Посвящается Валентину Петровичу Катаеву
Часть первая. Старгородский лев