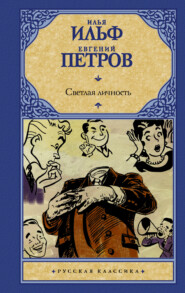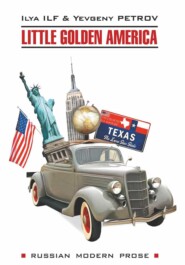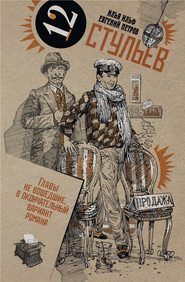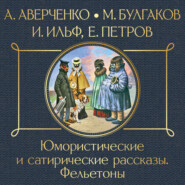По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Двенадцать стульев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец урока прошел в полном смятении. «Грека» никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.
– Сизик врет, – говорил Савицкий грустно, – пугает. Нельзя всех оставить на второй год.
Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.
– А мы-то за что? – кричали зубрилы, преданно глядя на «грека».
– Ну, дети, дети, дети! – взывал «грек».
Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.
Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим Тебя, Создателю», – икая от горя.
После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.
На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.
Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.
В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чёртова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логику», «Христианское нравоучение» и легкую венерическую болезнь.
Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.
Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.
Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которую наперерыв проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским Аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.
На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора – Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:
Сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.
Секретарь суда грешил стишками.
«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.
– Разришиты стаканчик шенпански! – сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.
Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.
Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:
– Бедные дети не забудут вашей щедрости.
Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.
С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.
На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати» – и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу жену.
Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным: он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.
Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.
Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками, – ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой – розового и наглого Воробьянинова.
Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.
Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.
– Кто горит, Михаила? – спросил Ипполит Матвеевич кучера.
– Балагуровы горят. Вторые сутки.
Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:
– Ваня! Дай-ка французскую лестницу.
Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.
– Так он и пять суток гореть будет, – гневно сказал Ипполит Матвеевич. – Тоже… Париж!
С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.
Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Абрамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» – «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко», – баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души, баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.
Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи, закрепили за ним репутацию демонического человека.
Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир*, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.
Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.
Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родоначальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.
– Ну, как твой скелетик? – нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.
Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.
– Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна… А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!
С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.
От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкуси».
После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.