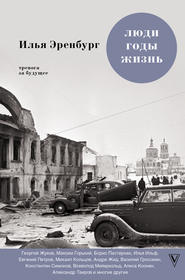По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Люди, годы, жизнь. Под колесами времени. Книги первая, вторая, третья
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я пошел к русским друзьям. Все кричали, никто никого не слушал. Один повторял: «Франция – это свобода, я пойду воевать за свободу…» Другой уныло бубнил: «Дело не в царе, дело в России… Если пустят – поеду, нет – запишусь здесь в добровольцы…»
Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все – старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу». Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам; провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!»
Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца. Эрве, который славился тем, что его газета «Ля герр сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии «клочком бумаги». Бельгийский король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатоль Франс попросил, чтобы его отправили на фронт, – ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию: «Мы повторим жест Гарибальди… Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие…»
Я разворачивал «Патри» и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечества сыны!..».
Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев (все они были русскими эмигрантами): П. Л. Лапинского, Ю. О. Мартова, меня – и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать как бывшую немецкую подданную (особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет пятнадцати, не знавший французского языка, который застрял в Париже); хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны.
Я встретил художника Леже, он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой.
Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями: завтра во Дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра.
Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону: «Я тоже пойду…» Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню; помню только, что, уходя, он сказал: «Ну, ты, брат, просто с ума спятил…»
Мыслить я не мог и, следовательно, если Декарт прав, уже не существовал.
25
Большая площадь перед Дворцом инвалидов была заполнена людьми; колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны с флагами, с плакатами; было много русских – одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь; если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть; но все были веселы, пели, задорно кричали: «В Берлин!» Дни стояли знойные; люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь.
Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул: «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал: «Ты что…… по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю; может быть, я показался ему чересчур дохлым – нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что, если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным: стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать.
В толпе я увидел многих знакомых – и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев «Ротонды». Я тогда не был знаком с В. Г. Финном, а он, наверно, стоял в той же колонне, что и я.
Вечером в «Ротонду» пришел Кислинг в военной форме. Либион его обнял, выставил всем шампанское; мы выпили за победу.
Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа – там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал: хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу», какие-то сентиментальные куплеты.
Тогда вообще много пели – и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы: в первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию – из-за фамилии; каждый раз приходилось доказывать, что хотя я действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй – о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи: «Молчите! Остерегайтесь! Вас слушают вражеские уши».
Разгромили молочные «Магги». Арестовали графа Карольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург.
Вдруг по городу поползли зловещие слухи: битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж.
Под вечер прилетел немецкий самолет – скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его называли «Taube» – «голубь»; меня больше всего удивляло это название – ведь голубку мира придумал не Пикассо, это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали: «“Тоб” летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо – все это было внове…
В богатых кварталах шли путевые сборы; из домов выносили большие сундуки; горничные и лакеи впопыхах говорили: «В Ниццу…», «В Тулузу…», «В По…» Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо.
«Здорово они нас предали!» – это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие – Кайо, третьи – генералов. Сводки напоминали «герметическую поэзию» – их могли расшифровать только посвященные; но, помимо сводок, имелись другие источники информации – привозили раненых, появились первые дезертиры; они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии, все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей – пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым…
Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле «Клозери де лиля». Все на улицах: идут солдаты – с юга на север, от Порт д'Орлеан к Восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат: «Спасите!..» На штыках георгины, астры. Песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют, у французов еще много резервов!.. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять – ни сводок, ни песен, ни слез…
Исчезли такси – генерал Галлиени их реквизировал, чтобы подбросить подкрепление на Марну; это тоже было новшеством – о моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображения: все рисовалось грандиозным, апокалипсическим.
Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел; он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался – мальчишка (ему еще не было пятнадцати лет). На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествующе сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже…» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету; сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до «Ротонды». Либион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо…»
Я помнил Мо, я там как-то был с Катей, это в тридцати километрах от Парижа… Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать.
Дальнейшее известно: началось контрнаступление; при битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги; немцы отошли и окопались. (Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик «34» – тридцать четыре километра от Парижа).
В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жоффр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено.
Немцы отступили не так уж далеко; газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в девяноста километрах от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой, но она мало-помалу теряла силу – жизнь вступала в свои права.
Я по-прежнему прочитывал десятки газет: может быть, кто-нибудь на свете мыслит, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие – Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн – повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна – статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой (французы почему-то называют цензуру женским именем – Анастасия). Эти белые пятна меня несколько обнадеживали – кто-то знает правду, но не может ее высказать.
С тех пор прошло много лет, много событий – фашизм, вторая мировая война, Освенцим, Хиросима; смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего пороху, больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году:
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Я сидел часами над ворохом газет; все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости.
Конечно, первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов – «белые книги», «желтые», «синие», – пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймсский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они неповинны в вандализме, Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными; никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было четырнадцать лет, он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным; и действительно, это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба?..
(Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог, профессор Мадсен – ему было восемьдесят лет, – рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени первой мировой войны. Мадсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны – посылка, по его мнению, была индивидуальным актом).
Я помню, как смеялись над газетой «Матэн», которая сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина; но все спокойно читали в той же газете, что «гений Гете сродни удушливым газам». Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские – это «печенеги», вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу.
Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин «жидо-боши»; главным «жидо-бошем», по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Роллана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии, к Франции, «полуевреи».
Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и поэтов; то, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм – на кровожадность, декартовские сомнения – на добровольный отказ от какого-либо мышления.
Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. (Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое, неизвестное во Франции). В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут…» Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету; тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусливость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пеги:
Трудно рассказать, что делалось в те дни. Все, кажется, теряли голову. Магазины позакрывались. Люди шли по мостовой и кричали: «В Берлин! В Берлин!» Это были не юноши, не группы националистов, нет, шли все – старухи, студенты, рабочие, буржуа, шли с флагами, с цветами и, надрываясь, пели «Марсельезу». Весь Париж, оставив дома, кружился по улицам; провожали, прощались, свистели, кричали. Казалось, что человеческая река вышла из берегов, затопила мир. Когда я ночью валился измученный на кровать, в окно доносились те же крики: «В Берлин! В Берлин!»
Я не мог оторваться от вороха газет; перечитывал все, хотя повсюду было одно и то же: политические оттенки исчезли. Жореса убили, но его товарищи писали, что нужно воевать против германского милитаризма. Жюль Гед требовал войны до победного конца. Эрве, который славился тем, что его газета «Ля герр сосиаль» призывала солдат не повиноваться генералам, писал: «Это справедливая война, и мы будем сражаться до последнего патрона». Немецкие социал-демократы проголосовали за военные кредиты. Бетман-Гольвег назвал соглашение о соблюдении нейтралитета Бельгии «клочком бумаги». Бельгийский король призвал защищать родину; у него было симпатичное лицо, и все газеты печатали его портреты. Льеж героически сопротивлялся. Анатоль Франс попросил, чтобы его отправили на фронт, – ему было семьдесят лет; его оставили, конечно, в тылу, но выдали солдатскую шинель. Томас Манн, прославляя подвиги германской армии, вспоминал о Фридрихе Великом: «Это война всей Германии». Газеты сообщали из Петербурга об общем подъеме. Группа эсдеков и эсеров призывала эмигрантов записаться добровольцами во французскую армию: «Мы повторим жест Гарибальди… Если падет Вильгельм, рухнет в России ненавистное нам самодержавие…»
Я разворачивал «Патри» и жадно искал ответа. А кругом кричали, плакали, пели «Вперед, отечества сыны!..».
Я жил в маленькой дешевой гостинице «Ницца» на бульваре Монпарнас. Незадолго до войны хозяин гостиницы женился на милой эльзаске, почти девочке. Его призвали на четвертый или пятый день. Он собрал старых постояльцев (все они были русскими эмигрантами): П. Л. Лапинского, Ю. О. Мартова, меня – и попросил нас помочь его молодой жене, если ее будут обижать как бывшую немецкую подданную (особенно его волновало, что к жене приехал погостить брат, мальчишка лет пятнадцати, не знавший французского языка, который застрял в Париже); хозяин распорядился, чтобы с нас не брали денег за комнаты до конца войны.
Я встретил художника Леже, он сказал, что его призвали, направляют в саперный полк, завтра он уезжает. Я машинально спросил, как прошла выставка. Он усмехнулся и махнул рукой.
Ко мне пришел мой друг Тихон Иванович Сорокин с последними новостями: завтра во Дворце инвалидов начинается запись иностранных добровольцев. Он пойдет с утра.
Тяжелее всего было сидеть и смотреть, как уезжают другие. Я сказал Тихону: «Я тоже пойду…» Он долго мне говорил о значении этой войны для России. Разговора я не помню; помню только, что, уходя, он сказал: «Ну, ты, брат, просто с ума спятил…»
Мыслить я не мог и, следовательно, если Декарт прав, уже не существовал.
25
Большая площадь перед Дворцом инвалидов была заполнена людьми; колоннами выстроились итальянцы, поляки, греки, испанцы, румыны с флагами, с плакатами; было много русских – одни с трехцветными флагами, другие с красными. Образовалась первая военная очередь; если задуматься над судьбой добровольцев, можно сказать, что это была очередь на смерть; но все были веселы, пели, задорно кричали: «В Берлин!» Дни стояли знойные; люди пили лимонад и, вытирая потные лица, снова начинали петь.
Я был в хвосте и дошел до стола, где сидел усатый майор, только под вечер. Военный врач мрачно на меня посмотрел, приставил к сердцу трубку и крикнул: «Следующий!» Я думал, что мне сейчас выдадут красные штаны, но сержант меня обругал: «Ты что…… по-французски не понимаешь?» Оказалось, меня забраковали. Какие изъяны во мне обнаружил военный врач, не знаю; может быть, я показался ему чересчур дохлым – нельзя безнаказанно в течение трех или четырех лет предпочитать стихи говядине. Я убежден, что, если бы меня осмотрели на несколько месяцев позднее, я был бы признан вполне годным: стоит любому товару, в том числе пушечному мясу, стать дефицитным, как люди перестают привередничать.
В толпе я увидел многих знакомых – и русских эмигрантов, с которыми встречался в библиотеке Гобелен, и завсегдатаев «Ротонды». Я тогда не был знаком с В. Г. Финном, а он, наверно, стоял в той же колонне, что и я.
Вечером в «Ротонду» пришел Кислинг в военной форме. Либион его обнял, выставил всем шампанское; мы выпили за победу.
Тихон сказал мне, что его направляют в Блуа – там будут обучать добровольцев. Я ему позавидовал: хуже всего в такие дни быть зрителем. Мы провожали добровольцев, пели «Марсельезу», «Смело, товарищи, в ногу», какие-то сентиментальные куплеты.
Тогда вообще много пели – и на вокзалах, и на улицах, и в кафе. Очевидно, у войны свои законы: в первые недели все поют, пьют, плачут, ругаются и еще ловят шпионов. Меня несколько раз водили в полицию – из-за фамилии; каждый раз приходилось доказывать, что хотя я действительно Эренбург, но все же не немец. Рассказывали множество невероятных историй – о том, как немецкий разведчик был задержан в дамском платье, когда вывозил какие-то секретные планы, как в Елисейском дворце обнаружили кладовку, где прятался шпион с фотоаппаратом. Повсюду были надписи: «Молчите! Остерегайтесь! Вас слушают вражеские уши».
Разгромили молочные «Магги». Арестовали графа Карольи, хотя он выступал против Габсбургов. Людей лихорадило. Все жаждали победы и уверяли друг друга, что через несколько дней будет взят Страсбург.
Вдруг по городу поползли зловещие слухи: битва проиграна, армия в беспорядке отступает, немцы идут на Париж.
Под вечер прилетел немецкий самолет – скорее для устрашения, чем для уничтожения. Немцы его называли «Taube» – «голубь»; меня больше всего удивляло это название – ведь голубку мира придумал не Пикассо, это очень старая история о большом потопе, о маленьком ковчеге и о ветке маслины, которую голубь принес в клюве отчаявшимся людям. Парижане весело кричали: «“Тоб” летит!», выбегали на улицу, жадно вглядывались в небо – все это было внове…
В богатых кварталах шли путевые сборы; из домов выносили большие сундуки; горничные и лакеи впопыхах говорили: «В Ниццу…», «В Тулузу…», «В По…» Потом позакрывались ставни, стало тихо. Правительство уехало в Бордо.
«Здорово они нас предали!» – это можно было услышать повсюду. Одни обвиняли Пуанкаре, другие – Кайо, третьи – генералов. Сводки напоминали «герметическую поэзию» – их могли расшифровать только посвященные; но, помимо сводок, имелись другие источники информации – привозили раненых, появились первые дезертиры; они рассказывали, что у немцев куда больше артиллерии, все потеряли голову, полки перемешались. Люди, обожающие стратегию, говорили, что генеральный штаб наделал глупостей – пошли зачем-то в Эльзас, а левый фланг остался неприкрытым…
Ночь позднего лета, горячая, темная. Я стою возле «Клозери де лиля». Все на улицах: идут солдаты – с юга на север, от Порт д'Орлеан к Восточному вокзалу. Женщины их обнимают, плачут, кричат: «Спасите!..» На штыках георгины, астры. Песни, слезы, маленькие бумажные фонарики. Я стою всю ночь, и всю ночь мимо проходят солдаты. Нет, люди зря паникуют, у французов еще много резервов!.. Но почему они отступают? Ничего нельзя понять – ни сводок, ни песен, ни слез…
Исчезли такси – генерал Галлиени их реквизировал, чтобы подбросить подкрепление на Марну; это тоже было новшеством – о моторизованной пехоте еще никто не мечтал. Техники было меньше, но не воображения: все рисовалось грандиозным, апокалипсическим.
Утром пришел убирать комнату брат хозяйки Эмиль. Хотя он был эльзасцем, но не скрывал своей любви к кайзеру. Русских он ненавидел; он говорил мне, что я ничего не умею делать, таковы все русские, нужно навести в России порядок. Я над ним посмеивался – мальчишка (ему еще не было пятнадцати лет). На этот раз он чуть ли не замахнулся на меня половой щеткой и торжествующе сказал: «Немцы в Мо! Завтра они будут в Париже…» Я ему не поверил, но все же выбежал и купил газету; сводка, как всегда, была туманная. Я дошел до «Ротонды». Либион сидел мрачный, даже не поздоровался со мной. Прибежал знакомый поляк и, задыхаясь, шепнул: «Они в Мо…»
Я помнил Мо, я там как-то был с Катей, это в тридцати километрах от Парижа… Черт возьми, почему военный врач придрался к моему сердцу? Я могу хорошо ходить, даже бегать.
Дальнейшее известно: началось контрнаступление; при битве на Марне погиб поэт Шарль Пеги; немцы отошли и окопались. (Потом я увидел деревянный крест с надписью «Лейтенант Шарль Пеги», а рядом столбик «34» – тридцать четыре километра от Парижа).
В соборе Парижской Богоматери состоялось торжественное богослужение. Молившиеся кричали: «Да здравствует Господь Бог! Да здравствует Жоффр!» Кого это могло тогда рассмешить? Разве что химер, но, будучи каменными, они сидели и молча думали, как им положено.
Немцы отступили не так уж далеко; газеты, желая рассеять опасный оптимизм, писали: «Нужно помнить, что немцы в Нуайоне». Нуайон был в девяноста километрах от Парижа. «Немцы в Нуайоне» стало присказкой, но она мало-помалу теряла силу – жизнь вступала в свои права.
Я по-прежнему прочитывал десятки газет: может быть, кто-нибудь на свете мыслит, следовательно, существует? Я искал, что говорят писатели. Меня не удивили воинственные речи Киплинга, Гауптмана, Лоти. Я смеялся над оперными выступлениями Д'Аннунцио, который требовал крови. Но и другие – Верхарн, Анатоль Франс, Мирбо, Уэллс, Томас Манн – повторяли то же, что говорили Пуанкаре или фон Бюлов. В некоторых газетах были белые пятна – статьи или сообщения, зачеркнутые цензурой (французы почему-то называют цензуру женским именем – Анастасия). Эти белые пятна меня несколько обнадеживали – кто-то знает правду, но не может ее высказать.
С тех пор прошло много лет, много событий – фашизм, вторая мировая война, Освенцим, Хиросима; смятение, овладевшее мною осенью 1914 года, может показаться наивным. Однако первый убитый потрясает человека, дотоле не нюхавшего пороху, больше, чем впоследствии зрелище страшного поля боя. Блок писал еще в 1911 году:
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Я сидел часами над ворохом газет; все было покрыто туманом лжи, свирепости, глупости.
Конечно, первая мировая война была черновиком. Различные правительства выпускали сборники документов – «белые книги», «желтые», «синие», – пытались доказать, что не они начали войну. Немцы, разрушая Реймсский собор, ратушу Арраса или средневековый рынок Ипра, уверяли, что они неповинны в вандализме, Четверть века спустя бомбардировочная авиация перестала заглядывать в историю искусств. Немцы, французы, русские возмущались дурным обращением с военнопленными; никому не могло прийти в голову, что в годы следующей войны фашисты будут преспокойно убивать всех неработоспособных. Немцы в американских газетах негодовали: войска великого князя Николая Николаевича насильственно эвакуируют польских евреев. Гиммлеру тогда было четырнадцать лет, он гонял собак и не думал об организации Освенцима или Майданека. 22 апреля 1915 года немцы впервые применили удушливые газы. Это показалось всем неслыханным; и действительно, это было зверством. Разве мы могли вообразить, что такое атомная бомба?..
(Впрочем, немецкие шовинисты уже тогда показали, что будущее будет ужасающим. В 1950 году известный датский микробиолог, профессор Мадсен – ему было восемьдесят лет, – рассказал мне о примечательном случае, относящемся ко времени первой мировой войны. Мадсен работал в датском Красном Кресте и осматривал продовольственные посылки, которые направлялись из Германии немецким военнопленным в Россию. В одной из посылок он обнаружил бациллы, предназначавшиеся для заражения рогатого скота. Мадсен добавил, что он убежден в непричастности высшего германского командования к этой попытке бактериологической войны – посылка, по его мнению, была индивидуальным актом).
Я помню, как смеялись над газетой «Матэн», которая сообщила, что русские находятся в пяти переходах от Берлина; но все спокойно читали в той же газете, что «гений Гете сродни удушливым газам». Товарищ привез с фронта немецкую газету, я прочитал в ней, что русские – это «печенеги», вся культура России создана немцами, а коренное ее население способно выполнять только грубую физическую работу.
Кто-то дал мне книжку французской баронессы Мишо. Она изобрела новый термин «жидо-боши»; главным «жидо-бошем», по ее словам, был закоренелый враг Франции поэт Гейне. Баронесса также обличала Ромена Роллана и Георга Брандеса. Вскоре после этого фронтовик показал мне номер мюнхенской газеты, где какой-то журналист доказывал, что Яльмар Брантинг и Бласко Ибаньес, проявляющие симпатии, к Франции, «полуевреи».
Я вдруг понял, что хотя Декарт высказывал очень умные мысли, не они определяют духовную жизнь миллионов людей. Выросший на идеях XIX века, я преувеличивал роль философов и поэтов; то, что мне казалось вошедшим в плоть и кровь общества, было только костюмом. Пиджаки сменили на френчи, гуманизм – на кровожадность, декартовские сомнения – на добровольный отказ от какого-либо мышления.
Как-то пришел ко мне мой сосед, польский социалист Павел Людвигович Лапинский, попросил перевести заметку, напечатанную в итальянской газете. (Италия еще была нейтральной, и в итальянских газетах можно было найти многое, неизвестное во Франции). В заметке говорилось, что французский генеральный штаб по требованию владельцев лотарингских шахт запретил артиллерии обстреливать шахты, захваченные немцами. Павел Людвигович сказал: «Людей они не жалеют, а свое добро берегут…» Он объяснил мне, что использует сообщение для русской социалистической газеты «Наше слово», которая выступает против войны. Потом он регулярно приносил мне эту газету; тон статей напомнил мне эмигрантские собрания. Павел Людвигович говорил, что все происходящее основано на обмане, а долго обманывать народы капиталистам не удастся. Иногда я с ним соглашался, иногда начинал спорить. Война мне казалась отвратительной; я ненавидел и владельцев шахт, и Пуанкаре, и богомольных дам, раздававших солдатам ладанки, все лицемерие и трусливость тыла; но одновременно я повторял про себя стихи Шарля Пеги:
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: