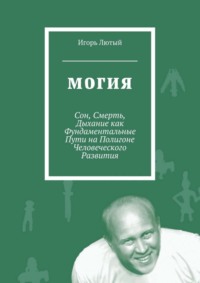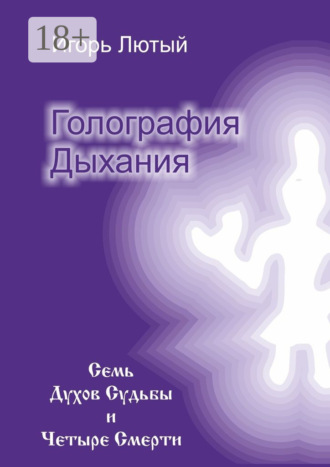
Голография Дыхания. Семь Духов Судьбы и Четыре Смерти
В даосизме почкам и мочевому пузырю соответствует стихия вода, цвет чёрный, образ чёрной черепахи, вкус солёный. Я бы сказал, что с точки зрения метафизической анатомии, сосуды – почки и мочевой пузырь – это тяжёлая холодная солёная (морская) вода, и целительный образ здесь, который может быть полезен как для лечения, так и для профилактики здоровья почек и мочевого пузыря – чёрная черепаха в тёмной солёной воде. В этом, похоже, и есть «соль земли» – истина тяжёлая, и только трепет способен её познать.
Печень испекает
Когда ты пребываешь долгое время в страхе, и этот страх, наконец, начинает исчерпывать себя, то есть, начинает естественно уходить, проводиться телом через характерные телесные реакции, то неизбежно наступит такая ситуация, когда ты почувствуешь нечто противоположное страху, и на уровне самой эмоции, и на уровне телесных реакций, и на уровне общей активности. Точка стремится стать вектором… Это говорит о том, что произошёл, или происходит в данный момент переход на следующую фундаментальную эмоцию. Как и в случае со страхом, в жизненных ситуациях, эта эмоция может быть как положительно окрашена, так и отрицательно, как разрушительная, так и созидательная.
Когда мы приходим в незнакомую среду обитания или осваиваем новый вид деятельности, эта эмоция также всегда будет, точнее, должна быть второй после страха, трепета, благоговения, осторожности. Этой эмоции также можно найти множество синонимов, в зависимости от оценочной окраски. Но сначала давайте поймём её суть, прежде чем перечислять эти синонимы.
Также, как и страх, эта эмоция имеет свои животные аналоги, более грубые, зато и более нескрываемые, видимые, явные. Посмотрим на несколько примеров из жизни, причём начинать будем от наиболее ярких примеров животного мира до более тонких, завуалированных в мире человека.
Пример 1. Животное попадает в новую среду обитания и неизбежно испытывает сковывающую реакцию страха. Это человек может «философствовать» по поводу этой реакции, находясь в интеллектуальных поисках выхода из сложившейся ситуации. Животное же даже не знает такого понятия, как «страх», животное просто переживает страх.
В контексте страха стоит осветить такое понятие, как стресс. Стресс – это неспецифическая реакция организма на внешние средовые раздражители. Это определение как нельзя лучше подходит к пониманию страха на животном уровне, а также и пониманию эмоции, следующей за страхом. В представлении основоположника теории стресса австрийского психоаналитика Ганса Селье и его последователей, существуют три животных реакции на стресс – реакция кролика, реакция льва и реакция буйвола. Но сначала оговорюсь: в теории стресса не говорится именно о «животных» реакциях на стресс, что не меняет сути изложения, а, скорее, дополняет.
Провести параллель между понятиями «страх» и «стресс» (не берусь обсуждать видимую схожесть слов, дабы не вводить в искушение лингвистов) меня побудил термин «неспецифическая» реакция. То есть, нужно понимать, что эта реакция необычная, непривычная, другими словами, наблюдается впервые при данном событии. И это событие, скорее всего, переживается впервые!
Кролик на такое событие реагирует тем, что замирает. Страх сковывает кролика, замораживает его движения и волю. Кролик реагирует на стресс, как говорят, пассивно. Это его первая и основная реакция на стресс, которая наглядно иллюстрирует наиболее чистое состояние страха, то есть страх как фундаментальную эмоцию – страх замораживает, коленки трясутся, ноги отказываются ходить, животное замирает (почти умирает), дыхание «запирается» (тему специфического дыхания страха мы рассмотрим позже).
Лев сразу бросается в сражение. Его страх сразу трансформируется в ярость. Чистого страха почти нет, то есть фаза его проявления очень незаметна, почти мгновенна. Другая схожая реакция – ужас, паника. В ужасе тоже бросаются, только не в сражение, а в другую сторону, что с точки зрения эмоций одно и то же. Отличие в том, что в ужасе страх и ярость присутствуют одновременно, параллельно. А при сражении страх уступает место ярости, то есть эмоции идут последовательно, а не параллельно. Но что важно, в обоих случаях, помимо страха явно присутствует и доминирует ярость, агрессия.
Буйвол прёт, как и пёр. То есть его реакция – реакция спокойного преодоления страха, даже на пределе своих возможностей. Можно сказать, что он как бы не замечает предмета страха, новизны ситуации, или не хочет замечать. Но можно и говорить, что буйвол идёт навстречу страху и таким образом быстрее преодолевает свой страх.
Ведь лев, бросаясь в сражение, страха в конечном итоге не преодолевает, а загоняет его в глубины своих переживаний. Поэтому я и считаю, что бросаться на врага, или бежать в ужасе суть одна и та же эмоциональная реакция. Сегодня ты бросился и одержал временную победу над своим страхом, а завтра страх тебя раздавит, и ты будешь в ужасе отступать. Вот уж где понимаешь поговорку: «нам… всё равно – что отступать – бежать, что наступать – бежать»!
Но что делает Буйвол в конечном итоге? Ведь не может он вечно противостоять страху свойственным ему способом… В конечном итоге буйвол преодолевает страх и атакует своего противника, или полностью включается в новизну ситуации. Буйвол подминает под себя изменчивый мир, в то время как лев остаётся с миров в состоянии войны, понимая его, но не принимая. А кролик вообще его не может ни понять, ни принять длительное время, пока его или не съедят, или же он бросится в панике бежать (порою, в сторону хищника).
Но, в любом случае, относительно пассивный страх переходит в активную реакцию паники, ярости, агрессии, злости на одном полюсе интенсивности этой эмоции; или познания, ориентации, изучения окружения, «сканирования пространства» на другом полюсе интенсивности.
Если страх холодный, тёмный, тяжелый и вязкий, как солёная вода, то следующая за страхом эмоция горячая, более светлая и яркая, также тяжёлая и активная. Тяжесть этой эмоции обуславливается тем, что она порождена страхом, хотя почти все остальные её параметры противоположные.
Агрессия, активность, ярость буквально испекается в печке, то есть испекается в печени. Эта эмоция рождается в печени и требует выхода вовне. Она подобна вектору – всегда на что-то или кого-то направлена, в то время как страх подобен в этом случае точке – он сам в себе.
Возьмём другой пример перехода страха в активность.
Пример 2. Животная борьба за выживание, а если конкретнее, то за среду обитания также проявляется у человека в переживании простых, точнее, обычных снов. Не стоит полагать, что эти сны также присущи животным. Просто, в этих снах люди испытывают самые примитивные, так сказать, «низменные» переживания, начиная от животного страха, когда не можешь сдвинуться с места, и ног как будто нет (тем более, что во сне действительно нет биологических ног). Конечно, и в жизни такое случается, когда от страха не можешь сдвинуться с места, но во сне это происходит более «классически», то есть без примеси присущей человеку рассудительности и ментальности. Во сне эмоции «чистые», более приближённые к фундаментальным, поскольку мозг не мешает им проявляться, выделяясь из соответствующих сосудов.
Новое пространство сна подобно тому, как если бы житель крайнего Севера, не знающий телевизора и фотографий, попал в джунгли, или наоборот, африканец вдруг мгновенно оказался бы в тундре. Пространство сна рождается мгновенно и мгновенно исчезает. И чем более оно энергетизировано, тем сильнее это пространство запутано, необычно, детализировано и пугающе.
Итак, при появлении нового пространства сна, особенно если это пространство энергетически весьма содержательное, человек реагирует на незнакомые энергии страхом. Особенно это наглядно у детей, как минимум, по двум причинам: во-первых, ребёнок несёт в себе энергетический нереализованный заряд зачаточных энергий; во-вторых, дети во многом более несознательны в жизни, чем взрослые, тем более во сне. У взрослых сны со страхами бывают реже или вообще почти не бывают, опять же по двум причинам: или взрослый уже энергетически истощён жизнью (или изначально физически слаб и немощен), и страшные сны ему снятся редко; или же он научился сознательно управлять своими страхами во сне так, что они не доминируют и трансформируются в другую эмоцию. Рассмотрим оба случая.
Появление чего-то или кого-то во сне заставляет настораживаться. Если этот объект не идентифицировался, если ум сновидящего его не смог сопоставить с известной оценочной системой координат, то есть попросту ни с чем известным (другими словами, ум не нашёл объяснения), то это неизбежно влечет за собой появлению страха, трепета. Если присутствие нового объекта продолжает восприниматься, и ум так и не находит языка описания, то страх продолжает нагнетаться. Он «замораживает» сновидящего, и тот чувствует, что не может избежать этого страха. В итоге, страх может превратиться в ужас, и тут появляются свобода передвижения, и, как следствие, бегство в ужасе. Чаще всего бегство в пробуждение в холодном вязком поту (почкам соответствует стихия – холодная тяжёлая солёная вода). Причём, какое-то время сновидец может пытаться спастись бегством в собственном сновидении, которого он, очевидно, не осознаёт. Время этого бегства в самом сновидении полностью определяется наличием личной энергии сновидца. Чем больше этой энергии, личной силы, просто физического здоровья и потенциала (в том числе и сексуальной потенции), тем дольше сновидец может убегать от предмета своего ужаса по мирам сна, перескакивая из одного мира в другой, не в состоянии «сбросить с хвоста» своего страшного преследователя, который, стоит отметить, тоже изменяет свою внешность и характер преследования от мира к миру.
Итог такого преследования прост: или у сновидца заканчивается энергетический потенциал сна, и он просыпается в ужасе (или на грани этого), или же происходит нечто важное для всей последующей его сновидческой «карьеры». Сновидец вдруг понимает, что спит. На самом деле, он просто вспоминает, что много раз так уже бегал во сне, что в итоге он просыпался в очень тяжёлом самочувствии, что и сейчас происходит нечто подобное, а значит, он думает: «Я во сне!… А раз Я во сне, то ничего со мной не может произойти на физическом уровне опасного… А значит, Я могу и не бояться своего монстра… И что же тогда Я могу сделать?.. Я могу бежать не от него, а за ним.. Я могу не бояться его, а пусть он боится меня…»
Подобные «откровения», или монологи, могут, очевидно, различаться у разных людей, но у всех будет одна общая особенность – сновидец не сможет для себя выбрать никакой другой эмоции, кроме как агрессии, вместо страха и как альтернативу этому страху. При этом он сможет во сне остановиться только один раз – только для того, чтобы сменить направление бегства в противоположную сторону, и даже в этом случае какое-то время будет «по инерции» испытывать накатывающиеся волны страха. И если он не поддастся этим волнам, то ярость и злость окончательно придут на смену начальному ужасу и страху. В итоге, сновидец перестаёт быть рабом своего страха, и сна в целом – он становится хозяином положения, по крайней мере, в данном конкретном сне.
Как и в случае функциональной привязанности мочевого пузыря к почкам, у печени также есть «свой пузырь», непосредственно функционально привязанный к печени, то есть проводящий фундаментальную эмоцию печени. Это – желчный пузырь. Если человек сдерживает свою ярость, свою познавательную активность, прячась, например, за стыдом, или за определёнными моральными установками, то активная горячая и тяжёлая эмоция застревает в желчном пузыре в виде камней. Или же начинает активно его сжигать, при этом агрессия будет регулярно прорываться, вызывая у окружающих ощущение, что перед ними, как в народе и говорят, «желчный человек». Потому что желчный пузырь – проводящий сосуд для активного познания, влияния человека во вне, ярости, агрессии, злости.
В даосизме печени и желчному пузырю соответствует стихия дерево, животное дракон, вкус кислый, цвет зелёный. В практике я пользуюсь целительным и развивающим образом агрессивной зелени, то есть зелёной кислой листвы, вырывающейся из почки наподобие дракону, вылупляющемуся из яйца.
Селезёнка плачет
Начну сразу с иллюстрации из моей профессиональной деятельности.
Мы находились на выездном психологическом тренинге в горах, и вечером, после горной бани у нас было обсуждение пройденного этапа тренинга у костра, так называемое «ужин-чаепитие-разбор полётов». В какой-то момент кто-то кому-то сделал замечание, что является очевидным на данном мероприятии, ведь, по сути, мы для того и ходим в горы, чтобы работать со своими недостатками. Затем, спустя одну-две минуты, последовала реплика: «Ты что, обиделся?» Я посмотрел на «обиженного», то есть того, кому было сделано замечание, и увидел, что этот человек не обиделся (точнее, я знал это, зная этого человека) … Я подумал, в чём разница его реакции на замечание от обиды, ведь подобная реакция другого человека могла означать и самую настоящую обиду – внешне трудно различить эти две эмоциональные реакции, только лишь зная самого человека.
И тут меня осенило! Я вдруг понял, в чём суть обратной стороны обиды, точнее, той же эмоции, что и обида, только не в негативном контексте, когда человек сам себя съедает изнутри, а в положительном контексте «продуктивной обиды».
Вообще, для этой эмоции трудно подобрать положительное определение – можно только объяснить её суть языком иллюстраций, одну из которых я только что привёл, и примеров. Теперь, в чём её суть.
Уже из иллюстрации ясно, что и обида, и её положительный эквивалент идут вслед за яростью, агрессией, неким давлением извне. Ведь когда Вам некто делает замечание, то он и выражает свою ярость, или агрессию по отношению к Вам. А вот как Вы на это отреагируете – уже другой вопрос. Но вернемся к сути этой эмоции. Приведу теперь пример её проявления в более широком контексте.
Пример 3. Когда мы приходим в новый коллектив, будь то детский сад, школа, институт, спортивная секция, место работы и т.д., т.п., то мы неизбежно переживаем все вышеперечисленные эмоции, начиная от страха. Давайте ещё раз их повторим.
Человек приходит в новый коллектив, и естественной реакцией на окружающих будет некоторая зажатость и эмоциональная сдержанность. Поначалу человеку нужно понять свои внутренние ощущения в новой среде, понять «куда я попал» на самом субъективном уровне первичной реакции. Затем, постепенно, мы начинаем «присматриваться» к людям, к среде, хотя внешне остаёмся относительно неподвижны. То есть, мы более или менее осторожно начинаем расширять сферу своего, по сути, влияния. Кстати, коллектив, то есть сама «среда», тоже подобным образом «присматривается» к нам. Люди, которые не действуют подобным образом, например, сразу проявляют себя ярко и агрессивно, воспринимается окружающими как неадекватно себя ведущие. Их ещё больше сторонятся, ведь «мало ли, что у него на уме?…» Впрочем, сами те, кто ведёт себя в новом коллективе необычно, или просто играют в самоуверенность (а в душе они очень даже смущены), или же на самом деле являются людьми если не психически больными, то находящиеся на границе душевного расстройства. Но, в любом случае, их необычная реакция на новизну есть защитный психический механизм на внешний мир.
Для новичка естественным является реакция «сканирования» пространства» на предмет «кто из окружающих что из себя представляет». Например, с кем можно общаться, от кого лучше держаться подальше, кто хищник, а кто потенциальная жертва, каков начальник или что за подчинённые, и т. д. В конце концов, где находятся кабинет начальника, туалет, столовая, места отдыха, курильня и прочие «нужные» помещения.
Дальше люди начинают «притираться» друг к другу в новом коллективе, или «вливаться в коллектив». Здесь уже всё активнее и активнее действует вторая эмоция – производная от ярости и агрессии. Вектор этой активности всё растёт и растёт, до тех пор, пока от первичной зажатости и пассивности не остаётся почти ничего (в зависимости от темперамента новичка и его личностных особенностей).
Зато рождается третья эмоция, порою очень напоминающая вторую, только с той разницей, что человек начинает чувствовать на себе то, что ещё недавно он сам проявлял к другим. Он познавал новый коллектив, но и коллектив познавал его; он проявлял некую активность, порою агрессивность к окружающей обстановке, но вдруг и сам почувствовал на себе ответную агрессию и навязчивое «любопытство»; он «вливался» в окружение, но и окружение «всасывало» его в себя, хотел он того или нет.
Эта эмоция может быть разной, как, впрочем, и другие фундаментальные эмоции, но, пожалуй, из всех перечисленных и тех, что ещё будут перечислены, она занимает уникальное место «посередине» во многих смыслах, о чём будет речь идти дальше. Сейчас я просто хочу заранее акцентировать этот факт, так сказать, «оставить зарубку, или узелок на память». Но добавлю ещё, что не зря Дева-Обида у славян помещалась именно посередине туловища.
Эта эмоция может быть агрессией на самого себя, когда человек буквально съедает самого себя, жалеет самого себя, периодически доводя себя до слёз. Эта эмоция – «в слезах». Поэтому и рождается она уже не в печени, а в селезёнке. «Слёзы обиды» – её возможное соматическое проявление. Селезёнка – это сосуд, где формируется эта эмоция. Если же рассматривать даосский медицинский аспект, то есть говорить об органах туловища, то к этому сосуду также относится и поджелудочная железа. То есть, орган в данном случае не совпадает с сосудом, в данном сосуде два органа в одном сосуде.
Именно в обиде человек как бы «проглатывает» то, что ему сказали, или сделали по отношению к нему, не в силах в дальнейшем это «переварить». В обиде мы «съедаем самого себя». И жалость к себе делает своё «чёрное дело». Застоявшаяся обида губит непосредственно желудок.
Именно желудок является проводящим сосудом для этой эмоции, будь она положительная, либо отрицательная. Желудок или переваривает обиду, либо нет, и тогда он «съедает самого себя». Кто-то справедливо сказал про случай «съедания самого себя»: «обида – о Беда!»
И происхождение этого слова указывает на «желаю», то есть это сосуд желаний, а также сосуд требований – в народе он также называется «требуха».
Но можно «проглотить» и «переварить» обиду, если эта же обида переживается без жалости к себе. Именно безжалостность к себе заставляет задуматься над предметом обиды и тем самым его «переварить». Тогда это уже и не обида вовсе, её можно называть как угодно, даже задумчивостью, главное, понимать критерий её продуктивности – безжалостность по отношению к себе. Не жестокость, ибо в жестокости как раз человек нередко больше всего себя жалеет и одержим обидами на всех и вся. Жестокость эгоистична, безжалостность сближает, так как стремится понять других: «Если этот человек так мне сказал, возможно, он прав, и мне стоит пересмотреть своё поведение». То есть, положительный эквивалент обиды сопровождается пересмотром, и с этой точки зрения эту эмоцию можно обозначить как пересмотр, понимая, что это пересмотр как эмоция, но не как мысленная деятельность или методика. Безжалостность к себе черпает внешнюю агрессию и направляет её снова вовне, но уже не как прежнюю активную познавательную агрессию, а как агрессию спокойную, агрессию – состояние, агрессию-рефлексию, то есть самопознавательную рефлексию.
Эта эмоция также подобна «песне пустыни», такой же бесконечной, как и сама пустыня – такой образ я использую на практике. В даосизме селезёнка, поджелудочная железа и желудок являются выражением стихии земля, жёлтого цвета, сладкого вкуса. Я бы ещё добавил: сладкая песня пустыни. А кому-то весьма помогает вспомогательный образ «Учкудук, три колодца»…
Лёгкие дружат
Для обиды, или для задумчивости, то есть для любой ипостаси этой эмоции (3-й в нашем рассмотрении) характерно перетекать рано или поздно в подобное состояние, такое же инертное и относительно спокойное, и такое же задумчивое, но эта «новая задумчивость» имеет совсем другое качество рефлексии. Эта рефлексия уже не самопознавательная, но познавательная чего-то Более, чего-то Вне, чего-то Космического, хотя и по отношению к самому себе… Это состояние, точнее, эта новая эмоция качественно другая – она рождает неподвижность рефлексии и неподвижность самого тела. Но, и в случае с неподвижностью тела, это уже не та неподвижность, вызванная страхом, когда ноги не могут сдвинуться с места по причине «тяжести» и «скованности». В случае этой эмоции (уже 4-й в нашем рассмотрении), само сознание человека «не хочет» двигаться с места. Причём, если страх как-бы «тянет вниз», то эта эмоция «тянет вверх», и при этом человек также стремится оставаться на месте, но в другом качестве: если при страхе и трепете он ничего не знал, потому и стоял на месте, то теперь он знает всё (в пределах зоны познания), поэтому и вернулся «на то же место». Хотя – то же ли это место? Точка (страх) ушла в вектор (ярость) и снова вернулась к себе (обида), но социальная роль и самооценка этой точки теперь изменились.
Вот здесь и понимается ранее упомянутая ещё одна роль обиды, или задумчивости: обида и задумчивость является «переходной эмоцией», эмоцией посередине между этими разными качествами: «тянет вверх» и «тянет вниз», между «тяжёлой водой» и «лёгкой водой», да и не только водой. Только что сказанное легче понять на примере.
Пример 4. Вы бывали когда-нибудь в «другой» церкви, то есть не в той, к которой себя традиционно относите? Что происходит с христианином, когда он впервые заходит в мечеть, или в дацан, или в синагогу, или посещает шаманское камлание? Или когда мусульманин или буддист заходит в собор или костёл?.. Да неважно, кто и куда, и даже зачем, главное, что в первый раз! Происходит нечто одинаковое. Впрочем, то же, что произошло, когда Вы вообще впервые осознанно вошли в лоно и своей церкви.
Трепет! Что бы ни было на фасаде (агрессия, радость, или прочее), но внутренний трепет неизбежен. Трепет, благоговение или даже страх.
Вскоре из «оглядывающегося по сторонам» прихожанина Вы превращаетесь во «впитывающего в себя дух храма», что вполне очевидно, ведь и церкви, и мечети, и хурулы имеют «намоленную» атмосферу, и всякий, кто в эту атмосферу попадает, её рано или поздно начинает чувствовать. Вот тут и проявляется вторая познавательная эмоция, диапазон которой может быть от активного любопытства (что чаще и бывает) до желания тут же покинуть храм (если «бесы засуетились», ведь атмосфера храма «изгоняет бесов»).
Третья эмоция проявит себя, когда, например, Вы получите обратную связь от других прихожан, или от духовного представителя, или просто задумаетесь о своём визите сюда.
И, как результат такой задумчивости, Вы испытаете нечто новое – новое эмоциональное состояние, новое состояние души. Это – состояние чистой лёгкой тоски, тоски Божественной, тоски по Бесконечности, Космического томления. Когда Ваше я, Ваше эго вдруг станут бесконечно малы по сравнению с этой Бесконечностью, с Провидением Божьим. Когда Вы вдруг поймёте, что вся эта «игра» стоит того, чтобы Быть, даже невзирая на то, что Вы никогда не охватите и мизерную часть этой Игры, но «Игра стоит свеч», даже несмотря на это. «Моё я заслуживает этой Игры, и какое бы не было малое это я, тем не менее, оно часть Вселенной, часть Великого, достойная называться с большой буквы Я»…
Я не напрасно привёл пример из мира религии. Пожалуй, основные религиозные конфессии задают именно «такое» настроение – настроение чистой тоски. Хотя, справедливости ради стоит заметить, что в религиях и страх часто упоминается, и радость. Но всё же основное религиозное общепринятое настроение – поиск Бога в тоске, покорности, смирении. Это также принятие мира таким, каков он есть, признание своей грешности, понимание бренности Бытия и т. п. На этом же настроении построены и большинство медитативных практик, начиная от опять же религиозной молитвы и заканчивая «авторскими методиками». Также и философия как наука задаёт это настроение, эту эмоцию, особенно те направления, которые говорят об относительности человеческих ценностей и их непостоянстве, о единстве и борьбе противоположностей и пр. Сама мудрость рожает чистое томление по бесконечности мысли.
Эта эмоция – принципиально другая, в отличие от трёх, ранее перечисленных, хотя они также весьма разные. Очень важное и принципиальное отличие этой эмоции – её лёгкость. Лёгкость – первичный параметр чистой философской тоски. Отсюда и сосуд, где эта эмоция формируется, в русском языке, например, так и называется: лёгкие. И расположен этот орган в человеке выше по отношению к органам живота.