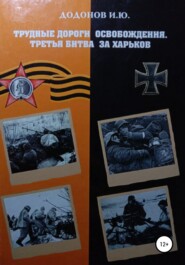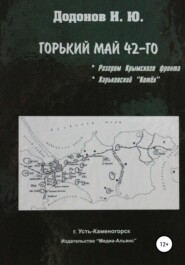По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Чёрная мифология». К вопросу о фальсификации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1. Началом развития этой политики явилось заключение так называемых договоров о взаимопомощи с ЭСТОНИЕЙ, ЛАТВИЕЙ и ЛИТВОЙ в октябре и ноябре 1939 года и возведение военных баз в этих странах.
2. Следующий ход Советской России был сделан по отношению к ФИНЛЯНДИИ. Когда требования Советской России, принятие которых грозило бы потерей суверенитета свободному финскому государству, были отклонены финским правительством, Советское правительство распорядилось о создании коммунистического псевдоправительства Куусинена. И когда финский народ отказался от этого правительства, Финляндии был предъявлен ультиматум, и в ноябре 1939 года Красная Армия вошла на территорию Финляндии. В результате «заключённого» в марте финско-русского мира Финляндия вынуждена была уступить часть своих юго-восточных провинций, которые сразу подверглись большевизации.
3. Спустя несколько месяцев, а именно в июле 1940 года, Советский Союз начал принимать меры против ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ. Согласно первому Московскому договору (т.е. пакту Молотова- Риббентропа – И. Д., В. С.) Литва относилась к сфере германских интересов.
В интересах сохранения мира, хотя и скрепя сердцем, правительство рейха во втором договоре (имеется в виду договор о дружбе и границе – И. Д., В. С.) по просьбе Советского союза отказались от большей части территории этой страны, оставив часть её в сфере интересов Германии. После предъявления ультиматума от 15 июня Советский Союз, не уведомив об этом правительство рейха, занял всю Литву, т.е. и находившуюся в сфере влияния Германии часть Литвы, подойдя, таким образом, непосредственно к границе Восточной Пруссии. Позднее последовало обращение к Германии по этому вопросу, и после трудных переговоров, пойдя ещё на одну дружественную уступку, правительство рейха отдало Советскому Союзу и эту часть Литвы[6 - На самом деле, немцы не отдали, а продали свою часть сферы влияния в Литве за 7,5 млн. золотых долларов (31,5 млн. золотых германских марок) [58; 120],[59; 57], [63; 305-306, 307].]. Затем таким же способом, в нарушение заключённых с этими государствами договоров о помощи, были оккупированы Латвия и Эстония. Таким образом, вся Прибалтика, вопреки категорическим заверениям Москвы, была большевизирована и спустя несколько недель после оккупации сразу аннексирована. Одновременно с аннексией последовало сосредоточение первых крупных сил Красной Армии во всём северном секторе плацдарма Советской России против Европы.
Между прочим, Советское правительство в одностороннем порядке расторгло экономические соглашения Германии с этими государствами, хотя по Московским договорённостям этим соглашениям не должен был бы наноситься ущерб.
4. По вопросу о разграничении сфер влияния на территории бывшего Польского государства Московскими договорами было ясно согласовано, что в границах сфер влияния не будет вестись никакая политическая агитация, а деятельность обеих оккупационных властей ограничится исключительно лишь вопросами мирного строительства на этих территориях. У правительства рейха имеются неопровержимые доказательства того, что, несмотря на эти соглашения, Советский Союз сразу же после занятия этой территории не только разрешил антигерманскую агитацию в польском генерал-губернаторстве, но и одновременно поддержал её большевистской пропагандой в губернаторстве. Сразу же после оккупации и на эти территории были переброшены крупные русские гарнизоны.
5. В то время как германская армия на Западе вела боевые действия против Франции и Англии, последовал удар Советского Союза на БАЛКАНАХ. Тогда как на московских переговорах Советское правительство заявило, что никогда в одностороннем порядке не будет решать бессарабский вопрос, правительство рейха 24 июня 1940 года получило сообщение Советского правительства о том, что оно полно решимости силой решить бессарабский вопрос. Одновременно сообщалось, что советские притязания распространяются и на Буковину, то есть на территорию, которая была старой австрийской коронной землёй, никогда России не принадлежала и о которой в своё время в Москве вообще не говорилось. Германский посол в Москве заявил Советскому правительству, что его решение является для правительства рейха совершенно неожиданным и сильно ущемляет германские экономические интересы в Румынии, а также приведёт к нарушению жизни крупной местной немецкой колонии и нанесёт ущерб немецкой нации в Буковине. На это господин Молотов ответил, что дело исключительной срочности, и что Советский Союз в течение 24 часов ожидает ответ правительства рейха. И на этот раз правительство Германии во имя сохранения мира и дружбы с Советским Союзом решило вопрос в его пользу.
…Оккупация и большевизация Советским правительством территории Восточной Европы и Балкан, переданных Советскому Союзу правительством рейха в Москве в качестве сферы влияния, полностью ПРОТИВОРЕЧАТ МОСКОВСКИМ ДОГОВОРЁННОСТЯМ» [58; 118-121], [59; 54-58].
Последняя фраза выделена в тексте ноты самими немцами, но мы со своей стороны также готовы выделить её очень жирным шрифтом. И вот почему. Как нас убеждают на протяжении уже более двух десятков лет «правдолюбивые» историки, публицисты, журналисты и политики, пакт Молотова-Риббентропа – это сговор о разделе мира и оккупации суверенных стран. Именно такую трактовку термина «сфера интересов» дают «правдолюбцы». Однако, как мы видели, сам предлагаемый нам в качестве подлинного текст секретного протокола ни о чём таком не говорит. А содержащиеся в германской ноте обвинения в адрес СССР приводят к абсолютно противоположным выводам. В секретном протоколе к пакту речь не идёт не только об оккупации входящих в сферу влияния территорий полностью, но даже частично (как в случае с Финляндией). Более того, не предполагалось и военное присутствие договаривающихся сторон на данных территориях (т.е. создания на них военных баз).
Возмущение германцев вызывала и большевизация входящих в сферу советских интересов районов. Другими словами, секретный протокол не предполагал и насаждение в зоне сфер влияния родственных идеологически политических режимов. Что же тогда надо понимать под сферой интересов? Из германской ноты можно сделать вывод, что этот термин выполнял, если так можно выразиться, прежде всего, запретительную функцию. Одна договаривающаяся сторона не имела права военного присутствия в зоне интересов другой договаривающейся стороны, а также не могла вести в ней агитационно-пропагандистскую деятельность против другой стороны. Очевидно также, что речь могла идти и о некоторых преимуществах в торговле в сфере своего влияния.
Теперь мы вплотную подходим к вопросу: « А что же предлагается нашему вниманию вместо подлинного секретного протокола к советско-германскому договору о ненападении, где все вышеуказанные нюансы нормально оговаривались бы?» Мы отвечаем однозначно: «Нам предлагаетсяфальшивка!»
* * *
Авторы данной книги не являются пионерами такого взгляда на находящийся в историческом обороте текст секретного протокола к пакту Молотова – Риббентропа. Впервые с подобной точкой зрения выступил российский исследователь Ю.И. Мухин. В аналогичном ключе высказался вслед за ним и известный обществовед С.Г. Кара-Мурза. На какие же признаки фальшивки указывает Ю.И. Мухин?
Прежде всего, весьма сомнительны обстоятельства ввода текста секретного протокола в научный оборот. Подлинный текст самого договора о ненападении хранился в архиве внешней политики (АВП). Но когда господа Горбачев и Яковлев явили второму Съезду народных депутатов СССР, а вместе с ним и всему миру, в 1989 году секретный протокол к договору, то было заявлено, что подлинника протокола в АВП нет, а есть только его машинописная копия. Причём, эта копия имеет вверху листа надпись рукой Молотова: «Тов. Сталину (подпись Молотова)» [58; 108].
И сразу возникают вопросы. Во всяком случае, они должны были возникнуть у всякого здравомыслящего человека. У тех же депутатов в 1989 году, которые проголосовали чуть ли не единогласно за постановление «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года» [73; 27]. У тех же историков, которые безоговорочно сочли этот документ подлинным и начали строчить, опираясь на него, свои гневные обличительные труды. А вопросы-то, элементарные.
Прежде всего, почему не сохранилось подлинника секретного протокола? Допустим, «преступный сталинский режим» заметал следы одного из своих «преступлений» и подлинник протокола уничтожил. Но тогда зачем была сохранена копия? Затем, не ясно местонахождение этой копии. Копия, адресованная Сталину, очевидно, должна была к нему и попасть, а не остаться лежать в НКИДе (МИДе). А раз она попала к Сталину, то местом её последующего хранения должен был стать Архив Политбюро ЦК КПСС (ныне Архив Президента России (АП)). Каким образом копия снова оказалась в Архиве внешней политики?
Но это еще не всё. Сталин до буквы знал текст протокола. Можно не сомневаться, что он принял самое непосредственное участие в создании его текста. В присутствии Сталина Молотов и Риббентроп протокол подписывали. Вопрос в том, зачем тогда Сталину вообще понадобилась копия протокола? Кроме того, снимать копии с секретных документов вообще-то не принято (на то они и секретные). Тем, кто имеет право их читать, обычно дают читать подлинники.
На этом странности ввода в научный оборот секретного протокола к советско-германскому договору о ненападении не заканчиваются. До 1993 года во всех сборниках документов текст секретного протокола фигурировал как «машинописная копия» [58; 108]. А вот в сборнике документов по Катынскому делу «Катынь. Хроника необъявленной войны», составленном коллективом авторов во главе с Н.С. Лебедевой, этот протокол значится уже как подлинник со ссылкой на Архив Президента и на «…Документы внешней политики. 1939 г.». Т. ХХII. Кн.1, с. 632 [58; 108-109].
Что касается второго источника, то в нем подлинник так и не был опубликован, поскольку в примечании к тексту сообщается: «Печат. По сохранившейся машинописной копии АВП РФ, ф. 06, оп. 1, п. 8, д. 77, л. 1-2» [58; 109]. Получается, коллектив авторов во главе с Н.С. Лебедевой, делая вторую ссылку, просто-напросто откровенно лжёт. Ссылка же на Архив Президента просто поражает своей наглостью. Во-первых, нигде и никогда не говорилось, что подлинник протокола там обнаружен. Можно не сомневаться, произойди такое в действительности, «демократические правдоискатели» раструбили бы об этом по всему миру. Во-вторых, совершенно непонятно, как подлинник протокола оказался в Архиве Президента, когда ему самое место там, где содержится подлинник договора о ненападении, т.е. в Архиве внешней политики. Приходится предполагать, что в Советском Союзе с архивным делом творится полный базар, даже на самом высшем уровне. Однако, как известно, это было далеко не так. Документы попадали в архивы «по подведомственности», как положено. И уж если полагалось в архиве НКИД (МИД) храниться подлинникам договоров, то можно не сомневаться, что они там и хранились со всеми приложениями (в том числе и секретными протоколами).
Как верно замечает Ю.И. Мухин, «от изделий Горбачева-Яковлева фальшивками воняет за версту»[5; 109].
Остается понять, для чего тогдашнему руководству СССР понадобилась фабрикация данной фальшивки? Ответ прост. Это была часть кампании по идеологической дискредитации Советской власти. Пришедшим на смену последним «коммунистам» (точнее, будет назвать их псевдокоммунистами) «демократам» очернять Советское государство было не менее выгодно. Если псевдокоммунисты разрушали Советский строй, то «демократы» столкнулись с проблемой легитимации собственной власти. Очернить существовавшие до «демократов» порядки – один из способов оправдания тех порядков, которые воцарились в России с наступлением «демократической» эпохи. А потому ложь была наложена на ложь. Ложь стала многослойной.
Теперь перейдем к анализу самого текста протокола. На такую странность, как размывчатость и неопределенность формулировок в нем, мы уже обращали внимание. Правда этой странности «демократические» историки нашли свое объяснение:
«Секретный протокол, оформлявшийся в обстановке спешки, во многом носил на себе черты импровизации, далеко не полной ясности относительно того, каким будет ход событий в ближайшее время»[18; 40].
Подобное объяснение нас не удовлетворяет. Спешкой, импровизацией и неясностью дальнейшего хода событий, отсутствие какой-либо определенности во всем тексте протокола не объяснишь. Гитлер и Сталин – не Горбачев. Этот последний мог договариваться о консенсусе, не очень сам понимая, в чем, собственно, этот консенсус заключается. А Гитлер и Сталин были политиками весьма конкретными, и какую-то размытость формулировок могли терпеть, если только это было не во вред интересам их стран. Вот и посмотрим, не вредила ли расплывчатость формулировок секретного протокола интересам Германии и СССР.
Первый же пункт протокола должен был поставить внимательного читателя в тупик:
1. «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами…» [58; 111], [59; 48], [73; 16-17].
Скажите, пожалуйста, в чью сферу интересов входит при такой формулировке Литва, а в чью Латвия, Эстония и Финляндия? Кто из них оказывается в советской, а кто в германской сфере влияния? Можете вразумительно ответить? Нет? Вот и мы не можем, потому, что вразумительного ответа при такой формулировке и не существует.
Далее. Предположим, что территориально-политическое переустройство Польши и Прибалтики, о чем говорится в пп. 1 и 2 протокола, случилось. Где тогда проходит граница сферы интересов в промежутке от угла северной границы Литвы в месте поворота её на юг и до истоков реки Нарев? Данный промежуток составляет 500 км. «Ерунда», – могут сказать «правдолюбцы». Да нет, господа, не ерунда. Особенно если встать на ваши позиции. Ведь это вы утверждаете, что сфера интересов предполагала оккупацию входящих в нее территорий. Тогда где в этом пятисоткилометровом промежутке пройдет советско-германская граница?
То, что подобная неопределенность не была для Сталина и Гитлера в тот момент ерундой, то, что они не подписывали, сломя голову, бумажку с расплывчатыми формулировками, свидетельствует следующий факт. Советской и немецкой сторонами при подготовке и подписании протокола была совершена одна ошибка, можно сказать, географического плана. Не было учтено, что истоки реки Нарев находятся в Польше, а не в Восточной Пруссии. Таким образом, в определённой границе сфер влияния образовывался разрыв в 30 км. Всего в 30 км, а не в 500! И уже через пять дней после подписания пакта и секретного протокола к нему, т.е. 28 августа 1939 года, Молотов и германский посол в Москве Шуленбург встретились и подписали «Разъяснение» к протоколу, в котором этот разрыв закрыли:
«В целях уточнения первого абзаца п.2 секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года настоящим разъясняется, что этот абзац следует читать в следующей окончательной редакции, а именно:
2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Писсы, Наревы, Вислы и Сана. Москва, 28 августа 1939 года» [58; 11]), [59; 50-51].
Писса тогда текла из Восточной Пруссии и впадала в Нарев.
Получается, что 30 км Сталин и Гитлер поторопились закрыть, а 500 км так и оставили? Да нет, конечно. Спешность составления протокола в августе 1939 г. привела к ошибке в 30 км. Её быстро исправили. А вот спешность изготовления фальшивки в 1989 году так и не позволила фальсификаторам понять, что они совершили ошибку гораздо «большую по протяжённости», чем 30 «сталинско-гитлеровских» километров. Фальсификаторы, взяв за основу подлинный секретный протокол, так «обкорнали» его первый пункт, что не только «образовался» указанный пятисоткилометровый разрыв в сферах влияния, но и вообще из пункта стало непонятно, какие государства в чью сферу влияния входят.
Мы присоединяемся к российскому историку Ю. И. Мухину, который даёт такую приблизительную реконструкцию первого пункта секретного протокола:
«В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР, с вхождением суверенного Литовского государства в сферу интересов Германии. При этом интересы Литвы по отношению к Виленской области признаются обеими сторонами» [58; 111], [59; 51]. Выделенные слова фальсификаторы из текста изъяли, видимо, по той причине, что речь в них шла о сохранении суверенитета Литвы. А это никак не вписывалось в ту трактовку протокола, которую они пытались навязать, а именно, что протокол предусматривал территориальные захваты в сферах влияния договаривающихся сторон. Но, изъяв указанные слова, фальсификаторы превратили весь пункт в абстрактную глупость.
С поправкой Ю. И. Мухина «всё становится на свои места, и граница сфер интересов идёт непрерывно: от Балтийского моря по северной границе Литвы, затем по восточной границе Виленской области (тогда ещё удерживаемой Польшей), далее по границе Восточной Пруссии до реки Писса, по ней до впадения её в Нарев, по нему до впадения его в Буг, который через несколько десятков километров впадает в Вислу, по ней до впадения в неё Сана, а по нему до его истоков – до Словакии» [58; 113-114].
Кстати, при подобной реконструкции первого пункта секретного протокола как бы «повисающее в воздухе» его последнее предложение (о признании интересов Литвы по отношению к Виленской области) вполне вписывается в контекст пункта и перестаёт выглядеть противоречащим остальному тексту (подобное противоречие особенно бросается в глаза , если исходить из того, что включение тех или иных территорий в сферу интересов означает их захват).
Теперь попробуем выяснить, что означает в протоколе понятие «сфера интересов». Понять этого из текста протокола как раз невозможно. Потому-то на основании того протокола, который выдаётся сейчас за подлинный, «правдолюбцы», зная последующие события, смело утверждают, что речь в нём шла о непосредственном захвате территорий.
Но мы видели, что немцы в своих претензиях к Советскому Союзу, изложенных в ноте об объявлении войны, вменяли ему в вину данные захваты. И не только их, но и создание в зонах интересов военных баз, и большевизацию указанных регионов. При этом немецкие обвинения основывались на том, что СССР подобными своими действиями нарушает московские договорённости, т.е. секретный протокол от 23 августа 1939 года в том числе.
Если немцы столь смело делали такие утверждения, то, значит, расшифровка понятия «сфера интересов» в протоколе была. В самом деле, без соответствующих разъяснений слова «сфера интересов» смысла под собой не имеют.
Представим себе, что некие стороны заключают между собой хозяйственный договор. В основном тексте они оговаривают, что, согласно договору, продаётся-покупается какой-то «Товар». При этом ни конкретное наименование товара, ни его количество, ни цена не указываются. Могут ли стороны в таком случае работать нормально? Конечно, нет. Поэтому подобные «абстрактные» контракты предполагают подписание спецификаций к ним, где расшифровывается, что за товар продаётся-покупается, в каких количествах и по какой цене. Так неужто в международных договорах дело обстоит иначе? Похоже, что «состряпавшие» фальшивку под наименованием «Секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении» полагали, что иначе, и в международных договорах абстракциям самое место. Они «вычистили» из протокола все пояснения относительно содержания понятия «сфера интересов», потому что эти пояснения явно мешали их цели, заключавшейся в доказательстве злостных агрессивных намерений сталинского режима в отношении суверенных стран.
Выше, рассматривая содержание германской ноты, мы уже говорили, на какие действия в сферах своего влияния имели право СССР и Германия.
Теперь, взглянув на секретный протокол, так сказать, свежим взглядом, т.е. с учётом выброшенных «кремлёвскими творцами» участков его текста, ещё раз зададимся вопросом: « Возможна ли его трактовка как союзного соглашения между Третьим рейхом и Советским Союзом?» Конечно же, нет. Этим протоколом советское правительство клало предел германской экспансии на Восток. Таким образом, его назначение – обеспечение безопасности СССР, но никак не союз с немцами для удовлетворения экспансионистских амбиций Сталина.
* * *
Следующим договором СССР с Германией, который «демократические» авторы клеймят чуть ли не большим позором, чем пакт Молотова – Риббентропа с секретным протоколом к нему, является договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года. Вот что пишет о нём М. И. Семиряга:
«Среди них (советско-германских договорённостей – И. Д., В. С.) своей особой одиозностью, о чём свидетельствует даже его название, выделяется договор о дружбе и границе между СССР и Германией…» [73; 17].
Разумеется, слово «дружба» в приложении к нацистской Германии не может не покоробить истинного поборника «общечеловеческих ценностей». Но если отвлечься от эмоций, связанных с названием договора, то в чём же всё-таки заключается его одиозность?
Итак, разгром Польши стал реальностью. О событиях, связанных с освободительным походом[7 - «Демократические» авторы при описании действий Красной Армии в сентябре-октябре 1939 года на территории Западной Украины и Белоруссии употребляют словосочетание «освободительный поход» в кавычках, давая тем самым понять, что никаким освободительным он не был, что это была агрессия Сталина против суверенной Польши. Абсолютно не принимая такую трактовку, мы в своей книге используем указанное словосочетание без кавычек, ибо полагаем, что действия РККА в сентябре-октябре 1939 года действительно носили освободительный характер.] Красной Армии в Западную Украину и в Западную Белоруссию, речь ещё будет вестись. Здесь же необходимо сказать, что, так или иначе, но Советский Союз и Третий рейх стали соседями. Вопрос о границе между двумя державами надо было решать. Собственно, это обстоятельство и явилось главным побудительным мотивом к заключению нового советско-германского договора. Поскольку с момента подписания договора о ненападении СССР и Германия по отношению друг к другу были дружественно-нейтральными странами, то ничего из ряда вон выходящего в употреблении слова «дружба» в наименовании нового договора не было. Это была всего лишь дипломатическая риторика, не более того. Тогда данное обстоятельство прекрасно понимали все: и немцы, и русские. Очень прискорбно, что туго с пониманием стало у части современных авторов, которые в самом названии очередного советско-германского договора усматривают, буквально, эпохальную одиозность.
Переговоры, окончившиеся подписанием договора о дружбе и границе, начались в Москве по германской инициативе. О желании немецкой стороны их провести Риббентроп сообщил Молотову 23 сентября 1939 года. Ниже приводится текст договора:
«Германо–Советский договор о дружбе и границе