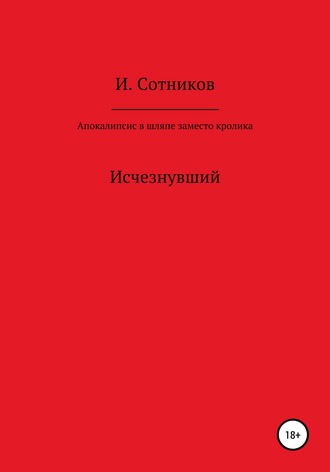
Апокалипсис в шляпе, заместо кролика
Но Клаву что-то сдерживает от этого выбора, – может то, что она себя рукой за коленку щипает, – и она, сглотнув набежавшую слюну, спрашивает Ивана Павловича. – А вторая конфета, для чего она?
Иван Павлович, скорей всего, ожидал этого вопроса, и поэтому он был готов к нему. – Она, как вы заметили, не так размерна, как её соперница. Она зовётся «Лизунок». Не нужно объяснять вам, из чего это выведено. – Заговорил Иван Павлович. – И её функционал как раз отражает это её качественное свойство. Она всё умельчает до своего предела у употребившего её человека. – Иван Павлович сделал паузу, ожидая от Клавы поясняющего вопроса. Но она им не задалась, и он сам пустился в пояснение значения функционала этой конфеты. – Она по максимуму уменьшает значение в вас того, что отвечает за вашу индивидуальность. Через чувствительное охлаждение к сердечно волнующим вам вещам, загрубевая нервные окончания, делает вас не восприимчивой по прежнему к внешним раздражителям, с помощью которых происходит ваша коммуникация с этим миром, и тем самым вы становитесь обезличенным, полым существом (направление нашей чувствительности есть определитель нашего личностного я).
– Я перестану чувствовать, что ли? – вдруг вмешивается Клава, перебивая Ивана Павлович.
– Пожалуй, так. – Типа ничего не поделаешь, если такова сущность этой, даже и не конфеты, а антидепрессанта, говорит Иван Павлович, чуть ли не разводя руками. Из чего для Клавы становится лишь одно понятно – толстая конфета не так страшна, как выглядит на первый взгляд. А вот что ей совершенно непонятно, то она об этом и спрашивает Ивана Павловича. – И зачем мне это нужно и чем поможет?
– А для того …– перейдя на шепот, тихо проговаривает Иван Павлович и …на этом пауза затягивается, приведя Клаву к конверту. – Нет никаких конфет! – выдохнув, решительно заявляет Клава, и рукой лезет в карман куртки. Откуда ею вынимается оставленная на столе Иваном Павловичем монета. И она, зажав её пальцами руки, поднимает перед собой и начинает её рассматривать с разных сторон.
– «Орёл» или «решка»? – задаётся вопросом Клава. – А что «да», а что «нет»? – Прищурив глаз, вопрошает Клава, и немного подумав, делает вывод. – Несомненно, «орёл» это «да». Он отождествляет собой императив. А вот «решка» представляет собой оценочный взгляд на монету её владельца. А он не всегда удовлетворён тем, что видит. – Клава ещё разок осматривает монету со своих сторон, и с обращением к себе выдохнув: «Тогда бросаем», подбрасывает монету. Ловко её ловит и, не разжимая кулак с монетой в нём, со словами: «Я знаю, что там выпало», убирает руку в карман куртки.
Глава 13
Полная напряжения и встречных взглядов.
Когда перед уходом туда, где ты не разу не был, но для посещения этого места есть все необходимые и объективные причины, – так нужно, единственное, что позволено сейчас об этом сказать, – и тебе не нужно приодевать себя в новую, отличную от прежней повседневность, – а для этого есть уже свои всё объясняющие причины, – то это говорит о том, что всё уже заранее решено, а также о том, что этот человек ещё с вечера собравшись, сегодня с утра, как минимум, по этой причине не должен опоздать туда, куда он собрался прийти.
Что, между тем, не отменяет того, что у него на пути к тому месту, куда он направился, не возникнет иного рода причин, в итоге приведших его к опозданию. Но, видимо, сегодня не день для возникновения объективных препятствий для Клавы, для того человека, о ком здесь ведётся речь, на пути к своей цели, а субъективные препятствия, – дрожь в ногах, внутреннее волнение, приводящее её к забывчивости маршрута следования, ну и головокружение от сильно свежестью насыщенного воздуха, – оказались не столь полновесными, чтобы внести кардинальные, нацеленные на её опоздание изменения в ход её следования к своему пункту итогового прибытия. И она как вроде пришла вовремя и не опоздала в то место, которое было указано под одним из подпунктов вручённой ей инструкцию.
Хотя пару раз она и попыталась вначале подумать, а затем, развернувшись в обратную сторону от направления своего следования, поступить не так, как того требовало от неё сердце и некоторый расчёт на своё и на Ивана Павловича здравомыслие, на основе которого был разработан им некий план для … – а об этом в своё время, – и на основе веры Клавы в которое (во всё тоже здравомыслие), она сейчас не отсиживалась дома, а шла устраиваться на работу в одно финансовое учреждение, где её как бы ждали (плюс ещё с десяток претенденток на открывшуюся вакансию; но только для проформы, чтобы, таким образом, в целях демократии, замаскировать единственного устраивающего в компанию претендента, а именно Клаву; чью-то, из самых верхов протеже).
– И для чего мне это всё нужно? Да и не знаю я там никого. – Начала себя очень убедительно убеждать повернуть назад, домой, Клава, где её в отличие от того места, где её как бы ждут, но на самом деле и не ждут вовсе, её ждёт относительный покой в кровати. Правда, такого рода убеждения действенны только в обыденных случаях, а не при таких обстоятельствах, в которых оказалась Клава. И ей, для того чтобы окончательно повернуть назад, нужно что-нибудь более основательное придумать. Впрочем, на этот раз и именно сегодня, ещё с самого утра, а частично со вчерашнего вечера, Клава к ответу на этот вопрос была подготовлена более чем убедительно. И помог ей подготовиться к этому вопросу обнаруженный ею вслед за конвертом, стоящий на журнальном столике ноутбук, так и подсказывающий ей своей открытой крышкой, что он здесь не так просто оказался, а с ним работали так основательно, чтобы с ним в последствии могла также начать работать и Клава.
Ну а когда Клава в одном из подпунктов инструкции обнаружила указание на ноутбук: «Оформи себя в представленный образ с фотографии на ноутбуке», то тут-то всё ею представленное, не представляемое, и даже надуманное, и сошлось. Правда, совсем не так, как она себе в самых своих жестоких на свой счёт фантазиях представляла, оказавшись для начала в теле анорексички. Где она ничего с собой поделать не может, всё ест и ест, и всё равно при этом не поправляется. А стоило ей только обратиться с мольбами к вселенскому заупокою (так она называла вселенский разум, он должен нести покой), то он раз и прислушался к ней, и сделал всё наоборот, и не так, как того она ожидала.
И она, с этого момента распирающая собой и делающая тесными покровы окружающего её пространства, не во что не вмещающаяся и не проходящая ни в какие, даже разумные ворота, огромаднейшая тётка, находящаяся в последней стадии ожирения. Где она и ни ест ничего, отчего вечно находится в состоянии депрессии и голода, а всё равно пухнет, и вширь, и в сторону. В общем, эти её надуманности о двух таблетках со своими унифицированными свойствами имели под собой свою предметность в Клаве.
Но вот то, что она увидела на ноутбуке, скорее, а иначе не успеешь, что-то другое, чем можно было это заподозрить и говорить об оцифрованной фотографии, – это была и не фотография по сути, а что-то наподобие технической схемы устройства, здесь вроде как человекоподобного андроида, где он был размечен на составляющие его функциональные части, со своим описанием каждой из них (это для этого здесь была помещена, а эта часть устройства совсем для другого расположена), – ни в одну из этих страшных для неё трагедий не умещалось. И как оказывается, то очень уж наивна про себя была Клава, держа при себе только эти два обустройства себя в будущей, не столь молодой жизни. Тогда, как оказывается, и вот такое, о боже мой, и как так можно себя не любить, так себя на людях представляя и такое на себя надевая, бывает.
И первое, что после этого эмоционального всплеска Клавы из неё вырвалось, то эта бесконечная, со своей безнадёжностью жалость к себе, и не готовность так собой жертвовать, даже ради своего сердца. Правда сердце практически невозможно переубедить в чём-то своём, и если вы будете слишком настаивать на чём-то своём, что идёт в противоречии с его пожеланиями, то оно может и приостановить свою работу. А когда вас начнут мучить смутные сомнения, тёмные придыхания, то вы скорее, а иначе будет поздно, пересмотрите свою прежнюю позицию и пойдёте на попятную, согласившись во всём со своим сердцем.
Что и сделала Клава, благоразумно не став так далеко заходить в отношениях со своим сердцем (оно у неё очень трепетное, и о нём нужно проявлять заботу) и, пересмотрев эту свою непримиримую позицию на фотографию с ноутбука. С чем решительно заявила, что Тёзка за всё то, на что она себя обрекает по его вине, никогда не расплатится с ней. А вот задаваться вопросом: «А если Тёзка столь не платежеспособен, то какой смысл принимать в качестве залога его долговые векселя», она не стала.
И Клава с той в лице безысходностью, на котором настаивает тупиковое положение отчаяния, в котором на этот раз оказалась она, глядя в незримую даль, запускает в волосы руку, откуда ею вынимается заколка, которая при выносе её из волос выскальзывает из рук Клавы и падает на пол. Но Клава бессердечна в ответ на это падение, и ни один волос на её голове, кто так близок был к этой заколке, не пошевелился, а её глаза, как были беспринципно бесцеремонны, так и утолялись своей безжалостностью к когда-то самым близким ей вещам (неужели она, даже не укусила, а только лизнула ту самую, малую конфету? Понятно, что только фигурально. Хотя у неё во рту что-то сосательное присутствует). Но это только начало на пути Клавы к оголению себя к ожесточению. И вслед за заколкой, на пол полетели, а точнее будет сказать, начали опадать с Клавы вещи, составляющие сейчас её единое целое, а именно то, что было на ней надето.
И вот когда на Клаве остались только одни серёжки, то её рука, было потянувшаяся к уху, вдруг дрогнула, а когда она пальчиком руки задела одну из серёжек, то её тут как пробьёт током, пробежавшим от уха с серёжкой, а дальше через палец на руке и по телу. И она, прыснув слезами, сильно не красиво исказившись в лице, раскрыв рот от жалости на этот раз не к себе, а к Тёзке, подарившему ей эти серьги, что есть духу бросается по лестнице на второй этаж, в ванную. Где, громко хлопнув дверью, запирается на замок, включает в кране воду и вперёд под душ, слизывать холодным душем с себя соль слёз.
Что приводит её в относительный порядок, и Клава, сумев подняться с корточек, на которых она находилась всё это время под душем, посмотрела на себя в зеркало, и увидела там себя, и не только. И она, повернувшись к шкафчику со всеми теми женскими принадлежностями, без которых современницу и представить невозможно, а она в свою очередь, и сама представить себе без них жизни не может, а что уж говорить о том, чтобы выйти на улицу без применения в свою сторону и на всю свою голову и ответственность, всех этих, индивидуального, как вроде, характера средств (нечего), уже зная, что будет делать, а вот что дальше будет и на что всё это будет похоже, она старается не думать, делает свой первый шаг навстречу к своему, в общем, туманному будущему, схему которого воспроизвёл на рисунке с ноутбука Иван Павлович.
А вот что из всего им задуманного получилось, то с этим Клаве сейчас как-то жить, выглядеть и ближайшее время расхлёбывать. – Я уже сделала тот самый решающий, свой бесповоротный шаг. – Просмотрев в обратную по многим статьям сторону, процедила в зубы Клава. – Так что поворачивать назад уже поздно. – И Клава решительно вернулась на свой прежний путь и, придерживаясь взглядов на себя с некоторым отстранением, – она смотрела лишь в сторону безобразных кроссовок на своих ногах, а на встречных окружающих незачем смотреть и их замечать, когда они и сами столь к тебе внимательны, – как-то на неё совсем непохоже (может быть, с непривычки носить спортивную обувь, после таких удобных шпилек, к которым её ноги попривыкли и теперь они в своём равновесии и упоре на стопу ноги, опираются на тот баланс сил, который даёт ногам удержаться на этой точечной грани под собой), очень неуклюже выдвинулась в это финансовое учреждение, где всё готово к тому, чтобы её увидеть, выслушать, а затем уже в качестве своей неотъемлемой части, служащего, принять в свои крепкие объятия.
И, конечно, Клава, как и всякий претендент на открывшуюся вакансию, даже будучи самым самонадеянным претендентом, – за меня есть кому замолвить словечко, да и вообще, знаете кто мой троюродный тесть, – немного волнуется за себя и чуть больше немного за членов приёмной комиссии, кто тоже может разволноваться и не увидеть в ней тот самый потенциал, которого не хватает их учреждению, и без которого оно в последнее время всё больше буксует на поле прибыли, принося компании только одни убытки. Из-за чего директора и управляющие этой, даже не совсем компании, а целого конгломерата из разно профильных компаний, в край переругались между собой, обвиняя друг друга в неэффективности и отсталости образа своего мышления.
– Такими категориями мысли, как у вас, когда-то мной многоуважаемый, а нынче у меня с этим вопросом возникли препирательства с реальностью, директор Карл Ибрагимович Маркс, давно уже не рассуждают. Это прошлый век, искать доход и прибыли через поглощение, слияние и последующую колку на части компаний. – Вот прямо так, и не сказать, что сильно неожиданно и к этому заявлению не было никаких предпосылок, пальцем руки и обвинениями в ретроградстве тычет в бороду Карлу, да ещё и Марксу, директору одного из филиалов компании, занимающейся всякими прибыльными когда-то, а сейчас всё это ушло в безвестность и неизвестно ещё куда, управляющий другого, не менее безуспешного филиала компании, само собой, Фридрих и Иероним (такой он полный иронии человек) фон Грешен.
А Карлу, да ещё к тому же Марксу, как-то уж совсем странно слышать такие заявления от когда-то им уважаемого, и то только быть может, и нет никакой уверенности во всём этом, а вот уверенность в обратном во всём его существе присутствует, Фридриха, почему-то Иеронима, и ещё к тому же фона Грешена. – И как же нынче блефуют на рынке доходности бумаг? – сам в ответ тыча пальцем руки в когда-то покладистую, а сейчас одно расстройство и жёсткость, бороду Фридриха, может быть уже и не фон Грешена, со всей своей ответственностью заявляет вечерами в погребке вышеупомянутый Маркс.
– Я бы вам сказал, да вы всё равно ничего не поймёте. – Отъявленно и невозможно понять с какой это стати и на что он тут рассчитывает этот фон Грешен, пренебрегая добрососедством Маркса, такое себе вслух позволяя. Отчего и зажевать свою бороду не такое постыдное дело. Что и делает Карл, подрастерявший в себе и на своём лице Маркса, глазам и ушам своим не веря, слыша такое.
– Поясните. – Прожёвывая волосы с бороды, всё же интересуется Карл пока ещё Маркс, но не полностью. И Фридрих фон Грешен, так уж и быть, смягчается.
– Нужно всё старое облечь в новые формы. – Говорит этот ловкий Фридрих так здорово, что даже знаток всех этих новоделов не поймёт о чём это он. А уж куда там Марксу, живущему в своём мире. Но при этом он виду не подаёт, что ничего из сказанного не понимает, а согласно головой кивает. А чтобы не сильно дураком выглядеть, то ещё и интересуется:
– И кто так должен по-новому выглядеть?
– Да все мы! – ну а это Фридрих уж слишком много на себя берёт и загибает. И как интересно на это всё посмотрит его руководство, если до его сведения Маркс в собственной интерпретации доведёт такие его мысли и пожелания о мировом переустройстве, где он желает видеть новые лица там, у них наверху, и как может Маркс понять, и всеми поймётся, то среди этих новых лиц этот фон Грешен видит себя. И видимо Фридрих фон Грешен сумел по подобревшему лицу Маркса себя подловить на том, что слишком забежал вперёд в своей откровенности, и как бы она не стала ему боком. И он поспешно принялся напускать тумана, чтобы под ним скрыть свою настоящую мотивацию. И он начал тут что-то плести о ай-ты технологиях, об искусственном интеллекте и опять что-то о новых методах ведения бизнеса.
Но Маркса на всё это не проведёшь, и он уже насквозь подлую сущность Фридриха видит и понял. И он только ради приличия спрашивает о капитализации предлагаемых Фридрихом стартапов, а уж только затем, в самый казалось Фридриху неожидаемый им момент, своим вопросом, как обухом оглушает его по голове. – Что, с секретарши начнёшь свои нововведения?
Фридрих же на мгновение замирает в онемении, не сводя своего взгляда с Маркса, так настойчиво не сводящего с него своего взгляда, да и давай оживать в лице улыбкой.
– Не секретаршу, а консультанта по штатному расписанию, с ненормированным рабочим днём для решения внештатных вопросов. Так в новых реалиях будет называться эта должность. – С неоднозначным выражением лица сказал Фридрих.
– А! Я понял новую концепцию ведения бизнеса. – Хлопнув себя ладошкой по лбу, так ярко догадался Маркс. – Разрабатываем новую нормативную систему единиц ведения бизнеса. Где всё прежнее деловое мироустройство, вплоть до самых мелких лавочек и артелей на доверии, пропускаем через интеллектуальную нормативность, – добавляем интеллектуальную начинку в вышедший на рынок бизнес, и не обязательно чип, – так сказать, сертифицируем бизнес, без чего он не имеет право выходить на рынок, и…Ну ты меня понял. – Сказал Маркс. И хотя Маркс тут много чего от себя добавил (да вообще всё! Ему только дай за что-нибудь зацепиться, то он такого на придумает), Фридрих не прочь его понять, как тому вздумалось, чтобы его поняли.
– Угу. – Кивает согласно головой Фридрих.
– Так что ты там говорил о внештатном консультанте? – уже умиротворённо интересуется Маркс.
А что он говорил? Да всякое, что в голову придёт, а Клава теперь сидит вполне себе приличном, всё в светлых тонах фойе, и места себе не находит, так она волнуется и переживает. К тому же, чтобы она не сильно насчёт себя не задавалась и свои амбиции попридержала, то её ожидание разбавило ещё несколько претенденток на вакансию, посмотришь на которых и у тебя сердце сжимается от того, что ты не такая совершенная, и тебе до них никогда не дорасти, ни в росте, ни в шикарности вида. И Клава начинает совсем теряться и мелеть на их таком представительном фоне. Ну и плюс в ней начинает нарастать неуверенность в себе, со своими сомнениями и вопросами.
– Да всё бесполезно. – Клава уже начинает во всём сомневаться и срываться на уж совсем очернительские мысли в сторону …Да во все стороны. – Разве неясно. Посмотри на себя и на них. И гадать не нужно, кого выберут. Меня в самую последнюю очередь, когда все откажутся из-за неприемлемых условий контракта – нужно переспать с управляющим одного из филиалов компании, Ариогеном Бегемотычем (с ним никто не спит, а он оттого не высыпается, как бы это странно не звучало), в качестве подтверждения своих профессиональных качеств. И хотя на нынешнем рынке труда трудно уже чем удивить, а они, – Клава искоса и вскользь посмотрела на своих соперниц и соседок по диванчику, – ещё и не такие предложения выслушивали, но когда они увидели этого Бегемотыча и сколько за него предлагают, то у всех до единой иссяк оптимизм здесь работать. И тогда что. Мне соглашаться, спать с этим Бегемотычем? Да ни за что! Да и с какой стати! – Всё возмутилось в Клаве, и она было собралась уже подскочить с места и вон отсюда, как она вдруг и прямо тут, натыкается на не просто прямолинейный взгляд в свою сторону со стороны самой ближайшей к себе соседки по диванчику, – яркой блондинки, с холодными глазами и выразительно подчёркнутыми помадой губами, – а она что-то там демонстративно жуёт и как вроде в ней что-то анализирует.
И Клава на этой для себя нервной ноте срывается на вопрос. – Что?
Но блондинку, кажется, ни капли не волнует то, что тут себе позволяет Клава, и как она на неё пристрастно и с вызовом смотрит. И она нисколько не сбивается с хода своего поведения и в полной своей невозмутимости продолжает жевать и бесцеремонно разглядывать Клаву. А вот Клава в отличие от неё потеряла начальный запал и начинает проседать про себя, уже не столь уверенно посматривая на блондинку. И в её глазах теперь так и читается вопрос: И что ты на меня так внимательно смотришь. А?
А блондинка, видимо, не соответствует бытующему мнению, в основном среди мужской части населения, указывающему и утверждающему о наличии причинно-следственной связи между цветом волос девушки и её умственным потенциалом, а уж затем развитием, и она в момент уразумела, что у неё спрашивает Клава.
– Волнуешься? – спрашивает блондинка.
– Угу. – Кивает головой Клава, вдруг почувствовав, как у неё от сердца отлегла вся прежняя тяжесть и волнение, и всё оттого, что к ней проявили хоть какое-то участие.
– Это ты зря. – Продолжая жевать, наверное, жвачку, самоуверенно так делает это заявление блондинка. А Клаве естественно хочется и интересно знать, почему она так считает.
– У них нет шансов. – Кивнув в сторону других претенденток, сидящих поодаль от них, а некоторые даже рядом, как само собой, и так и должно быть, сказала блондинка. А вот здесь Клаве хочется услышать, на чём основываются такие смелые утверждения блондинки, – а то тут уже попахивает её слишком большой самонадеянностью, и даже начинается на практике подтверждаться ходящее в кругу брюнеток убеждение, что блондинки слишком высоко задирают нос и за соперницу тебя не считают, если ты и сама не блондинка, – ну и плюс, Клаве желалось бы знать, что она на её счёт думает.
– Почему? – с задушевным трепетом задаётся вопросом Клава. А блондинка нисколько не тушуется, и она, окинув так себе взглядом соседок, не понижая голоса говорит. – Они обыкновенны. – Здесь блондинка делает многозначительную паузу, уставившись на Клаву, и когда у Клавы от напряжения стало в голове темнеть, говорит ей. – А вот ты другое дело. Ты необычная. – А Клава и не знает, как на это её заявление реагировать. А закрыть раскрывшийся рот от удивления, она как-то не сподобится, забыв, что сейчас так открыто на слова блондинки реагирует.
Но Клаву в таком увлекательном виде не успевают тут заметить, а всё потому, что из дверей, ведущих в кабинет для собеседования, вышла строгого вида дама при очках и в руках планшет с бумагами, и теперь все на неё смотрят, и ждут то, что она сейчас озвучит.
– Надежда Холодная. – Говорит эта строгая дама при очках, заглянув в лист бумаги перед собой. А так как сразу никто не откликнулся, то она со своей досадой, с видом человека кого тут заставляют задерживаться, окидывает рассеянным взглядом девушек в фойе, и ещё(!) раз повторяется. – Надежда Холодная. Есть такая? – И вновь никто сразу не откликается и девушки начинают переглядываться между собой, как бы пытаясь друг в друге отыскать эту, как её там, куда-то запропастившуюся, и откуда такая ещё выискалась, Надежду, да ещё Холодную.
А вот Клава никуда вокруг не оглядывается, а она видит, как блондинка, что-то в себе нащупав, начинает преображаться в понимание сказанного той строгой дамой. А как только она заискрила в глазах знаковым пониманием и ещё чем-то таким, что Клава зовёт чудовством, а в сложных случаях и плутовством, она и говорит, обращаясь при этом только к Клаве. – А это ведь, кажется, меня зовут. – Здесь она поворачивается к строгой даме, кто уже выведена из себя таким прохладным и недопустимым в этих стенах поведением этой Надежды Холодной, и готова навсегда вычеркнуть из своей и списочного состава на листочке это, уже всем её сердцем ненавистное имя Надежды Холодной, но не успевает, так как эта Надежда Холодная вот она я.
Строгая дама видимо настолько выбешена такой не пунктуальностью Надежды Холодной, не соизволившей в точности с отведённым на ответ временем отреагировать на её вопрос, что и не находит, что ей возразить в ответ, чтобы значит, вычеркнуть её имя из списка претендентов на вакансию. И строгая дама только ещё строже посмотрела на неё поверх своих очков, и сказала. – Вас приглашают. Не задерживайтесь. – После чего она уже ничего здесь для себя не ждёт и возвращается туда, откуда сюда вышла, где и будет вместе со всеми, кто там собрался, ждать всякого от этой многообещающей Надежды Холодной. И, пожалуй, на этот счёт они не ошибутся, вон как Надежда Холодная, с готовностью всех там поразить, смотрит в приёмные двери, не забывая пережёвывать жвачку во рту.
А все вокруг на неё смотрят с большим вниманием и удивлением, и у каждой из девушек начинает закрадываться в себе насчёт этой Надежды Холодной сомнение. – Не слишком ли дерзко себя ведёт эта крашеная вертихвостка? – со своей долей понимания происходящего (она, несомненно, чья-то протеже, вон как ведёт себя вызывающе) и принижения, ясно, что не натуральной блондинки, задаются вопросами девушки из фойе. – Чувствую, что у нас нет шансов. Эта бл***ь, всех нас тут прокатит. – А это уже была форменная истерика соперниц Надежды Холодной, чья интуиция уже что-то там нащупала и начала сгущать краски и позволять так непримиримо и жёстко высказываться в её адрес.
А блондинка, то есть Надежда Холодная, повернулась к Клаве, пристально на неё посмотрела, и вдруг выплёвывает изо рта синеватого цвета жвачку и протягивает её Клаве, в оторопи одёрнувшейся чуть назад, и с этого положения принявшейся смотреть на эту синюю субстанцию в руках Надежды.









