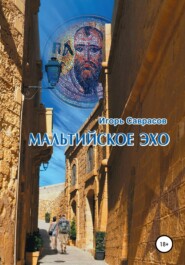По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собирание игры. Книга первая. Таинственный фьорд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дай прочесть!
– Нет! Надо ещё подумать… поработать… Конец притчи страшноватый… А хочется… ха!, хочется перспективы… Эх! – она выпила ещё – А с тобой ночью станцуем! Красиво. Нежно… Так? – она посмотрела как-то жалобно и безнадёжно.
– Обязательно нежно…
В её выразительных глазах бездонная грусть. Бархатные, шёлковые глаза… Наши бархатные, шёлковые блюзы…
Шёлковые грёзы… Суконные зна?мения… Посконные покаяния… «Они же сермяжные, кондовые…». Прощения… Она простила?
Глава 5. Сны и просоночные хляби. Художница.
– Дэвушка, а дэвушка. Вах, красавица! Наташа? Так зовут? – мужчина кавказской национальности с толстыми волосатыми пальцами раскладывал на своём столике фрукты и сладости. И облизывал губы. Тоже толстые, жирные от слюновыделения, от предвкушения сладкой пахлавы и… сладкой «Наташи».
Плацкартный вагон поезда, следующего в Санкт-Петербург. Она едет на первый тур поступать в Академию художеств. Она везёт с собой пять лучших своих живописных работ. Она переживает и думает ещё и о том, что туры продлятся месяц, может больше… А на что жить? Дед дал немного денег… Работать? Кем? Где?
У неё с бабулей какой-то две нижние полки. Верхние – пустые. Азербайджанец (или кто там?) на боковой…
– Нэт, нэ так! – она не хотела общения. Но хотела и пахлаву, и фрукты. Она выросла в Крыму…, на такой вот еде…
– Садысь, дарагая. Покюшаем. – он широким жестом пригласил девушку. Улыбка добрая, радушная.
Таким радушием невежливо пренебречь, неудобно отказаться. Но девушка, особенно имеющая возможность наблюдать азербайджанцев (или как их там) в Крыму (или хоть где), не должна быть столь наивной, чтобы не понимать, что вырваться из «лап» кавказца (как и цыганки) будет трудно. Нэвозможно почти.
– Спасибо. Меня Дашей зовут – она скромно присела напротив «лап», поправив короткую юбочку.
– Алик! Из Баку! Кюшай, дарагая!
Он достал из под столика бутылку коньяка, и тихонько подлил в чай.
– Зачем мне? Я не буду! – возмутилась Даша.
– Шьто ты, дарагая! Настоящий! Пять капель… Пять звёзд!
Алик часто (ну очень часто!) наклонялся под столик, доставая «пять капель». Один-два раза Даша заметила его буквально вываливающийся из орбит вишнёво-багряный маслянистый глаз, когда он под столиком, наливая коньяк, рассматривал её ножки, наливаясь похотью.
Потом он «нечаянно» будто задел их, потом уже смело сжал колено и помял бедро… Потом достал вторую бутылку коньяка… Потом упорно называл её «Натаща», совал под нос толстую пачку денег и уговаривал пойти то в тамбур, то (вон там!) свободное купе, то даже в туалет…
– Ты только трусики заранее сними, Натаща… Я быстро суну, вах-вах… и всё… Денег много! Хватит на год! Учись! Мнэ «давай» и учись, дарагая… Алик не жадный… Денег много.
Пару раз он умудрился усыпить её бдительность широтой перспектив. И даже, обняв в тамбуре (она таки вышла «покурить») прижал к её попке свой кукан.
– Нет! Нет! Ты – куколь! – зашипела Деби.
– Почему? Кто, куколка? Ты – куколка! Дай-ка – он легко размещал в своих огромных ручищах не только грудки девушки, но и её ягодички.
«Нет! Притвориться «мёртвой женщиной»? Унижение на грани проституции? Опять? Нет! Нет! Если бы пальто? Моё пальто!».
– Дай бурку… Или, ну… плащ-палатку эту…, с башлыком… Тогда… – вновь огрызнулась Даша.
– Гдэ я тэбэ возьму? Сейчас… – изо рта, как из топки, вырвался жар.
– Где хочешь, горец! Или ты куколь? Вот же есть башлык! – зло ударила локтем в плечо ему, когда он совсем уже пригнул её и задрал юбочку.
Потом он успокоился. Сказал:
– Я тоже художник! На! Бери! – и отдаёт деньги.
Нет – это разрисованные фантики! Алик ржёт! Надсмехается.
– Как я тебя разрисовал! Это – не смоешь! Не смоешь! Никогда!
Она бежит в туалет. Раздевается. Смотрит в зеркало! Ужас! Она, всё её тело и даже лицо размалёвано разной яркой похабщиной. Пытается смыть. Не получается! Трёт, трёт с мылом – нет! О, Боже!
… Деби просыпается. «Чух-чух», «трах-трах»…
«Нет, это не стук колёс, нет, это не храп… Это кровать,… это в соседней каюте… женские стоны… Две женщины… Да… Им хорошо… До невозможности. Вот… ещё… ещё… ещё… Там Воловьев! Он не один! Это он… их… Кого? «Ух-ах», «чпок-чпок».
Она открыла глаза. Темно. На часах четыре утра. «Ещё бы поспать…» «Нет… не получится»… «Пройдусь на палубу… Там, наверное, ветрено и прохладно?… Что надеть?… Свитер? Пальто? Ах, это пальто! Его! Пусть! Эти, «А-а-а», «О-о-о!» её всё-таки «подзавели». Как заводило это пальто! Где-то она слышала об этом синдроме, этой психиатрической «занозе» (болезни?, навязчивой идее?, рефлексе?): «руки под пальто». Это было прелюдией, заводным ключиком, а то и спусковым крючком к её сладостным томлениям, желаниям. В этом пальто она и летала от блаженства и задыхалась от жаркого головокружения. В этом пальто жил бес любострастия, похоти. И он звал. И он соблазнял. Он был хитроумен и затейлив, умел и силён. Он был и щедр и коварен. Она ненавидела этого беса. Она боялась его. Она… не могла без него. Она любила это пальто. Это был её секрет! Секрет любимый. Хранимый бережно.
Это мамино пальто. Деби берегла его уже более десяти лет, с тех пор, как мама ушла из жизни. Лёгкое, мягкое, всё ещё элегантное. Бежевого цвета. Мама шутила: «цвет бедра испуганной нимфы»! Ворот и рукава были отделаны бархатом табачного цвета. Этот цвет, похожий на табак, зеленовато-коричневый напоминал мамины глаза, лукавые глаза хохлушки-хохотушки. Деборе было странно, что у отца, черноволосого караима, глаза были синими, даже голубыми, как у неё. Но русые волосы от мамы. И её миниатюрность и ладность фигурки.
Ветер на палубе сразу дерзко и властно распахнули её пальто. Своими гибкими, холодными ручищами-струями он, словно осьминог своими щупальцами, облапал, обласкал её всю. Он волной прошёлся по грудям, по пояснице, бесцеремонно прокрадываясь под халатик, под шёлк ночной сорочки. Он обшарил снизу бархат и бёдер, и лобка. Он заставил девушку в неожиданном и радостном спазме желания прикрыть глаза и приоткрыть рот. Она запрокинула голову, одной рукой проводя нежно по отвердевшим соскам, а другую зажав между стиснутых ног. В её чреслах было горячо, там прорастал и распускался огненный цветок.
Деби смогла взять себя в руки (хотя в данном контексте это и звучит иронично и двусмысленно) и застегнула пуговицы пальто. Подошла к перилам. Широко открыла глаза, посмотрела на небо, посмотрела на море. Удивительное безбрежье! Небо начинало светлеть, звёзд уже не было видно и серо-стальная бесконечность горизонта не могла разделить эти две стихии. Море и небо слились в одно, в одном поглощающем соитии они демонстрировали свою мощь и свою власть над сушей. Над этим судёнышком, над этой девушкой, над всем, что не знает, не ведает самоё себя, если и прозревает что-то глубинное, пусть дикое, неизбывное, или пусть чистое-чистое, или гениальное, то – стоп! Это – запретные желания! Над человеком и всей его жизнью, и всем, что он производит и творит есть Мера, есть её Правило, её «Прокрустого ложе»!
«И луны уже почти не видно: Уходит… серым… грустным пятном. Обиженная? Как в моём любимом фильме «Горькая луна». Я его посмотрела как раз тогда… мне было пятнадцать… Когда этот подселенец, этот гад, наш сосед… подселил в меня эту горькую луну… Да! Это заражение… это пальто… эта моя покорность «мёртвой женщины»… Почему!? Ну почему и доколе у меня к нежности и блаженству будет подмешана эта грязь и это постыдство… Не отмыть… Сколот мой кокон личной нравственной гигиены, продырявлены купола мер и правил… Хочу в душ… хочу снять быстрей это пальто! Я лучше выйду сюда в полночь… посмотреть на яркую луну… сверкающие звёзды».
Она уже сворачивала в свой коридорчик, как услышала звук открывающейся каюты. Тихонечко выглянула из-за угла. В приглушённом свете было заметно, как из каюты Воловьева выпархнули две девицы. «Ах, это те, из «эскорт-услуг»… Ясненько! А что это за огромная шишка с красным пятном у него выше лба, на темечке? Ой, господи!» Тут герр распорядитель быстрым движением сунул руки в карманы атласного халата и ловко извлёк оттуда два «цилиндрика» (денежных купюр?), которые уже были нанизаны на указательные пальцы. Он движением факира опустил «цилиндрики» в радушные декольте довольных «услужниц». Их натруженные тельца даже выдохнули из всевозможных отверстий спёртый воздух «отработанного» вознаграждения. Конечно, это были «еврики». Деньги. Те, которые не пахнут.
Девицы убежали, а герр проводник резко повернулся в сторону Деборы. Прошептал:
– Тс! Не смущайтесь, Деби, крошка! Подойди ко мне! – он растянул улыбочку, засовывая руки в карманы.
«Вот ещё! Нет! Этот распутник – что? Хочет тоже сунуть мне деньги? Чтобы я молчала о том, что видела? Или в каюту к себе затащить!» – задрожала внутренне девушка и хотела убежать. Бросила гневно:
– Нет!
Но в этот момент Воловьев оказался прямо перед её носом.
– Я никогда и никого насильно и с дурными намерениями никуда не затаскиваю! И деньги даю за… «горячее и сладкое». За «возвышенное», ха, общение со мной я… вот! – и он достал серёжки и колечко необыкновенной красоты.
Деби не смогла удержаться и протянула обе руки. Камни завораживали и притягивали.
– Носи, милая! Пусть эти безделицы радуют тебя и охраняют. И помогают! – уполномоченный хитровато, но добродушно подмигнул. – Не скажу пока… в чём… в главном. Но… – он с видом доброго, мудрого гнома поднял вверх указательный палец и буквально «прочревовещал»:
– Серьги – лунный камень. Видишь это сияющее серебристо-голубое переливание… Оно, хм, только кажется холодным и неприступным. Оно – магическое! Оно одновременно и космически-притягательное! Видишь – ты ручки протянула. Хи-хи… Не обижайся. – распорядитель посмотрел Деби в глаза проникающим взглядом своих, сейчас похожих на лунный камень глаз. – Луна, деточка, больше не будет для тебя «горькой».
Девушка не успела даже осознать многозначительность слов и таинственность этого чародея, как серёжки уже были у неё в ушах.