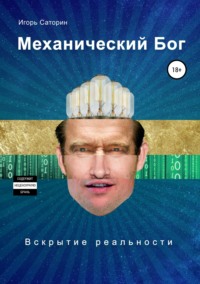Стоимость ЭГО
Идеальная работа, идеальный супруг, качественные друзья, первосортные родители, высококлассные дети, перворазрядные добродетели, непревзойденные таланты, правильное поведение – этот экзамен сдать просто невозможно.
Когда наша жизнь и последствия наших действий откровенно не вписываются в сверхъестественные нормативы идеального «я», нам тут же делается до тошноты дурно, потому что в этот самый момент мы отождествляемся со своим недоброкачественным презренным «я» – с ненавистным переживанием собственной совершенной несостоятельности. Просто, как ни крути, а жизнь всегда отличается от наших заоблачных фантазий об идеальном положении вещей. И никаких других проблем, у нас в этой реальности по сути – нет.
Просто мы очень-очень хотим слиться со своим идеальным «я». Мы верим, что эта сделка гарантирует наш успех и спасение от всех невзгод. И поэтому, когда кто-то пробует нас отрезвить, мы начинаем сопротивляться, порой, настолько отчаянно и даже агрессивно, словно нас пытаются лишить спасительного билета в рай. На деле же мы лишаемся только иллюзорной веры в такой билет. Но поначалу по неопытности «приманка» выглядит настолько чарующе, что отказаться от этого дьявольского лохотрона просто невозможно.
Образ идеального «я» может меняться. Вчера мы представляли себя красивыми и богатыми, сегодня – великими просветленными – обладателями сверхспособностей, завтра это может быть какой-нибудь чуть более реальный – продвинутый профессионал, мастер своего дела. Все это – лишь гардероб идеального «я». Смена деятельности, порой, ничего не решает – все та же ментальная мастурбация; просто раньше для возбуждения сигнальной системы использовался гламур, а теперь – бизнес и духовность.
Даже путь по становлению собой в какой-то степени почти неизбежно диктуется все той же потребностью – слиться с идеальным «я». Иллюзии утончаются, и на следующем этапе идеальное «я» может обрядиться в так называемое настоящее, реальное «я», свободное от невротичных заскоков – в общем-то, этим оно и идеально.
Презренному «я» в такой ситуации приписывается наша как бы «негодная» потребность в самоутверждении. И тогда, замечая за собой признаки чувства собственной важности, мы проделываем очередной изворотливый трюк, и снова пускаемся в самообман – начинаем себя грызть и ненавидеть за свои «презренные» потребности в понтах. Идеальное «я» от таких маневров только растет, накачивается красивыми фантазиями о качествах здоровой, свободной от понтов личности. А по факту, именно эту свою свободу от понтов, личность как раз для того и генерирует – чтобы понтоваться наиболее эффективным методом – уверенно и реалистично, в образе психически здоровой, близкой к просветлению особы.
Хитросплетения ума – многогранны. Каждый шаг к свободе – с оглядкой на все возможные способы сохранить максимум иллюзий о собственном величии. Мы просто не можем иначе! Мы стремимся к лучшему. А лучшее мы ожидаем от будущего. Но живем-то мы сейчас. И в этом «сейчас» у нас кроме лживых ожиданий – нет иных представлений о вероятном будущем.
По тем же принципам работает влюбленность – мы проецируем черты идеального «я» на объект страсти, и создаем драматическую привязанность. Без любимых – мы презренные ничтожества, а с ними – ощущаем торжество, граничащее с опустошающим пониманием, что где-то в самом начале этого спектакля, мы себя крепко одурачили.
Психолог Ирвин Ялом считает, что мы верим в собственную необыкновенность и конечное спасение, чтобы закрыться от осознания собственной смертности. То есть, таким образом мы прячемся от правды и начинаем развивать иллюзию.
Феномен идеального «я» как сделку с дьяволом рассматривает психолог Карен Хорни – ее представления о неврозе легли в основу этой главы.
В погоне за безграничным величием, человек «продает» свою душу, то есть, предает себя и отправляется в ад бесконечных терзаний и неистощимого презрения к себе.
Помимо нарастающих терзаний, наши нездоровые запросы к судьбе, лишают побуждений действовать своими силами. Свои силы при таком раскладе попросту истощаются, а способность принимать решения и следовать им – постепенно атрофируется; такова цена сделки. В итоге мы злимся на судьбу, когда она не выполняет свои обязательства по контракту, который мы с ней в своем воображении заключили.
Мы верим в сделку с дьяволом, как дети верят в волшебство. Выигрыш от такого контракта – минимальный и совершенно непредсказуемый. Реальный шанс осуществить что-либо – взять ответственность за свою жизнь на себя. А пассивные требования исключительных привилегий ничего ценного не дают, потому что это – самые что ни на есть пустые невротичные иллюзии.
Мало понимать все это умом. Даже осознавая непоследовательность своих умозаключений, на бессознательном уровне невротик продолжает полагать, что он сам – не такой как все – особенный человек, для которого провидение все-таки обязано сделать уникальное исключение; надо лишь продолжать и дальше убежденно верить. А пока мечты не сбываются, невротик полагает, что он просто пока недостаточно упорно настаивает на своих притязаниях, или его вера в чудо собственной уникальности – еще недостаточно крепка.
Иногда все же невротичные требования к судьбе могут сопровождаться номинальными действиями, и приводить к какому-то результату. И тогда несчастный невротик полагает, что его запросы по волшебству, вероятно, силой его визуализации, сбываются! И он укрепляется в своей вере в награждающую «справедливость», потому что, как бы видит, что судьба, наконец, воздает ему по заслугам.
При таком раскладе подавляющая часть личной силы уходит на пустые надежды, воображаемые усилия, мольбы, стенания, истеричную радость – в общем, на болезненные фантазии, где невротик, словно дитя, убежден, будто общается с какой-то высшей инстанцией, ответственной за выгодную для него справедливость. Причем на уровне поверхностного ума он может быть сухим скептиком, а в душе, в тайне от всех, и даже где-то от себя – скрывать свои простодушные притязания к судьбе.
Невротик без всяких оснований ждет от жизни чуда, потому что именно так он воплощает свое идеальное «я». Ведь все наивысшие привилегии, как он верит, – это реальные права его идеального «я». Верой в свои требования к судьбе, он создает иллюзорную реальность идеального «я», где он – выше законов жизни, которым подчиняются лишь простые смертные.
А когда невротик видит, что его запросы не воздаются, и законы жизни распространяются и на его персону, в этот момент, казалось бы, уже нельзя продолжать и дальше себя дурачить. Но и здесь изворотливое самолюбие находит лазейку. В такой ситуации невротик верит, что его не сбывающиеся желания доказывают лишь одно – жизнь несправедлива! И надо просто продолжать настаивать на своих идиотских требованиях к судьбе. Ведь эти требования – это «гарантия» грядущего успеха!
А когда эту «гарантию» подвергают сомнениям, невротик злится. Он не хочет замечать ущербность своего напряженного самообмана. Он может догадываться, что дурачит себя, но тем не менее, упоенно продолжает следовать «сделке», потому что вред от нее – ничего не значащая мелочь в сравнении с будущей славой!
Иногда сделка с дьяволом разрастается до государственных масштабов, где «эгрегор» страны позиционирует мечту для миллионов людей. Причем неважно – американская это мечта, или мечта советского гражданина, ее образы – одинаково лживы, и в равной степени раскачивают двойственность душевного провала и успеха.
Когда невротик продолжает верить в чудо, которое ему задолжала судьба, он пренебрегает реальными возможностями, приводит свои дела в запущение, и теряет интерес к реальной жизни. А жизнь в силу такого наплевательского отношения действительно начинает напоминать мрачное болото, в котором несчастный фантазер продолжает лелеять свои сказочные надежды.
Когда невротик ошибается, он, чтобы сохранить ощущение своей непогрешимости, сваливает ответственность за свои ошибки на внешние обстоятельства, – дескать, он то – идеал, а мир – несправедлив и несовершенен.
Когда невротик начинает понимать, что с ним происходит, то по инерции продолжает цепляться за идеальное «я». И попытка излечиться от невроза может стать проекцией устремления – прийти к совершенству таким, как бы истинным и правильным способом. При таком раскладе невротика интересует не столько реальное исцеление, сколько возможность посчитать себя исцеленным – и потому продвинутым. И в таком ключе, он то и дело будет имитировать образ здоровой личности в ущерб реальному психическому здоровью.
Именно так адепты всевозможных гуру рано или поздно и сами начинают примерять на себя роль просветленного учителя. Ведь именно этого изначально они и хотели. А реальная истина искателей славы интересует постольку, поскольку ее концепция является удобнейшим средством – потешить самолюбие – осуществить на практике сделку с дьяволом. Даже путь становления собой в какой-то степени почти неизбежно будет продиктован все той же потребностью – слиться с идеальным «я».
Сделка с дьяволом может принести славу. Но напряжение никуда не уйдет. Идеальное «я» – бездонная пропасть, пределом которой становится тирания в мировых масштабах, как это случалось с некоторыми правителями государств.
Казалось бы, если человек стремится к идеалу, то именно такое устремление должно было бы привести к чему-то светлому и благому. Однако на деле происходит обратное. Самые невинные эмоции и качества, которые не вписываются в идеальный образ, с раннего детства силком без разбора подавляются в бессознательное, где скапливаясь годами, дорастают до размеров исполинского чудовища. И тогда сквозь маску милого человека, ко всеобщему удивлению, вдруг, начинает выглядывать презрительное страшилище, обладателю которого потом делается непереносимо стыдно за себя. И чтобы избежать этого стыда, человек блокирует свое нутро с удвоенной силой, и создает в каналах течения своей жизненной энергии «кармические узлы» – непробиваемые блоки и заторы.
Мораль и нравственность побуждают нас к совершенно аморальной и безнравственной лжи. Подделывая себя под рамки красивой морали, мы только прикидываемся хорошими людьми, а на деле себя настоящих мы совсем не знаем. Чем сильней устремление к идеальному «я», тем больше в жизни искусственного, когда все действия диктуются ложными идеалами, а не реальными чувствами. И если человек не способен следовать таким идеалам, он начинает себя презирать – отождествляясь с презренным «я». И ведь каждый знает – быть идеальным невозможно, но все равно – очень-очень хочется!
Мы страдаем не столько от проблем, сколько от ощущения бессилия, от ощущения своей никчемности, просто потому, что не можем решить все свои проблемы сразу, не совершая унизительных для идеального «я» просчетов и ошибок. Поэтому мы не хотим решать свои проблемы, а хотим халявного совершенства. В итоге нам проще закрыться от жизни, и наслаждаться видимостью совершенства.
Иными словами, нас на самом деле беспокоят не реальные проблемы, а качество иллюзии, что с нами все – ОК, степень реалистичности нашего раздутого на пустом месте совершенства. Поэтому мы стараемся не столько решать проблемы, сколько умело пудрить друг другу мозги, изображая из себя продвинутых ребят.
Мы с дрожью в руках вцепляемся в свои попугайские маски, и смотрим друг на друга, и видим неловкость, замечаем дрожь голоса, легкий румянец на щеках, и где–то глубоко подспудно пониманием – все мы одинаковые.
Следуя за рабскими рамками идеального «я», мы начинаем себя ненавидеть, и в этой ненависти совершаем над собой насилие в попытках стать пределом собственных мечтаний. Презренное «я» становится жестоким погонщиком, подгоняющим наше нутро к невозможному.
Невроз рушится, когда мы проживаем всей душой, насколько наши ожидания и требования к судьбе необоснованны и неадекватны. Судьба нам ничего не должна. Долг людей и долг жизни перед нами – это товар нашей невротичной сделки с собою…
Здесь есть только один выход – просто наблюдать за тем, как все это происходит. И главное – не ждать от себя каких-то «великих» результатов, потому что с большой вероятностью именно эти ожидания и продиктованы устремлением к идеальному «я», и приведут к разочарованию.
В конечном итоге остается лишь принять себя со всеми потрохами – со всеми персонами и тенями, смириться и позволить себе быть именно собою со всеми своими качествами здесь и сейчас в этот самый миг, от которого мы так старательно бежим к нашим бесчисленным целям.
Просветление – это брэнд
Наверное, главное отличие науки от религии – это здоровый скептицизм. Истина скептика – информация профильтрованная дотошным честным сомнением. Никаких догм. Чистое знание. На его основе строятся научные теории.
«Истиной» же духовного искателя может стать буквально, что угодно. Чем фантазия фантастичней, тем интересней в нее верить. Эдакое «волшебство» для взрослых, где место Гарри Поттера занимает Карлос Кастанеда.
Дров в огонь подбрасывают проповедники, неистово рекламирующие неизвестное и непознаваемое. Побуждают стремиться к Богу, изображают его мистическим гарантом запредельного благополучия. Но ни увидеть, ни потрогать реального Всевышнего нельзя. В итоге мечтой искателей становится миф.
В Бога приходится верить как получается. Сотни религий и учений приравнивают слепую веру к знанию. Каждое на свой лад. И считают заблудшими всех прочих. Поэтому Бога представляют настолько по-разному…
На религию и эзотерику часто навешивают ярлык «бред», и дальше не заглядывают. Дескать, все ясно… «То» – для чудиков, наивных лопухов и клиентов психиатров. Понять такое отношение несложно. Духовные искатели себя дискредитируют сами, никто не помогает.
Иногда, покупая престижную вещь, платишь не столько за качество, сколько за марку – то есть за имидж качества. Например, телефоны Vertu, или автомобили Rolls-Royce.
А в духовной среде самые раскрученные бренды – Бог и Просветление. Их не дают открыто вкусить, а только пиарят. Тысячелетиями.
К этому делу я и сам наравне с другими фанатиками приложил руку. Теперь вношу уточнения…
Про Бога наслышаны все с давних времен. Просветление – тоже древний бренд, но только сегодня его популярность пришла в массы. В эзотерической среде – это самый желанный фетиш, эдакий духовный успех сродни олигархии в социуме. Быть просветленным почетно.
Можно называть себя садовником, если занимаешься садом, или рыбаком, если рыбачишь. А кому же тогда называться просветленным?
Я не стану упоминать классические и современные критерии просветленности. Они все равно прозвучат так же абстрактно, как описание Бога в любой религии. Потрогать и проверить чужое просветление невозможно. То есть представиться просветленным может, кто угодно – и полезно это понимать во избежание заблуждений.
Все было бы проще, кабы к титулу этому относились нейтрально. Ну, просветлел кто-то, всякое бывает… Но просветление для большинства увлеченных темой – сродни великому геройству, словно человек стал крутым запредельно.
Зачем, вообще, о просветлении говорят? Если знаешь, как облегчиться от душевных терзаний, почему бы не акцентироваться на этом?
А все дело в том, что просветление для большинства искателей – не реальный духовный опыт, а очередной идеал для сбегания из настоящего и халявный способ причащения к духовной элите.
Я вовсе не говорю, что Бога и просветления нет. Лишь побуждаю вычислять иллюзии, если, конечно, интересует правда. А самоутверждение – тоже вполне естественно. С кем не бывает.
Если уж так увлекают недоказуемые мистические концепции, допустите, что высшие силы не хотят, чтобы мы удовлетворялись одними фантазиями о них – даже самыми возвышенными.
У меня была клиентка, уверенная, будто я провожу над ней какие-то магические манипуляции интимного характера. Разубедить было невозможно. Ее крепкая некритичная вера кругом находила доказательства этой фантазии. А ведь мы даже не виделись.
Наша человеческая иррациональность побуждает объяснять неизвестное происками потустороннего.
Возможно, все дело в неутоленном любопытстве. Кто мы? Откуда? Зачем все это? Слишком много важных вопросов скрывает завеса тайны.
Религии дают недоказуемые ответы. Побуждают в них просто верить. Нарекают слепую веру праведной, а честные сомнения – грешными.
Представьте ученого, жаждущего познать, что было до Большого взрыва, породившего вселенную. Но вместо честного исследования, он принимается фантазировать и прислушиваться к знакам… На выходе – очередная религия…
Духовность – не какой-то сплошной самообман. Но очень уж часто ей нарекают свои фантазии.
В противоположную крайность съезжает наука, когда рассматривает мистический опыт через окуляр психиатрии и констатирует одни отклонения. Такой подход – так же груб, как и некритичная вера в возвышенные галлюцинации домашнего изготовления.
Пытаясь прикоснуться к «идолам» йоги и буддизма, я и сам просидел в медитации несколько тысяч часов. И когда что-то начало получаться, то был несказанно удивлен некоторым открытиям.
Пока я простодушно верил в тонкие материи, то даже не подозревал, как сильно в глубине души в них сомневался. Когда удалось к ним прикоснуться на практике, то подивился, как много бреда вокруг них действительно закручено.
Реально есть то, что можно назвать чакрами. Они реально работают примерно так, как это описывают классические источники. Реально есть только момент «сейчас», а будущее и прошлое – мысли. Реально осознать себя пространством бытия, о котором так упоенно рассказывают мастера.
Но эти явления настолько труднодоступны и одновременно раскручены, что эта прогалина между неизвестным и желанным образует чудовищных объемов плацдарм для воображения.
Желанное «не желает» оставаться неизвестным. Ум угадывает в нем вожделенные черты, очеловечивает, приписывает все лучшие очертания и вкусы из прожитой жизни. В общем, энергично заполняет информационные пробелы собственным творчеством.
Искателям рассказывают, что высшее познается душой. Они обращают внимание во внутрь, и обнаруживают лик своего бессознательного, который принимают за потусторонний.
Одна из самых сложных и важных задач на пути самопознания – уметь отличать фантазии от правды, ожидаемое от неизвестного.
Сама суть и духовного пути, и современной психологии – в подлинности. Ты признаешь настоящее. Перестаешь витать в мороке будущих и прошлых событий. Начинаешь удовлетворяться реальным, одновременно растешь и раскрываешь свой потенциал без искусственных образцов для подражания. Больше ни себе, ни жизни ничего не указываешь, а чутко прислушиваешься к ее песне… и пробуешь подпевать в унисон.
Весь курьез в том, что духовный опыт действительно удивителен. Скажу больше: я и близко не подозревал, как сильно душа умеет удивляться. Если представить, что интерес – первая стадия, удивление – вторая, а изумление – третья, то есть еще несколько стадий для которых слов просто не придумали.
Самоутверждение
Для измерения и оценки внешней среды можно использовать конкретные девайсы: линейки, весы, термометры, диагностирующие приборы. На этом уровне любой спор легко разрешается точными данными из поисковиков. Но как проверить правоту, когда дело касается человеческих поступков и качеств? Как отмерить и оценить свою индивидуальность? В качестве такого мерила для самооценки мы бессознательно используем чужое мнение. Прибегать к этому инструменту мы обучились в раннем детстве.
Впервые мы узнаем о себе и своих качествах от родителей. Мамы, папы, родственники и другие взрослые оценивали нас, обвешивая наше новорожденное эго каскадом качественных прилагательных: хороший, плохой, умный, красивый, капризный, послушный. Затем мы закрепляем эту зависимость от внешнего мнения в школе оценками учителей: отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо…
Мы привыкли быть объектом оценки с возраста, о котором ничего не помним. Слова влияют на нас. Слово ранит и слово лечит. Это происходит бессознательно по глубоко укоренившейся в раннем возрасте привычке.
Поэтому, чтобы сохранить и повысить самооценку, мы все так рьяно ищем внешнего согласия, пытаемся остаться в чужих глазах правыми.
Что означает такая правота? По логике вещей прав тот, на чьей стороне правда. Но правда, как говорится, у всех своя. И потому правота – это по сути такая агрессивная позиция, которая служит вовсе не правде, а обороне самооценки. Например, когда претендуют на эксклюзивное обладание высокой истиной, чтобы подчеркнуть свое превосходство над окружающими.
Желать быть правым – естественно для человека, зависящего от мнения окружающих. Ведь куда проще вступить в спор и обесценить чужое мнение, чем разобраться со своей зависимостью от него.
Зависящий от чужого мнения человек, всю жизнь обслуживает концепции, на которых держится его важность. Какими бы бредовыми те ни были. Быть правым – это жажда ума оставаться нетронутым, сохранять и прокручивать одни и те же идеи, на которых удерживается самооценка. Такое самоутверждение – это избегание развития в пользу сохранения самодовольных иллюзий. Так формируется нерешительность. Проще, вообще, ничего не делать и жить пассивно, чем тревожить свое беспочвенно разбухшее эго поверкой реалиями.
Сладкое чувство собственной правоты – это самоутверждение в чистом виде. Подтверждение нашей правоты – это печать качества с надписью «одобрено» на «упаковке» нашего ума. Без такой печати ум рисует себе смертельные угрозы. Желание быть правым – это жажда жизни, проявленная через призму ума. Мы верим в благополучие и успех, когда чувствуем собственную важность.
Жажда славы – это предвкушение максимально повышенной самооценки, когда ум утверждается в тех самодовольных концепциях, которыми сумел себя зачаровать.
Когда мы приписываем важность другому человеку, он становится нашим авторитетом. Так у нашей самооценки появляется внешний целевой маячок. Это – все та же старая игра самолюбия, попытка укрепиться в красивых искусственно раскрученных образах.
А если уму противоречат, не признают его уникальность, приравнивают к «серой массе» обывателей и «тварей дрожащих», то самооценка норовит обвалиться.
Полезно понимать, куда ведут покушения на чужую важность, какой бы завышенной она ни была. Если задели человека за живое и унизили, не удивляйтесь ответной ненависти. Никто не говорит «спасибо» за такую правду.
Поэтому бывает так сложно переубедить оппонента в споре, даже если его заблуждения очевидны. Наши «благие намерения» и защита «истины» в чужих глазах запросто становятся «вражеским» вторжением на личную территорию. В этом русле единственный реальный враг – это иллюзии, оборону которых мы удерживаем в битве с собственным «я».
Мы пытаемся казаться лучше, чтобы нас любили и принимали. В таком русле отстаивание правоты – это защита иллюзий, из которых склеен наш рекламный образ. И если мы с этим иллюзорным образом отождествляемся, истина становится злейшим врагом.
Неуверенность в себе – это сомнение в собственном образе, подспудный страх, что наши искусственные представления о себе не выдержат контакта с реальным миром.
Неуверенность в себе и в собственных истинах приводит к переживаниям за опоры нашей ложной личности. Когда неуверенный в себе человек спорит, он не ищет истину, а пытается убедить оппонента в жизнеспособности собственных иллюзий. Но если копнуть глубже, на самом деле убедить в этом он пытается себя. Так мы себя обманываем, рисуем самомнение на основе приукрашенных образов, поднимающих самооценку, даже если они и близко не соответствует реальности.
Когда представления о себе реалистичны, самооценка становится устойчивой и переживания о том, какой ты есть сокращаются. Когда человек знает себя, ему нестрашно проверять на прочность собственные убеждения. Если устремление к истине действительно преобладает над самоутверждением, тогда избавление от иллюзий проходит гладко, а любой спор и полемика становятся чем-то вроде ненавязчивой игры.
Главная угроза психическому здоровью – это укрепление собственной значимости обманом. Реальность спонтанно вскрывает вранье, а человек мучается от стрессов. Такие сомнения в себе – главная причина колеблющейся самооценки.
Осознание неправоты в теме, где успел накрутить себе избыточной важности приносит закономерное унижение. Мы способны признавать болезненную правду, когда дальнейшее отстаивание правоты чревато еще большим ущербом для психики.
Человек, усомнившийся в нашей важности, может восприниматься врагом, угрожающим нашему авторитету. Такой человек мог просто случайно затронуть наши уже имеющиеся сомнения в себе. И когда эти сомнения всплывают на поверхность, начинается ломка. Мы можем не понимать, что именно происходит, и проецировать событие во вне, приписывать боль от колебаний самооценки унизительному давлению этого внешнего «врага».
Дальнейшее общение с таким человеком будет наполнено пристрастными искажениями, ведь «врага» хочется победить, восстановив «справедливость». Реальный объект обороны, конечно, – не справедливость, а самооценка.