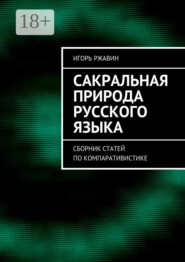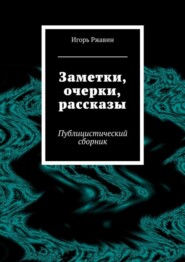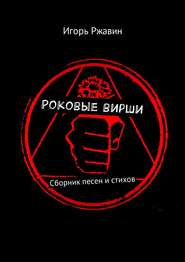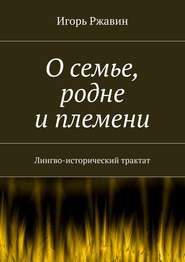По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Язык Вселенной. Лингво-историческое дознание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну, и наконец то, что объединяет, фактически все языки – это обращение от первого лица и коллективного Я. Здесь тоже не обошлось без того самого магического действа, а точнее символической манипуляции, способствовавшей появлению определения, понятного, практически, всем с малых лет, и без перевода. Ведь, когда каждый из нас произносит «меня» или «мне», рука инстинктивно приближается к груди, и совершает движение, имитирующее вминание в себя, либо манящее к себе. Вот, например, как слово меня звучит на разных языках:
английский me [mi: (полная форма); mi (редуцированная форма)], myself; казахский менi? • мениьнъ • менiнъ; литовский mane, manes; немецкий mich; нидерландский mij; польский mnie; хинди mujhe; чешский me; шведский mig; эсперанто min; кимрский myfi, mi, minnau; гэльский mise, бретонский me; роуськъ мене, мя; санскрит ме; таджикский ман; тюркские men.
Личные местоимения мне тоже не сильно разнятся между собой:
казахский ма?ан • магъан; литовский man; нидерландский me, mij; чешский mi; роуськъ мън?, ми; и так далее.
Слова мой, моя, моё просто «обязывают» руки совершать мнущее движение:
азербайджанский m?nim • м?ним • m?nim; английский my [mai]; mine [main]; казахский менiкi • мениькиь; латинский meus, mea, meum; латышский mans; литовский manas, mani?kis, mano; норвежский min; португальский meu; праиндоевропейский meоs; арийский mеne; санскрит mamakа; татарский минем; узбекский meniki, mening; украинский мiй; финский minun; хинди meraa; чешский mе; шведский min; эсперанто mia; эстонский mees, minu, omaksed.
А вот следующие формы того же значения «мой, моя, моё»убедительнейшим образом встают на защиту нашей теории о едином происхождении всех представленных здесь слов от исходного действа мять, а, соответственно, и от, производного им, изначального понятия иметь: армянский ?? • im – мой, моя, моё; венгерский enyеm – мой, моя, моё; курдский ?min – мой, моя, моё.
И коль уж мы заговорили о личных местоимениях, то имеет смысл затронуть их вариации от первого лица: целинский м?ну – я; финский min?, иранские наречия m?n • м?н • m?n; на хинди mai (me) в точности дублирует древнерусское май – имей, умей, моги, и английские my [mai] – я, как и may [me?] – мочь, возможно, сомнение; санскритское ahаm, сравните с английским I’m [a?m] = 1 лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения глагола be = I am —я существую, я живу, я нахожусь в определенном состоянии, я являюсь; то есть буквально я есмь, а ещё точнее 1-е л. ед. ч. настоящего времени гл. be – am [?m], [?m, m], которое официально, якобы «не переводится», хотя на самом деле по-русски значит и звучит ровно также – ем, емлю, или целиком Аз есмь – я есть = I am [a? ?m]. Старославянское азъ – я, состоит в прямом арийском родстве с армянским ?? • es; прусским as; жемайтским a?; латгальским es, as, что наводит на мысль об истинном значении русского я – явный, естественный; причём, созвучное английское as [?z], [?z, z] – как, в роуськъм варианте аки (окы, яко), сквозь общеславянское jak – как, выводит нас на македонское jас – я, в качестве самоидентификации, или зеркального отображения истинного Его – в смысле Прародителя, в латинской огласовке ego —я; в шведской – jag; нидерландской – ik; норвежской – jeg; португальской – eu. Сравните венгерское os – прародитель, с древнескандинавским аss (??ss, аs) – в германо-скандинавской мифологии высшие боги. Верховным богом и вождём асов был Один. Не потому-ли на фарси числительное один звучит также, как и славянские вариации понятий «как» и «я», а именно – як? Но, поскольку, русское ять идентично глаголу имать по смыслу, и родственно по происхождению, то и в данном случае мы видим абсолютное фоносемантическое соответствие первоначального значения «преЕМственность» союзам в индоевропейских языках, на примере бретонского e-giz – как, и греческого ???, ego – я, а также: кимрского megis – как, гэльского amhail – как, финского miten – как, таджикского мисл – как, и особенно венгерского miutаn, mint, midon, mennyire – как, что не может не ассоциироваться с отМЕНной паМЯТью, отпечатывающей события, словно вМЯТинами на МОНете.
Подытожим наш пошаговый метод исследования глагола иметь. Что мы обнаруживаем в одном только ЁМком понятии? С одной стороны – постоянный отзвук в разных, родственных русскому, и не очень, языках, как то: латышский apjoms – объём, литовский apimtis – объём, где чётко просматривается явная приставка ap-, идентичная русской об-, предваряющая оба корня: -jom- и -imt-, «подпевающих» своим русским собратьям им и ём, которые эхом отдаются в северо-германских значениях «объём»: нидерландский omvang, норвежский omfang, шведский omf?ng (ср. с др.-греч. ????????А?Мфора, от amphi – с обеих сторон, то есть «в обнимку», и phero – несу, то есть «пру»), английский dimension [d??men?n] – объём, где dis- это приставка, а -men- корень, в значении meaning [?mi?n?n] – имеющий намерение, многозначительный замысел, мысль, то есть, попросту, мнение; с другой стороны – бесчисленное множество ветвей, причём, как в русском, так и иностранных языках, которые приобретают смысл, уже совершенно далёкий от матричного значенияиметь. Другими словами, происходит смещение смысла. При этом, корень остаётся незыблемым, и произношение мало отличается от оригинала, вспомните однокоренную пару: исходный глагол ПО/МЯТЬ – и его производное существительное со смещённым смыслом ПА/МЯТЬ, от изначального действа МНУ – МНЮ. Это явление можно сравнить с разными формами, скоростями и характерами потоков реки в разных её отрезках, где течёт одна и та же вода: приверх, ухвостье, исток, устье, порог, межень, воронка, пойма, взморье, рукав, излучина, лука, яр, урез, старица, дон, стремнина, и тому подобное. Так же и в родственных языках, вышедших из единого истока: какой-то язык остался верен традициям, так сказать «пристал к берегу», и мало чем отличается от архаических форм, а какой-то стремительно умчался вперёд «вниз по течению», изменившись до неузнаваемости. Но это совершенно не значит, что один лучше другого – каждому уготована своя историческая судьба. Плохо лишь то, что когда представители какого-либо этноса, в погоне за сомнительными ценностями, перестают быть носителями своего родного языка, то сознательно или подневольно, они укорачивают свой век, эпоху, историю, по-сути, рубят свои корни, и становятся безродными. Что же касается процессов смещения смыслов в одном, отдельно взятом языке, то здесь появляется вероятность искажения истинных значений слов, которые, в конце концов, приводят к их неминуемому забвению и безвозвратной потере огромного запаса речевой культуры, подобно высохшему речному руслу. Недаром абсолютно разные, на первый взгляд, понятия РЕЧной и РЕЧевой имеют один общий корень.
Глава II. Дробление корня
Так почему же все вышеозначенные, достаточно отдалённые друг от друга, понятия, от исходного слова иметь, так привязаны своими корнями к общим устойчивым согласным, в данном случае к букве (звуку) М? Давайте снова вернёмся к изначальной древней форме имать, и её вариации ять, которой в официальных источниках отведена какая-то странная, опосредованная до относительности, связь, с размытой формулировкой «соответствующий глагол». Мы уже вычислили с вами, что никакой это не «соответствующий», а один и тот же глагол, имеющий различие с первым вариантом, лишь в силу своей трансформации – редукции начальной согласной. А вот какой согласной – зависит от контекста речи. Это может быть и М, в случае образного мять, если имеется в виду имать – брать, хватать, трогать, по аналогии с диалектным мацать – тоже брать, хватать, трогать, а может быть и Н, в случае образного нять, если имеется в виду внять – вобрать, впитать, втянуть, по аналогии с диалектным начить – тоже вобрать, впитать, втянуть.
Итак, мы имеем два ракурса одного действа: Мять – как образное проявление условной «Мощи и Мягкости», и Нять – как образное проявление условной «Ноши и Низости». То есть, получается, что начальная буква (звук), в обеих позициях является ничем иным, как ядром корня, обрастающим вариативными связями с другими согласными, как посредством модулируемых гласных, так и напрямую, создавая всевозможные корневые матрицы, всегда имеющие один и тот же исходный смысл. Например, как бы ни модулировалась гласная в корне МЯТ – МОТ – МУТ – МЕТ – МАТ – МЫТ – МИТ – МЁТ, изначальный смысл образованного им слова всегда будет наделён обще-обусловленным значением конкретного действа, в данном случае «мятущимся». Это многим позже оно получило переносный смысл, но на заре развития языка – простое движение. А это значит, что в нашем языке существуют некие, достаточно устойчивые корневые матрицы, вроде той, что фигурирует в каждом из приведённых корней, а именно М-Т. Исходя из этого, можно допустить, что постоянно меняющиеся гласные буквы (звуки) в словообразующих корнях не являются важными носителями смысловой нагрузки, и выполняют роль, скорее, «нотных» связок, для простого различения созвучных слов. Несущественная роль этих нотных связок легко доказуема их отсутствием во множестве словоформ, например, в такой вариации, как: разМИНает – М […] Нёт, или, как бы «небрежным», а то и «неправильным» произношением в обыденной речи: вместо сМЕТать говорим сМИТать; вместо МОТать говорим МАТать, иногда МЭТать, или вообще МЫТать, и так далее. И в этом нет ничего странного, ведь только гласные буквы могут, в отличие от согласных, произноситься непрерывно, что называется «на одном дыхании»: А-Е-Ё-И-Й-О-У-Ы-Э-Ю-Я-А-Е-Ё-И-Й-О-У-Ы-Э-Ю, и так по кругу. Меняется лишь регистр звучания, посредством артикуляции – губы увеличивают, либо уменьшают поток выдыхаемого воздуха, да периодически меняется положение языка в полости рта, отсюда и такая разноголосица в исполнении одного и того же слова, причём, не только разными людьми, но и в речи одного собеседника.
Есть ещё одна немаловажная «улика» в пользу фактора произвольного произношения гласных, а заодно и самое простое тому объяснение. В традициях русского языка присутствует такой элемент, как дублирование слова, в значении «очень»: одно произносится протяжно, другое – кратко. Например, «далеко-о-о далеко» выражает большое расстояние; «давны-ы-ым давно» подчёркивает продолжительность прошедшего; «бе-е-елый белый» передаёт степень контрастности оттенка. Это говорит о том, что именно гласные звуки (буквы) создают в нашем воображении своеобразную проекцию предмета-явления-действа, некий пространственно-временной объём, а также отличительные свойства того или иного объекта. Подчёркиваю, отличительные свойства – в этом и заключается главная функция гласных звуков (букв) в нашей речи, в отличии от согласных, которые несут в себе основную информацию о самой сути предмета-явления-действа.
Помимо заглавной согласной буквы, а также связующей модулируемой гласной, в корне, обычно присутствует и вспомогательная согласная буква, которая нередко варьируется: маХать – маШет, муКа – муЧной, мСтит – мЩение, и прочее, и прочее. Как видите, данные словообразования уже выходят из категории производных от корневой матрицы М-Т, образуя совершенно самостоятельные дочерние корневые матрицы: М-Х, М-Ш, М-К, М-Ч, М-С, М-Щ. Но при этом, прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно, всё равно соотносятся с исходным смыслом «мять», в них вложенным. Более того, являясь на начальной стадии вспомогательной согласной, как буква М в слове заНИМать, с корневым ядром Н, от начального НЯТЬ, сама становится в дальнейшем способной трансформироваться в корневое ядро М, в градации сНИМать – ИМать – наМАТывать – МАТёрый. Назовём условно этот процесс «корневая надстройка».
Итак, всё то, свидетелем чего вы сами стали, прочитав эти строки, никак не клеится с общепринятой догмой о делении слова, исключительно на приставку, корень, суффикс и окончание, к чему каждый из нас уже давно привык, ещё со школьной парты. Как бы это ни выглядело «мистично», но придётся признать совершенно очевидный факт дробления самого корня на: 1) корневое ядро – начальная согласная, 2) метрическую нотную (или пространственно-временную) связку – промежуточная гласная, и 3) вспомогательную векторную согласную – конечная буква корня, базирующихся, в свою очередь, на 4) корневой матрице из двух согласных, либо образующих её, а иногда и 5) корневую надстройку.
Насколько научны подобные определения? Скорее всего, сами учёные поспешат их отнести к «антинаучной ереси». Тогда возникает масса закономерных вопросов. Что же получается, наш Русский язык (просьба не путать с одноимённым учебником!) НЕНАУЧНЫЙ? Ведь все примеры были приведены именно из него! Может всё дело в терминологии? Неужели общепринятая официальная терминология – есть показатель «научности» изложения мысли? На мой взгляд, всякая терминология – абсолютная условность, и в большинстве случаев, она не столько научная, сколько иностранная, нерусская. Но даже в терминологически выверенном «научном» варианте, ничего подобного нашей теории, в официальных анналах, лично мною обнаружено не было. И тут возникает главный риторический вопрос: ПОЧЕМУ? Почему сии предельно наглядные вещи умалчиваются филологической наукой, а конкретно, современной этимологией? У каждого найдётся свой ответ. По моему же глубокому убеждению – потому что «не положено». Другого объяснения нет. Ведь, в обратном случае, придётся пересматривать всю сложившуюся систему научных взглядов о Русском языке. Представляете, ЧТО придётся пережить академической элите, светилам отечественной филологии, если их фундаментальные положения изменятся в корне? К примеру, до сей поры считающиеся безмолвными, лишёнными всякого значения, смысла, прочтения и перевода, русские приставки, суффиксы и окончания, вдруг предстанут перед нами в новом свете, как полноценные, самостоятельные понятия, наделённые… собственными корнями! Об этом и пойдёт речь в следующей главе.
Глава III. Осмысление частей слова
Части слова в учебниках по русскому языку называют «по-научному» морфемами. Кому как, а мне это слово не особо нравится, ибо ассоциируется… со смертью. И вот почему. Во-первых, в справочниках сказано, что оно заимствованно из французского morph?me, которое, в свою очередь, происходит от греческого morphe – форма, но ведь и слово форма тоже нерусское! Заметьте, иностранное слово нам переводят иностранным словом, что в наше время происходит всё чаще, и считается в порядке вещей. Во-вторых, единородное французское Моrрhее – аллегорическое обозначение сна, как книжное заимствование из латинского Моrрhеus – имя сына бога сна, хоть и выводят, опять же, из греческого ??????? «образующий, придающий форму», яснее от этого само слово не становится. На ум сразу приходит прообраз из немецкого Мorphium – морфий, родом всё оттуда же – от латинского Моrрhеus. Где тут связь между «придающим форму» и сном? Элементарно! Когда человек спит – он будто заМИРает, впадает в обМОРок, МЕРтвеет. Так и в неживой природе – всё, что перестаёт двигаться, иначе, заМЕРзает – обретает МЁРтвую форму. Таким вот образом, в нашем лексиконе появляются, и старые, и новые «научные», а по-сути, нерусские термины, которые, хотим мы того или нет, напрямую связаны с мороком, то бишь, заморачиванием мозгов. Зато, как им кажется, «звучит интеллигентно»… Если кто сомневается в обще-индо-европейском равенстве исходных значений морфия, Морфея, морфемы и, прошу прощения, юмора – пожалуйте взглянуть на сходство звучания разноязычных производных от корневой матрицы М-Р, как носителя смысла «смерть»: рус. мереть, лат. mortuus, старосл. mritvu, лит. mirti, латв. mirt, санскр. marati, авест. miryeite, арм. me?nil, англ. mor?or/murder, нем. mord/Mord, др.-норв. mor?, готск. maur?r, гэльск. marvos, гамб. m?e, осет. m?lyn, maryn, польск. mord, umrzec, ирл. marb/marbh, валлийск. marw, перс. amariyata/mordan, хетт. mer, курд. mirin.
Имеет-ли этот МРачный набор какое-то отношение к нашей теме? Ну конечно имеет, хотя бы в виду прямого отношения первоначального движения мять-метать-мотать к его результату – муровать-марать-мерить. Только вот определение «морфема», как некая застывшая форма, лишённая движения, жизни, а значит и смысла, не совсем подходит к названию частей слова, в особенности, Живого Русского Слова.
А теперь, после всего того, что мы сами для себя уже уяснили, только вдумайтесь в толкования данного понятия на официальном уровне:
а) «В большинстве концепций морфема рассматривается как абстрактная языковая единица»;
Для справки: абстра?ктный (от лат. abstractus отвлеченный) – отвлечённый, не связанный с непосредственным восприятием реального мира.
б) «Морфема – это минимальная значимая часть слова. Она не делится на более мелкие значимые части».
Для справки: вспомните слово припой, производное глагола припаять, от изначального поять, где от корнеслова ять осталась лишь одна гласная буква Й.
в) «Аффиксы (вспомогательная часть слова) не могут самостоятельно образовывать слово – только в сочетании с корнями».
Для справки: вспомните так называемые глагольные окончания, которые на самом деле являются самостоятельными глаголами.
Так и напрашивается после каждой цитаты один и тот же вопрос: «Почему?» Ведь на поверку все эти писанные «правила русского языка» становятся бессильными объяснить реальные процессы словообразований, происходящих по неписанным Законам Русской Речи!
Корневая основа приставок
Самой представительной группой приставок является разряд корневой матрицы П-Р, как носителя условно-обобщённого смысла «переть», в чём можно убедиться уже на примере абсолютного буквального сходства приставок этого класса с целым рядом корней «полноценных» слов:
ПРИ– ==> глагол повелительного наклонения ПРИ!, наречие оПРИчь, и т. п.;
ПРЕД– ==> существительное ПРЕДок, глагол уПРЕДить, и т. п.;
ПРО– ==> существительное ПРОк, прилагательное ПРОчий, и т. п.;
ПЕРЕ– ==> существительное и предлог ПЕРЕд, глагол ПЕРЕчить, и т. п.;
ПРА– ==> существительное ПРАща, глагол ПРАть, и т. п.;
ПРЕ– ==> глагол ПРЕтить, существ. ПРЕние, и т. п.
В этой связи, будет нелишним заметить «странное» сходство распространённого в мире слова период (от греч. phero – несу, иначе «пру», и hodos – путь, иначе «ход») с русским словом переход (ср. с санскр. puratas – нести впереди). Вопрос только, кому и зачем понадобилось внедрять в наш язык ещё одно, из тысячи лишних, импортное словцо, которым многие даже пользоваться правильно не умеют, употребляя расхожее выражение «переходный период», являющееся, по-сути, такой же тавтологией, как и совсем уж абсурдное «на сегодняшний день», вместо «на сегодня» или «на сей день»? Хорошо не «на вчерашнее вчера», да не «на завтрашнее завтра»!
Итак, вопреки «железо-бетонно» установленным догмам о «минимальной значимости морфем», мы уже вправе воспринимать всякую приставку, как равную самой основе, часть сложносоставного слова, например: ПЕРЕ/ХОД – это буквально означает ХОД В/ПЕРЁД, или, до такой-то ПОРЫ ХОЖДЕНИЕ.
Однако, пренебрежение неписанными законами Живой Русской Речи, а именно, о большой важности значения каждого слога и даже буквы (звука) приводит к появлению на свет навороченных суррогатных слов-мутантов, подобных трёх-приставочным «ВОСПРОИЗводство», да «ПЕРЕРАСПРЕделение». И это не удивительно, ведь авторам этих «продвинутых» словес (а у них безусловно были авторы – в простонародье такие перлы никак не могли появиться, на тот случай всегда в ходу были извод и раздел) и в голову не могло прийти, по причине «минимальной значимости морфем», что, на самом деле, каждая из этих приставок имеет корневую основу, а значит и конкретный смысл. А, поскольку, о разряде корневой матрицы П-Р уже было сказано, перейдём к остальным приставкам из ПЕРЕРАСПРЕ- и ВОСПРОИЗ-.
ВОЗ-. Так, например, приставка ВОС-, как и её сестры-близняшки: ВС-, ВЗ-, ВЗО-, и ВОЗ-, являются ничем иным, как носителем условно-обобщённого значения «высь», что можно легко проверить на примере сопоставления трёх равнозначных слов: устаревшего ВЫСпренний и современных ВОСпарённый или ВЫСОКОпарный, которые, соответственно, в переносном, либо прямом смысле, говорят о «парении вВЫСь». ВОЗьмите любое слово с одной из приставок указанного перечня, хотя бы первое в этом предложении, и вы поймёте, что оно предлагает ВОЗыметь, то бишь «вВЫСь имать», иначе, «брать, хватать, ловить, умыкать, набирать, заключать, созывать, доставать, извлекать, собиратьВЫШе (всего остального, снизу вверх)»! Таким образом, ВОЗлежащий – это ВЫШе лежащий, ВЗОшедший – это ВЫШе шедший, ВОСседающий – это ВЫШе сидящий, ВСпрыгнувший – это вВЫСь прыгнувший, а ВЗдыбленный – это вВЫСь дыбящийся.
РАЗ-. С анализом же приставки РАЗ- (РАС-), выходит настоящая, в полном смысле, история, поскольку, волей-неволей, затрагиваются некоторые аспекты, и прошлого, и нынешнего состояния нашего общества. Дело в том, что однажды, при детальном разборе очередного импортного слова-засланца, мне удалось обнаружить его истинное буквальное значение, которое оказалось весьма неприглядным на фоне традиционного массового восприятия. Речь о всемирно известном, а местами и временами любимом в нашей стране, слове революция. Как это ни покажется странным, но это иноземное слово, вызывающее в общественном сознании положительные ассоциации, по какой-то причине, отнюдь не повторило судьбу настолько же иноземного, но уже негативного в русском понимании, слова шпион. А ведь последнее дословно означает, всего навсего, разведчик, хотя предыдущее – переворот! То есть, получается, что брезгливое и тщедушное «шпион», гораздо больше доставляет дискомфорта нашему бытовому патриотизму, чем патетическое для романтиков, но фатальное для государственной системы «революция»! Причём, на официальном уровне, журналисты с политиками оперируют обеими вариациями, с примитивным подтекстом: революция – это «хорошо», а переворот – это «ужасно». Почему? Этот вопрос не давал мне покоя ровно до тех пор, пока я окончательно не осознал, что не только «революцией», но и огромным количеством других чужеродных, мало понятных основной части людей, слов в нашем языке зачастую прикрывают, будто фиговым листочком, весь срам реалий нашего времени. Теперь по-существу.
Начнём с первых слов перевода этого слова в англо-русском словаре:
revolution [?rev??lu: ? (?) n] – революция, переворот… Как вы сами видите, в самом начале, нерусское слово нам переводят нерусским словом, и это с определённого момента бурной исторической эпохи в нашей стране стало своеобразной негласной традицией: мол, «ну вы же знаете это культовое слово». Затем, конечно, следует дословный перевод русским словом, ну и в нагрузку – несколько примеров перевода, в зависимости от контекста. Только вот, именно буквального значения слова «революция» я, естественно, не встретил ни в одном справочнике. И сейчас мы попытаемся этот пробел восполнить.
В принципе, выходит, что оба слова: латинское revolutio, от исходного revolvere – оборот, вращение и русское переворот являются однокоренными. Их объединяют, на первый взгляд не сопоставимые, корни -VOL- и -ВОР-. Но стоит вспомнить название детской игрушки «ВОЛчок» (которое, кстати, никакого отношения к волчонку не имеет!), как сразу приходит понимание, что ВОРОТ и ВОЛОТ – это два варианта произношения, по-сути, одного русского понятия: ворочать-волочить, иначе, влачить-вращать! Теперь подключаем к английскому и русскому корню VOL-ВОЛ заданные суффиксы -tion и -чён, располагая полученные слова в одну колонку:
| V | O | L | U | T | I O | N |
| В | О | Л | О | Ч | Ё | Н |
«На всякий случай», сверим звучание обеих фонем по их транскрипции:
volution [v??lu: ? (?) n]
волочен [v? l’o? ? n]
Что мы получаем? Полную фонетическую и криптографическую идентичность!
Далее разбираемся с приставками. Латинская приставка re- ведёт своё начало от исходного слова res (вспомните редукцию согласной S в слове republic – республика), в основе своей, имеющего обобщённый смысл «решение». Имеется-ли русский аналог у этой приставки? Ответ: да, это соответствует приставке раз- (рас-), которая, в свою очередь, произошла от понятия разить. Позвольте, а разве решать и разить – это одно и то же? Разумеется, слова и смыслы разные, но произошли они от единого пракорня! Недаром жаргонное «поРЕШить», как раз и означает «заРЕЗать» (ср с авест. rаe?а – трещина, др.-инд. r??yati – ранит, повреждает, лтш. risе – накатанная колея, rist – разрезать, надрезать, др.-исл. r?stа – поцарапать).
английский me [mi: (полная форма); mi (редуцированная форма)], myself; казахский менi? • мениьнъ • менiнъ; литовский mane, manes; немецкий mich; нидерландский mij; польский mnie; хинди mujhe; чешский me; шведский mig; эсперанто min; кимрский myfi, mi, minnau; гэльский mise, бретонский me; роуськъ мене, мя; санскрит ме; таджикский ман; тюркские men.
Личные местоимения мне тоже не сильно разнятся между собой:
казахский ма?ан • магъан; литовский man; нидерландский me, mij; чешский mi; роуськъ мън?, ми; и так далее.
Слова мой, моя, моё просто «обязывают» руки совершать мнущее движение:
азербайджанский m?nim • м?ним • m?nim; английский my [mai]; mine [main]; казахский менiкi • мениькиь; латинский meus, mea, meum; латышский mans; литовский manas, mani?kis, mano; норвежский min; португальский meu; праиндоевропейский meоs; арийский mеne; санскрит mamakа; татарский минем; узбекский meniki, mening; украинский мiй; финский minun; хинди meraa; чешский mе; шведский min; эсперанто mia; эстонский mees, minu, omaksed.
А вот следующие формы того же значения «мой, моя, моё»убедительнейшим образом встают на защиту нашей теории о едином происхождении всех представленных здесь слов от исходного действа мять, а, соответственно, и от, производного им, изначального понятия иметь: армянский ?? • im – мой, моя, моё; венгерский enyеm – мой, моя, моё; курдский ?min – мой, моя, моё.
И коль уж мы заговорили о личных местоимениях, то имеет смысл затронуть их вариации от первого лица: целинский м?ну – я; финский min?, иранские наречия m?n • м?н • m?n; на хинди mai (me) в точности дублирует древнерусское май – имей, умей, моги, и английские my [mai] – я, как и may [me?] – мочь, возможно, сомнение; санскритское ahаm, сравните с английским I’m [a?m] = 1 лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения глагола be = I am —я существую, я живу, я нахожусь в определенном состоянии, я являюсь; то есть буквально я есмь, а ещё точнее 1-е л. ед. ч. настоящего времени гл. be – am [?m], [?m, m], которое официально, якобы «не переводится», хотя на самом деле по-русски значит и звучит ровно также – ем, емлю, или целиком Аз есмь – я есть = I am [a? ?m]. Старославянское азъ – я, состоит в прямом арийском родстве с армянским ?? • es; прусским as; жемайтским a?; латгальским es, as, что наводит на мысль об истинном значении русского я – явный, естественный; причём, созвучное английское as [?z], [?z, z] – как, в роуськъм варианте аки (окы, яко), сквозь общеславянское jak – как, выводит нас на македонское jас – я, в качестве самоидентификации, или зеркального отображения истинного Его – в смысле Прародителя, в латинской огласовке ego —я; в шведской – jag; нидерландской – ik; норвежской – jeg; португальской – eu. Сравните венгерское os – прародитель, с древнескандинавским аss (??ss, аs) – в германо-скандинавской мифологии высшие боги. Верховным богом и вождём асов был Один. Не потому-ли на фарси числительное один звучит также, как и славянские вариации понятий «как» и «я», а именно – як? Но, поскольку, русское ять идентично глаголу имать по смыслу, и родственно по происхождению, то и в данном случае мы видим абсолютное фоносемантическое соответствие первоначального значения «преЕМственность» союзам в индоевропейских языках, на примере бретонского e-giz – как, и греческого ???, ego – я, а также: кимрского megis – как, гэльского amhail – как, финского miten – как, таджикского мисл – как, и особенно венгерского miutаn, mint, midon, mennyire – как, что не может не ассоциироваться с отМЕНной паМЯТью, отпечатывающей события, словно вМЯТинами на МОНете.
Подытожим наш пошаговый метод исследования глагола иметь. Что мы обнаруживаем в одном только ЁМком понятии? С одной стороны – постоянный отзвук в разных, родственных русскому, и не очень, языках, как то: латышский apjoms – объём, литовский apimtis – объём, где чётко просматривается явная приставка ap-, идентичная русской об-, предваряющая оба корня: -jom- и -imt-, «подпевающих» своим русским собратьям им и ём, которые эхом отдаются в северо-германских значениях «объём»: нидерландский omvang, норвежский omfang, шведский omf?ng (ср. с др.-греч. ????????А?Мфора, от amphi – с обеих сторон, то есть «в обнимку», и phero – несу, то есть «пру»), английский dimension [d??men?n] – объём, где dis- это приставка, а -men- корень, в значении meaning [?mi?n?n] – имеющий намерение, многозначительный замысел, мысль, то есть, попросту, мнение; с другой стороны – бесчисленное множество ветвей, причём, как в русском, так и иностранных языках, которые приобретают смысл, уже совершенно далёкий от матричного значенияиметь. Другими словами, происходит смещение смысла. При этом, корень остаётся незыблемым, и произношение мало отличается от оригинала, вспомните однокоренную пару: исходный глагол ПО/МЯТЬ – и его производное существительное со смещённым смыслом ПА/МЯТЬ, от изначального действа МНУ – МНЮ. Это явление можно сравнить с разными формами, скоростями и характерами потоков реки в разных её отрезках, где течёт одна и та же вода: приверх, ухвостье, исток, устье, порог, межень, воронка, пойма, взморье, рукав, излучина, лука, яр, урез, старица, дон, стремнина, и тому подобное. Так же и в родственных языках, вышедших из единого истока: какой-то язык остался верен традициям, так сказать «пристал к берегу», и мало чем отличается от архаических форм, а какой-то стремительно умчался вперёд «вниз по течению», изменившись до неузнаваемости. Но это совершенно не значит, что один лучше другого – каждому уготована своя историческая судьба. Плохо лишь то, что когда представители какого-либо этноса, в погоне за сомнительными ценностями, перестают быть носителями своего родного языка, то сознательно или подневольно, они укорачивают свой век, эпоху, историю, по-сути, рубят свои корни, и становятся безродными. Что же касается процессов смещения смыслов в одном, отдельно взятом языке, то здесь появляется вероятность искажения истинных значений слов, которые, в конце концов, приводят к их неминуемому забвению и безвозвратной потере огромного запаса речевой культуры, подобно высохшему речному руслу. Недаром абсолютно разные, на первый взгляд, понятия РЕЧной и РЕЧевой имеют один общий корень.
Глава II. Дробление корня
Так почему же все вышеозначенные, достаточно отдалённые друг от друга, понятия, от исходного слова иметь, так привязаны своими корнями к общим устойчивым согласным, в данном случае к букве (звуку) М? Давайте снова вернёмся к изначальной древней форме имать, и её вариации ять, которой в официальных источниках отведена какая-то странная, опосредованная до относительности, связь, с размытой формулировкой «соответствующий глагол». Мы уже вычислили с вами, что никакой это не «соответствующий», а один и тот же глагол, имеющий различие с первым вариантом, лишь в силу своей трансформации – редукции начальной согласной. А вот какой согласной – зависит от контекста речи. Это может быть и М, в случае образного мять, если имеется в виду имать – брать, хватать, трогать, по аналогии с диалектным мацать – тоже брать, хватать, трогать, а может быть и Н, в случае образного нять, если имеется в виду внять – вобрать, впитать, втянуть, по аналогии с диалектным начить – тоже вобрать, впитать, втянуть.
Итак, мы имеем два ракурса одного действа: Мять – как образное проявление условной «Мощи и Мягкости», и Нять – как образное проявление условной «Ноши и Низости». То есть, получается, что начальная буква (звук), в обеих позициях является ничем иным, как ядром корня, обрастающим вариативными связями с другими согласными, как посредством модулируемых гласных, так и напрямую, создавая всевозможные корневые матрицы, всегда имеющие один и тот же исходный смысл. Например, как бы ни модулировалась гласная в корне МЯТ – МОТ – МУТ – МЕТ – МАТ – МЫТ – МИТ – МЁТ, изначальный смысл образованного им слова всегда будет наделён обще-обусловленным значением конкретного действа, в данном случае «мятущимся». Это многим позже оно получило переносный смысл, но на заре развития языка – простое движение. А это значит, что в нашем языке существуют некие, достаточно устойчивые корневые матрицы, вроде той, что фигурирует в каждом из приведённых корней, а именно М-Т. Исходя из этого, можно допустить, что постоянно меняющиеся гласные буквы (звуки) в словообразующих корнях не являются важными носителями смысловой нагрузки, и выполняют роль, скорее, «нотных» связок, для простого различения созвучных слов. Несущественная роль этих нотных связок легко доказуема их отсутствием во множестве словоформ, например, в такой вариации, как: разМИНает – М […] Нёт, или, как бы «небрежным», а то и «неправильным» произношением в обыденной речи: вместо сМЕТать говорим сМИТать; вместо МОТать говорим МАТать, иногда МЭТать, или вообще МЫТать, и так далее. И в этом нет ничего странного, ведь только гласные буквы могут, в отличие от согласных, произноситься непрерывно, что называется «на одном дыхании»: А-Е-Ё-И-Й-О-У-Ы-Э-Ю-Я-А-Е-Ё-И-Й-О-У-Ы-Э-Ю, и так по кругу. Меняется лишь регистр звучания, посредством артикуляции – губы увеличивают, либо уменьшают поток выдыхаемого воздуха, да периодически меняется положение языка в полости рта, отсюда и такая разноголосица в исполнении одного и того же слова, причём, не только разными людьми, но и в речи одного собеседника.
Есть ещё одна немаловажная «улика» в пользу фактора произвольного произношения гласных, а заодно и самое простое тому объяснение. В традициях русского языка присутствует такой элемент, как дублирование слова, в значении «очень»: одно произносится протяжно, другое – кратко. Например, «далеко-о-о далеко» выражает большое расстояние; «давны-ы-ым давно» подчёркивает продолжительность прошедшего; «бе-е-елый белый» передаёт степень контрастности оттенка. Это говорит о том, что именно гласные звуки (буквы) создают в нашем воображении своеобразную проекцию предмета-явления-действа, некий пространственно-временной объём, а также отличительные свойства того или иного объекта. Подчёркиваю, отличительные свойства – в этом и заключается главная функция гласных звуков (букв) в нашей речи, в отличии от согласных, которые несут в себе основную информацию о самой сути предмета-явления-действа.
Помимо заглавной согласной буквы, а также связующей модулируемой гласной, в корне, обычно присутствует и вспомогательная согласная буква, которая нередко варьируется: маХать – маШет, муКа – муЧной, мСтит – мЩение, и прочее, и прочее. Как видите, данные словообразования уже выходят из категории производных от корневой матрицы М-Т, образуя совершенно самостоятельные дочерние корневые матрицы: М-Х, М-Ш, М-К, М-Ч, М-С, М-Щ. Но при этом, прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно, всё равно соотносятся с исходным смыслом «мять», в них вложенным. Более того, являясь на начальной стадии вспомогательной согласной, как буква М в слове заНИМать, с корневым ядром Н, от начального НЯТЬ, сама становится в дальнейшем способной трансформироваться в корневое ядро М, в градации сНИМать – ИМать – наМАТывать – МАТёрый. Назовём условно этот процесс «корневая надстройка».
Итак, всё то, свидетелем чего вы сами стали, прочитав эти строки, никак не клеится с общепринятой догмой о делении слова, исключительно на приставку, корень, суффикс и окончание, к чему каждый из нас уже давно привык, ещё со школьной парты. Как бы это ни выглядело «мистично», но придётся признать совершенно очевидный факт дробления самого корня на: 1) корневое ядро – начальная согласная, 2) метрическую нотную (или пространственно-временную) связку – промежуточная гласная, и 3) вспомогательную векторную согласную – конечная буква корня, базирующихся, в свою очередь, на 4) корневой матрице из двух согласных, либо образующих её, а иногда и 5) корневую надстройку.
Насколько научны подобные определения? Скорее всего, сами учёные поспешат их отнести к «антинаучной ереси». Тогда возникает масса закономерных вопросов. Что же получается, наш Русский язык (просьба не путать с одноимённым учебником!) НЕНАУЧНЫЙ? Ведь все примеры были приведены именно из него! Может всё дело в терминологии? Неужели общепринятая официальная терминология – есть показатель «научности» изложения мысли? На мой взгляд, всякая терминология – абсолютная условность, и в большинстве случаев, она не столько научная, сколько иностранная, нерусская. Но даже в терминологически выверенном «научном» варианте, ничего подобного нашей теории, в официальных анналах, лично мною обнаружено не было. И тут возникает главный риторический вопрос: ПОЧЕМУ? Почему сии предельно наглядные вещи умалчиваются филологической наукой, а конкретно, современной этимологией? У каждого найдётся свой ответ. По моему же глубокому убеждению – потому что «не положено». Другого объяснения нет. Ведь, в обратном случае, придётся пересматривать всю сложившуюся систему научных взглядов о Русском языке. Представляете, ЧТО придётся пережить академической элите, светилам отечественной филологии, если их фундаментальные положения изменятся в корне? К примеру, до сей поры считающиеся безмолвными, лишёнными всякого значения, смысла, прочтения и перевода, русские приставки, суффиксы и окончания, вдруг предстанут перед нами в новом свете, как полноценные, самостоятельные понятия, наделённые… собственными корнями! Об этом и пойдёт речь в следующей главе.
Глава III. Осмысление частей слова
Части слова в учебниках по русскому языку называют «по-научному» морфемами. Кому как, а мне это слово не особо нравится, ибо ассоциируется… со смертью. И вот почему. Во-первых, в справочниках сказано, что оно заимствованно из французского morph?me, которое, в свою очередь, происходит от греческого morphe – форма, но ведь и слово форма тоже нерусское! Заметьте, иностранное слово нам переводят иностранным словом, что в наше время происходит всё чаще, и считается в порядке вещей. Во-вторых, единородное французское Моrрhее – аллегорическое обозначение сна, как книжное заимствование из латинского Моrрhеus – имя сына бога сна, хоть и выводят, опять же, из греческого ??????? «образующий, придающий форму», яснее от этого само слово не становится. На ум сразу приходит прообраз из немецкого Мorphium – морфий, родом всё оттуда же – от латинского Моrрhеus. Где тут связь между «придающим форму» и сном? Элементарно! Когда человек спит – он будто заМИРает, впадает в обМОРок, МЕРтвеет. Так и в неживой природе – всё, что перестаёт двигаться, иначе, заМЕРзает – обретает МЁРтвую форму. Таким вот образом, в нашем лексиконе появляются, и старые, и новые «научные», а по-сути, нерусские термины, которые, хотим мы того или нет, напрямую связаны с мороком, то бишь, заморачиванием мозгов. Зато, как им кажется, «звучит интеллигентно»… Если кто сомневается в обще-индо-европейском равенстве исходных значений морфия, Морфея, морфемы и, прошу прощения, юмора – пожалуйте взглянуть на сходство звучания разноязычных производных от корневой матрицы М-Р, как носителя смысла «смерть»: рус. мереть, лат. mortuus, старосл. mritvu, лит. mirti, латв. mirt, санскр. marati, авест. miryeite, арм. me?nil, англ. mor?or/murder, нем. mord/Mord, др.-норв. mor?, готск. maur?r, гэльск. marvos, гамб. m?e, осет. m?lyn, maryn, польск. mord, umrzec, ирл. marb/marbh, валлийск. marw, перс. amariyata/mordan, хетт. mer, курд. mirin.
Имеет-ли этот МРачный набор какое-то отношение к нашей теме? Ну конечно имеет, хотя бы в виду прямого отношения первоначального движения мять-метать-мотать к его результату – муровать-марать-мерить. Только вот определение «морфема», как некая застывшая форма, лишённая движения, жизни, а значит и смысла, не совсем подходит к названию частей слова, в особенности, Живого Русского Слова.
А теперь, после всего того, что мы сами для себя уже уяснили, только вдумайтесь в толкования данного понятия на официальном уровне:
а) «В большинстве концепций морфема рассматривается как абстрактная языковая единица»;
Для справки: абстра?ктный (от лат. abstractus отвлеченный) – отвлечённый, не связанный с непосредственным восприятием реального мира.
б) «Морфема – это минимальная значимая часть слова. Она не делится на более мелкие значимые части».
Для справки: вспомните слово припой, производное глагола припаять, от изначального поять, где от корнеслова ять осталась лишь одна гласная буква Й.
в) «Аффиксы (вспомогательная часть слова) не могут самостоятельно образовывать слово – только в сочетании с корнями».
Для справки: вспомните так называемые глагольные окончания, которые на самом деле являются самостоятельными глаголами.
Так и напрашивается после каждой цитаты один и тот же вопрос: «Почему?» Ведь на поверку все эти писанные «правила русского языка» становятся бессильными объяснить реальные процессы словообразований, происходящих по неписанным Законам Русской Речи!
Корневая основа приставок
Самой представительной группой приставок является разряд корневой матрицы П-Р, как носителя условно-обобщённого смысла «переть», в чём можно убедиться уже на примере абсолютного буквального сходства приставок этого класса с целым рядом корней «полноценных» слов:
ПРИ– ==> глагол повелительного наклонения ПРИ!, наречие оПРИчь, и т. п.;
ПРЕД– ==> существительное ПРЕДок, глагол уПРЕДить, и т. п.;
ПРО– ==> существительное ПРОк, прилагательное ПРОчий, и т. п.;
ПЕРЕ– ==> существительное и предлог ПЕРЕд, глагол ПЕРЕчить, и т. п.;
ПРА– ==> существительное ПРАща, глагол ПРАть, и т. п.;
ПРЕ– ==> глагол ПРЕтить, существ. ПРЕние, и т. п.
В этой связи, будет нелишним заметить «странное» сходство распространённого в мире слова период (от греч. phero – несу, иначе «пру», и hodos – путь, иначе «ход») с русским словом переход (ср. с санскр. puratas – нести впереди). Вопрос только, кому и зачем понадобилось внедрять в наш язык ещё одно, из тысячи лишних, импортное словцо, которым многие даже пользоваться правильно не умеют, употребляя расхожее выражение «переходный период», являющееся, по-сути, такой же тавтологией, как и совсем уж абсурдное «на сегодняшний день», вместо «на сегодня» или «на сей день»? Хорошо не «на вчерашнее вчера», да не «на завтрашнее завтра»!
Итак, вопреки «железо-бетонно» установленным догмам о «минимальной значимости морфем», мы уже вправе воспринимать всякую приставку, как равную самой основе, часть сложносоставного слова, например: ПЕРЕ/ХОД – это буквально означает ХОД В/ПЕРЁД, или, до такой-то ПОРЫ ХОЖДЕНИЕ.
Однако, пренебрежение неписанными законами Живой Русской Речи, а именно, о большой важности значения каждого слога и даже буквы (звука) приводит к появлению на свет навороченных суррогатных слов-мутантов, подобных трёх-приставочным «ВОСПРОИЗводство», да «ПЕРЕРАСПРЕделение». И это не удивительно, ведь авторам этих «продвинутых» словес (а у них безусловно были авторы – в простонародье такие перлы никак не могли появиться, на тот случай всегда в ходу были извод и раздел) и в голову не могло прийти, по причине «минимальной значимости морфем», что, на самом деле, каждая из этих приставок имеет корневую основу, а значит и конкретный смысл. А, поскольку, о разряде корневой матрицы П-Р уже было сказано, перейдём к остальным приставкам из ПЕРЕРАСПРЕ- и ВОСПРОИЗ-.
ВОЗ-. Так, например, приставка ВОС-, как и её сестры-близняшки: ВС-, ВЗ-, ВЗО-, и ВОЗ-, являются ничем иным, как носителем условно-обобщённого значения «высь», что можно легко проверить на примере сопоставления трёх равнозначных слов: устаревшего ВЫСпренний и современных ВОСпарённый или ВЫСОКОпарный, которые, соответственно, в переносном, либо прямом смысле, говорят о «парении вВЫСь». ВОЗьмите любое слово с одной из приставок указанного перечня, хотя бы первое в этом предложении, и вы поймёте, что оно предлагает ВОЗыметь, то бишь «вВЫСь имать», иначе, «брать, хватать, ловить, умыкать, набирать, заключать, созывать, доставать, извлекать, собиратьВЫШе (всего остального, снизу вверх)»! Таким образом, ВОЗлежащий – это ВЫШе лежащий, ВЗОшедший – это ВЫШе шедший, ВОСседающий – это ВЫШе сидящий, ВСпрыгнувший – это вВЫСь прыгнувший, а ВЗдыбленный – это вВЫСь дыбящийся.
РАЗ-. С анализом же приставки РАЗ- (РАС-), выходит настоящая, в полном смысле, история, поскольку, волей-неволей, затрагиваются некоторые аспекты, и прошлого, и нынешнего состояния нашего общества. Дело в том, что однажды, при детальном разборе очередного импортного слова-засланца, мне удалось обнаружить его истинное буквальное значение, которое оказалось весьма неприглядным на фоне традиционного массового восприятия. Речь о всемирно известном, а местами и временами любимом в нашей стране, слове революция. Как это ни покажется странным, но это иноземное слово, вызывающее в общественном сознании положительные ассоциации, по какой-то причине, отнюдь не повторило судьбу настолько же иноземного, но уже негативного в русском понимании, слова шпион. А ведь последнее дословно означает, всего навсего, разведчик, хотя предыдущее – переворот! То есть, получается, что брезгливое и тщедушное «шпион», гораздо больше доставляет дискомфорта нашему бытовому патриотизму, чем патетическое для романтиков, но фатальное для государственной системы «революция»! Причём, на официальном уровне, журналисты с политиками оперируют обеими вариациями, с примитивным подтекстом: революция – это «хорошо», а переворот – это «ужасно». Почему? Этот вопрос не давал мне покоя ровно до тех пор, пока я окончательно не осознал, что не только «революцией», но и огромным количеством других чужеродных, мало понятных основной части людей, слов в нашем языке зачастую прикрывают, будто фиговым листочком, весь срам реалий нашего времени. Теперь по-существу.
Начнём с первых слов перевода этого слова в англо-русском словаре:
revolution [?rev??lu: ? (?) n] – революция, переворот… Как вы сами видите, в самом начале, нерусское слово нам переводят нерусским словом, и это с определённого момента бурной исторической эпохи в нашей стране стало своеобразной негласной традицией: мол, «ну вы же знаете это культовое слово». Затем, конечно, следует дословный перевод русским словом, ну и в нагрузку – несколько примеров перевода, в зависимости от контекста. Только вот, именно буквального значения слова «революция» я, естественно, не встретил ни в одном справочнике. И сейчас мы попытаемся этот пробел восполнить.
В принципе, выходит, что оба слова: латинское revolutio, от исходного revolvere – оборот, вращение и русское переворот являются однокоренными. Их объединяют, на первый взгляд не сопоставимые, корни -VOL- и -ВОР-. Но стоит вспомнить название детской игрушки «ВОЛчок» (которое, кстати, никакого отношения к волчонку не имеет!), как сразу приходит понимание, что ВОРОТ и ВОЛОТ – это два варианта произношения, по-сути, одного русского понятия: ворочать-волочить, иначе, влачить-вращать! Теперь подключаем к английскому и русскому корню VOL-ВОЛ заданные суффиксы -tion и -чён, располагая полученные слова в одну колонку:
| V | O | L | U | T | I O | N |
| В | О | Л | О | Ч | Ё | Н |
«На всякий случай», сверим звучание обеих фонем по их транскрипции:
volution [v??lu: ? (?) n]
волочен [v? l’o? ? n]
Что мы получаем? Полную фонетическую и криптографическую идентичность!
Далее разбираемся с приставками. Латинская приставка re- ведёт своё начало от исходного слова res (вспомните редукцию согласной S в слове republic – республика), в основе своей, имеющего обобщённый смысл «решение». Имеется-ли русский аналог у этой приставки? Ответ: да, это соответствует приставке раз- (рас-), которая, в свою очередь, произошла от понятия разить. Позвольте, а разве решать и разить – это одно и то же? Разумеется, слова и смыслы разные, но произошли они от единого пракорня! Недаром жаргонное «поРЕШить», как раз и означает «заРЕЗать» (ср с авест. rаe?а – трещина, др.-инд. r??yati – ранит, повреждает, лтш. risе – накатанная колея, rist – разрезать, надрезать, др.-исл. r?stа – поцарапать).