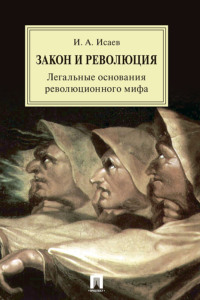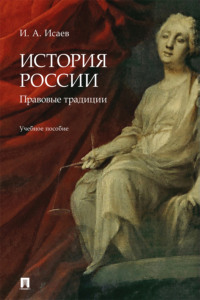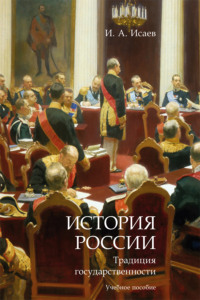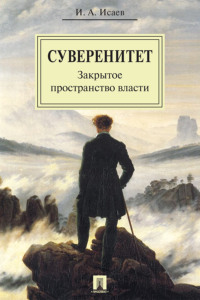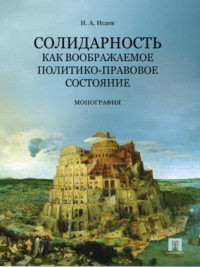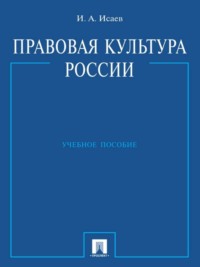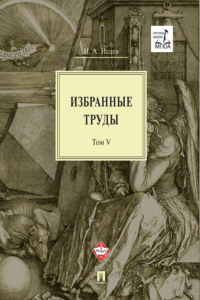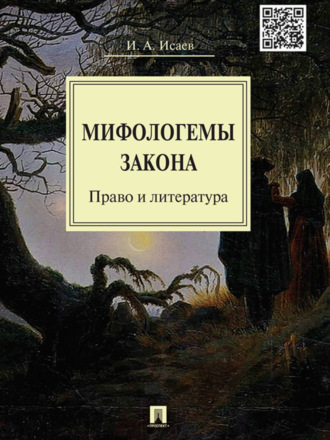
Мифологемы закона: право и литература. Монография
Тесная связь между великими и духовными принципами характерна для всего рыцарства при дворе Артура, и она же предопределяет особый смысл их подвигов: «Те, что избраны быть членами рыцарства, чувствуют себя более облагодетельствованными и высокочтимыми, нежели те, кто овладели всем миром» (Мэлори). И здесь Грааль представлял собой тот трансцендентный элемент, с помощью которого рыцари должны были достичь своего совершенства: во многих сказаниях именно царство Артура отождествлялось с царством Грааля.
Царство Артура было отделено от мира людей широким потоком, через который переброшен единственный мост, полный опасностей. Это царство охраняют титаны, посреди него находится «постоянно вращающийся замок» (С. Зингер), в котором хранится сосуд, отвоеванный Артуром у «короля иного мира», явный аналог Грааля. Согласно Мэлори, Круглый стол изначально был создан по образу мира, в нем была воспроизведена вселенная, небо и земля. Рыцари, заседающие за ним, – суть представители высшей центральной власти. Они разделили между собой всю землю на 12 частей, сделав каждую своим феодом, и стали называться королями; и только «опасное место», оставленное за столом, было предназначено для ожидаемого рыцаря, превосходящего всех остальных – правителя высшего центра, «короля мира» (Р. Генон).
Некоторые символические, мифологические и религиозные мотивы, такие как путешествие в загробный мир в «Ланселоте», мотивы искупления и освобождения, связаны в сказаниях о святом Граале с темой христианской благодати. Но все таинственное в них, однако, вырастает как бы из-под земли, все, что прячет свои корни и недоступно рациональному истолкованию, – все это рыцарский роман почерпнул, конечно же, из народных сказаний. Феодальное рыцарство художественно изобразило здесь само себя и соответственно свой образ жизни. Средства испытания и самоутверждения – это и есть приключение, «загадочная форма события»: целое сословие в пору своего расцвета увидело в преодолении подобных трудностей свое подлинное призвание и предназначение. Усваивая самые различные традиции (в том числе восточные и языческие) оно творило свой рыцарский мир. Испытание авантюрой составило подлинный смысл рыцарского идеального существования, хотя эти «опасные встречи» не были опосредованы каким-либо жизненным опытом и поэтому не могли быть включены ни в какую мыслимую политическую систему.
Цепочка авантюр со временем превращается в своеобразное учение о становлении (посвящении), о заданном человеку судьбой, о достижении совершенства – создает феномен и ощущение избранничества, характерный для мистического движения цистерцианского и сен-викторианского толка. Рождающаяся на этой основе мистика уже была свободна от авантюр и необходимости в них.
Вечность королевства исходила теперь не от провидения, но от «фиктивной, хотя и бессмертной личности» – «достоинства», созданного в ходе человеческой деятельности и возложенного на государя или на должностное лицо столь же бессмертной политией, некоей общностью, которая никогда не умирает. Качество вечности оказывалось сконцентрированным не в божестве и идее справедливости, не в праве, а, скорее, в общности и достоинстве, каждая из которых бессмертна128.
Постепенно фрагментарность и случай отходят на задний план. Спасение требует только постоянного и устойчивого состояния личности, будь то аскеза или самопожертвование. Закон рыцарства – это христианский закон, его должен был соблюдать и защищать избранный, его он должен был распространять в мире – и в этом была по-настоящему заключена глубинная идея крестовых походов. Рыцарство формировалось как стиль жизни, и его законы повсюду были одинаковы – и на Западе, и на Востоке. (Правда, по мнению католической церкви, настоящий грех тамплиеров заключался как раз в том, что они слишком близко приняли ценности «восточного рыцарства».)
Существенной чертой корпоративных тел (к которым относились и рыцарские ордена) оказывается не то, что они являлись «множеством лиц, собранных в одном теле в данный момент», но то, что они были множеством в преемственности, скрепленном временем и при посредстве времени. В такое тело входили не только ныне живущие, но также умершие и еще не родившиеся. Мертвые помогали живым, живые умирали за будущих членов единства. Рыцарская этика отличалась двумя основными признаками – своей абсолютностью, высоко поднятой над любой земной и рациональной сообразностью, а также тем, что она давала ее носителям высокое чувство общности с избранными, чувство принадлежности к особому кругу солидарности129. И это же сословие представляло и изображало свое существование как некую внеисторическую, свободную от всякой цели эстетическую конструкцию. (У германских племен королевская власть имела священный характер и божественное происхождение, основатели династий возводили свой род к богам, чаще всего к Вотану. Удачи правителя служили доказательством его божественной природы. Подобное влияние языческих представлений и их симбиоз с христианством имели место и в институте рыцарства.)130
Гавейн – прекрасный, идеальный тип рыцаря, несет на себе вину за грехи всего рыцарства – за пролитие крови: кровавые следы на копье в замке «короля-рыбака» символизируют эту вину. Но копье – также еще и орудие божественной кары (его символ – молния), и оно же должно породить землю Логр, а сам Гавейн приговорен к поиску, напоминающему во многом «крестовый поход покаяния»: здесь речь уже идет о грехе всей рыцарской касты. Ведь рыцари находят успокоение только в ином мире, очень похожем на «царство мертвых»131.
Кроме того, этот христианский рыцарь ищет еще один, почти языческий, мужской символ – копье, которое разрушит вражеское королевство: поэтому он столь тщательно разыскивает темное укрытие противника; Парсифаль же ищет «женский» символ, сосуд или камень, т. е. символ тотальности (Э. Юнг). Приключения Гавейна выражают христианскую миссию преодоления хтонической языческой природы: и как алхимия, так и легенда о Граале символически изображают дальнейшее развитие и завершение этой христианской задачи по подавлению грубой инстинктивности и эмоциональности, внешне уже проявленной в миссионерской деятельности, крестовых походах и борьбе с исламом132. В крестовых походах, кроме того, выражалось некое сложное единство двух эсхатологических понятий: исполнения времен и исполнения рода человеческого; в пространственном смысле исполнение времен выливалось в процессе сплочения народов вокруг святого града Иерусалима, «матери мира» (М. Элиаде).
Ж. Дюмезиль выделял три основные функции, которыми располагали древние боги германцев – сакральную, военную и управленческую. Слияние этих функций было характерно для древних языческих вождей ариев, христианство же разделило эти функции властителей, поставив сакрально-духовную выше двух остальных. И рыцарский роман не мог этого не заметить. Дистанция, разделяющая Роланда и Ланселота, или то, что обычно именуют христианизацией рыцарского идеала, стала победой священной власти над воинской силой: «Весь артуровский цикл увенчивается триумфом первой функции над второй. Уже в произведениях Кретьена де Труа в результате эволюции Персеваля зыбкое равновесие между духовным и рыцарским завершается поисками Грааля и преобразованием рыцаря, видением Великой пятницы». Смерть Артура в эпилоге цикла легенд о Граале означала закат воинства: меч Экскалибур, символический инструмент военного класса, брошен королем в озеро, а Ланселот даже становится своего рода святым133.
(В «Титуреле» Кретьена легенда о Граале достигает своего последнего преображения под влиянием идей, которые Вольфрам фон Эшенбах черпал из Франции – ведь не в Британии, а на юге Франции хранится Грааль. Для этого и был построен специальный храм (под руководством Мерлина), и рыцарство Грааля становится олицетворенным «строительством», делом, участники которого называли себя «храмовниками». Здесь проявились те начала «подземной истории», которую позже будут писать масоны и розенкрейцеры).
Королевство Артура (во всяком случае, в первоначальных вариантах легенды) не локализуется географически или этнически. Этот мир не имеет каких-либо реальных границ уже потому, что он безграничен и вымышлен. Артуровский мир как воплощение истинной рыцарственности, ее опора и ее доминанта, соседствует с миром реальности, но не в топографической неопределенности, а в иной системе отсчета. Эрнест Ренан замечал: «Вся природа здесь заколдована и изобилует, подобно воображению, бесконечно разнообразными созданиями. Христианство редко обнаруживается, хотя иногда и чувствуется его близость, но оно ни в чем не изменяет той естественной среды, в которой все происходит…» Мотивы христианской праведности в романах артуровского цикла присутствуют, но только как некий фон, как данность. Налицо же явная секуляризующая тенденция: мотив единоборства с небесными силами и реальной одолимости чуда здесь уже связан с выявлением индивидуальных качеств человека: у Кретьена налицо описание подвигов единичных героев в нарочито внеисторическом, противостоящем реальной действительности, мире подлинного рыцарства. … На надгробии рыцаря-ионита было написано: «Здесь покоится доблесть, победившая счастье».
6. Замок Грааля – цель и закон
В широко распространенной в Средневековье истории о разорении ада Христом (из апокрифа «Евангелия от Никодима») прописана тема «перепахивания и уничтожения» царства тьмы. И Артур, и рыцарь Ланселот поочередно высвобождают пленников из такого потустороннего царства. Затем на смену этой теме приходит тема Грааля – при посредстве цистерцианцев уже в XIII веке она становится центральной во всем артуровском цикле: «Грааль делается как бы мерилом для суда и приговора над двором Артура, над его славой и добродетелями». Первоначальный герой поисков Грааля Гавейн уступает место сначала Ланселоту, а затем Персевалю. В войне рухнул Круглый стол, долгое время примирявший старый и новый миры. Рыцарский мир провозглашал позитивную идею долга и наведения порядка в государстве, тема же Святого Грааля все более выдвигается на первый план и приобретает преимущественно религиозный и фантастический характер134. Первоначально чаша и копье были указанием на освободительную миссию и призывали к снятию заклятия с заколдованного замка Грааля, затем эта тема сменяется темой собственно поиска Грааля, или… благодати, – появляется все более явная христианская символика, и вскоре христианская идея в артуровском цикле окончательно подменяет собой все остальные мотивы. «Мир политико-правовой мысли позднего Средневековья начал заселяться нематериальными ангельскими телами, они не обладали возрастом, были невидимы, вечны, бессмертны, а иногда даже вездесущи». Они были наделены духовным или мистическим телом, сходным с небесными духовными сущностями. «У юристов деиндивидуализированные фиктивные лица с необходимостью напоминали ангелов»135.
Парсифаль у Вагнера, проезжая по темному царству Клингзора, подвергается всем возможным соблазнам (подобно св. Антонию), явно проистекающим из подсознательного мира чувственной человеческой природы. Воздействующие на него силы стремятся увести его от истинного призвания рыцаря. Позже, уже став жрецом и королем, он первым делом крестит Кундри, эту языческую душу, а в ее лице и часть природы, избавляя их от греха и вознося к духу: видение искомого Грааля здесь не только внутричеловеческая тайна, оно распространяется на жизнь всей земли, всего мира. (Вся духовная нищета современного человека, отказывающегося от всех видимых символов и уходящего в бессознательное, глубины собственной души, приводит его в состояние застоя и стагнации, в котором Парсифаль потерял Бога и бессмысленно боролся с «тенью», внешне проецируемой на некоего противника.)
В этой связи Вагнер особо тщательно разрабатывает тему «копья судьбы». Кровоточащее копье символизирует у него бушующую в крови силу страсти, отравляющую тем самым священное стремление. (Этот темный смысл символа только у последователей Кретьена уступит место другому значению «копья», которое будет поставлено в мистическую связь с копьем Лонгина.) Если в символе чаши Грааля человечество приобщается к благодати, то в «копье» ему дано нечто такое, что уже связано с человеческой свободой: утрата копья Амфортесом, который позволяет Клингзору заманить себя в его волшебное царство, как раз и является причиной судьбоносной болезни короля и упадка его королевства. Царство же Клингзора через обладание копьем приобретает свою ужасную власть.
Мистерии Грааля по сути сугубо человеческие, они как бы подготавливают для человека и человечества ступени грядущего развития, и Вагнер, чьи идеи постоянно вращались вокруг угрозы регенерации приходящего в упадок человечества, хотел показать, что актом избавления Кундри открывается возможность преображения и всей человеческой природы. В Средние века артурово рыцарство все еще продолжало развивать традицию мудрости и морали, распространяемую посредством мифов и легенд через своего рода «тайные общества». (Позже эта традиция дойдет и до западных масонских лож)136. И для средневекового романа стал характерным перенос внимания не на внешние образцы, взятые из внешней жизни, а на традиционные, архетипические образы и отношения: все средневековое искусство стремилось «внести порядок в царство слов под эгидой духовного смысла, а не подражать внешним образцам». Поэтому сказочная страна в романе о Граале Кретьена не завоевана, а заколдована. Заколдованный замок исчезает после пророчеств девы, олицетворяющей собой власть (замок Грааля напоминает таинственные замки потустороннего мира под холмами на острове или в мире духов и мертвецов в языческом «ирландском рае»).
История Грааля уже в ее кельтском варианте выглядит как история, происходящая где-то в ином мире, в котором из-за рокового удара, нанесенного «копьем», был «ранен» король и оскудевает земля. В романе определенно звучат отголоски древних мифов о борьбе космических сил с хтоническими демонами и о временных контактах между высшим и низшим мирами. Ко двору Артура являются всяческие демонические противники и посланцы из мира чудес – великаны, змеи, «черный» и «красный рыцари» и проч. Пространственные перемещения героев совпадают с внутренним движением духа, посланным им испытанием.
За пределами центра (двора Артура) раскинулась дикая периферия: «лес» и «река» символизируют границы с другими мирами, которые располагаются в виде «дворцовых оазисов» среди лесов или на воде и окрашены фантастическими чертами. (Переправы, источники, сады охраняются рыцарями-стражами или принадлежат прекрасным девам. Эти стражи часто оказываются сами осажденными в своих замках. На пути героев встречаются такие чудесные препятствия в виде опасных переправ, «демонических постелей» и иных испытаний.) В романах ощущается постоянное напряжение между реальным и идеальным, которое разрешается только в своем идеальном синтезе – идеальном царстве. (Герой подчас принимает реальных рыцарей за ангелов, как это произошло с Персивалем у Кретьена)137.
В самом Граале видели олицетворение некоего мистического рыцарского начала, символ высшего совершенства. Он становится эмблемой мировой «христианской империи», мечта о которой была столь характерна для XIII века и для идеологии ордена тамплиеров. Постепенно идейным центром артуровского королевства становится уже не двор Артура, а полный чудес замок Грааля, охраняемый его почти божественным воинством: и начало артурова царства связывается уже не с мифологическими событиями «темных веков» истории, а с переносом на Британские острова священных христианских реликвий. Теперь на смену бездумным поискам приключений приходят осмысленные и богоугодные деяния, ведущие прежде всего к моральному совершенствованию рыцаря и к установлению справедливости и гармонии в мире. Сама роль короля Артура претерпевает дальнейшую трансформацию: этот персонаж утрачивает былую активность, превратившись даже не в верховного беспристрастного судью в делах доблести и чести, а в некоего бесстрастного созерцающего наблюдателя, проводящего свои дни в Камелоте. «Артур лишается истории: у его королевства нет ни начала, ни конца, оно как бы существует вечно. Нет у него и четких географических границ: это уже не королевство Британия, а какая-то всемирная империя, без конца и края». На смену мифологизации истории приходит историзация мифа138.
Грааль теперь уже кажется не объектом, которого желают достичь и получить, но самим процессом поиска. Он одновременно и цель, и действие, он – истина и путь к ней. Неслучайно Грааль предстает в романном цикле в самых разных формах – чаши, камня, книги. Внешнее и внутреннее в нем почти неразличимы. Но прежде всего Грааль – это символ и олицетворение власти – для его обладателя нет ничего невозможного. Но власть всегда то, чем она представляется подвластным: лица и маски власти многообразны, сама же власть неизменна и едина. Мистерия Грааля – это мистерия безграничной власти, которая предписывает свой собственный Закон, и средневековый миф о Граале – это рассказ о поисках такого Закона, основание которого в небесной, неземной истории.
Разница между магической и мистической ментальностью заключена в том, что первая поддается влиянию этих неведомых сил и сама пытается на них воздействовать: «эго» получает власть над неведомыми силами, а через них над людьми и вещами; мистическое же отношение к вещам не устанавливает никаких отношений с «эго», но стремится проникнуть выше и за его пределы. «Аллегория есть уподобление неких малых вещей великим: например, дня – году, недели – веку, человека – сословию или городу, племени, народу и множеству подобного» (Иоахим Флорский). В языческой древности религии обладали более магико-эгоцентрическим характером, тогда как христианство с его духовной ориентацией обрело последовательно мистическое воззрение: переход от более конкретного к более духовному типу мышления происходил уже во времена Карла Великого, открыв тем самым дорогу золотому веку мистики.
Обращение Персиваля к христианскому отшельнику можно расценивать как шаг в сторону от эгоистической ментальности рыцарства в сторону большей духовности, от наивных рыцарских идеалов Круглого стола он вновь обращается к активной духовной традиции, идущей от Франциска Ассизского и Иохима Флорского.
«Лебединый рыцарь» Лоэнгрин выступает как духовный продолжатель Персиваля, а сам Персиваль предстает в лучезарном облике Лоэнгрина. И это воплощение исторически является в той земле, которая при распаде большого государства Каролингов на восточную и западную части образовала промежуточную полосу. Присутствие в миссии Лоэнгрина умершего Персиваля становится гарантией судеб всего христианского Запада: «из царства мертвых Западу позволено ожидать руководства и защиты Хранителя Грааля – могучие защитники христианской миссии Европы». Но это – уже не что иное, как «катехон», и поэма о Лоэнгрине ободряюще воздействовала на рыцарство в его борьбе против реальных врагов – сарацин и мадьяр.
Роману о Граале судьбой было назначено возродить во всем блеске славу утраченного мира древних мистерий. Истина веры должна была противостоять наступлению враждебной христианству арабско-аристотелевской рассудочности и схоластики. Однако действующая на земле личность не должна была ссылаться только на то, что она действует силами умершего или совершает свои поступки по поручению мистического сообщества Грааля: ее деяния должны были убеждать сами собой. Средние века требовали от того, кто намерен был подвизаться в общественной и политической жизни, известных полномочий, которые бы обретались либо кровным родством в смысле законов благородного происхождения, либо наследованием священства в смысле церковной иерархии. «Служитель же Грааля был не вправе опираться на такие авторитеты: само влияние Грааля, передающееся от человека к человеку как пробуждение в душах чистейших духовных сил, свидетельствовало за посланца Грааля. И ничего больше»139. Только пробудившийся к свободе, сумевший распутать клубок собственной судьбы, был способен понять всю запутанность человеческого существа: тогда он начинал задумываться над упорядочиванием судеб: в сфере духа задавать вопросы – значит еще и познавать, и само познание оказывается целебной силой.
Грааль сам отбирал достойнейших быть допущенными к власти. Он диктовал нормы отбора и называл имена избранников. Это был неписаный, но вечно действующий закон, который находился в распоряжении самых достойных. Существование Грааля уже само по себе предполагало ситуацию драматической борьбы против сил зла, хаоса, и этой борьбе придавались поэтическое звучание и яркая красочность. Эстетика света, характерная для рыцарства (и сопутствующего эпохе стиля готики), также приобретала некие метафизические черты (описываемые Вольфрамом красоты и чудеса замка Грааля – не менее важные элементы для легенды, чем авантюрные героические подвиги или куртуазное поклонение Даме). В Граале сочетались «солнечные» силы духовного происхождения и «лунные» силы физического: все кровные связи, передающиеся по наследству в определенном предрасположении, управляются луной; солнечный импульс проявляется, когда происходит смешение крови, когда космополитическая сущность растворяет лунную или кровную, связи племенного родства, когда все идет к тому чтобы произвести на земле единое человечество. В средневековом мышлении архангел Гавриил олицетворял первую тенденцию, архангел Михаил – вторую140.
Старый король Грааля обозначил доминанту коллективного бессознательного и воплощенный в человеческом сознании Богообраз: он сам – «живущий лишь по видимости» – персонифицировал еще более древний ветхозаветный и языческий образ Бога и отца, выражая архаическое, отсталое сознание человечества. Грааль же как принцип индивидуальности в этой ситуации становится инструментом обретения целостности и единства с Богом: смерть «старого короля» и его искупление руками Персиваля, видимо, и означала цель поисков этого последнего. И здесь замок Грааля как бы дополняет собой образ Небесного Иерусалима, но также связан с мистической идеей «царской могилы», иномирного или райского сада и таинственного центра мира: эта идея иномирного Иерусалима, который еще важнее отвоевать, чем земной город, играла важную роль в идеологии крестовых походов.
Достаточно долго в средневековой науке правосудие рассматривалось как «божество», а не просто добродетель (со ссылкой на то, что Юстиниан называл его богиней, а юрисконсультов ее жрицами). Грааль, видимо, включал в себя правосудие в качестве одной из своих функций и тем самым приобретал еще более высокий сакральный статус. Сам Грааль выполнял еще и своеобразные судебные функции: виновные изобличались здесь по тому проверочному факту, смогут ли они занять место за столом или почувствовать действие благодати, исходящей от Грааля: «Грааль представляет Христов обряд суда», Грааль действует как проецированная совесть, – ведь сила различения осуществляет себя внутри того, кто обладает Граалем, – так Иосиф Аримафейский вместе с Граалем получает по легенде познание добра и зла, а человек, не понимающий слов Грааля, погружается в мир темноты, где постоянно и безнадежно ожидается и повисает вопрос Персиваля, обращенный к королю.
В литературных образах Кретьена просматриваются смысловые значения, явно восходящие к литургии и Евангелию, а также к христианскому перетолковыванию Ветхого Завета. (У Робера де Борона цистерцианская направленность в трактовке сюжета Грааля была обусловлена также популярностью тамплиеров и их идей. Отмечалось и воздействие на концепцию романов о Граале политической идеологии крестовых походов, сформировавшейся под воздействием Бернара Клервосского и мистицизма сен-викторианской школы.)
В основе же своей христианскому рыцарскому идеалу в романе и обновленному миру Артура как сосредоточию всего светского рыцарства противопоставляется совершенно новый сакрально-мистический мир Грааля, представленный образом замка «Короля-рыбака». Фантастический мир Грааля – христианский в своей основе, но с заметным налетом апокрифических и гностических элементов: Грааль выступает символом сакральной власти, этос рыцарства проявляется здесь как некое эгоистическое начало и низшая форма социальности, как низшая форма на пути духовного становления и совершенствования личности. Все дальнейшее развитие легенды о Граале только усиливало элементы религиозной аллегории и мистики, отражавшей аскетические идеалы рыцарско-монашеских орденов. (Контраст между идеальным светским рыцарем артуровского круга Гавейном, неспособным найти Грааль, и Персивалем, которому предназначалось возглавить духовно-рыцарское братство Грааля, так и остается важным пунктом легенды)141.
«Там, где согласие, там и воля. А там, где воля, там свобода». Плотские положения не подчиняются Закону Бога и естественные влечения сближают человека с животными. Только добродетельное согласие отличает человека от зверя, но не может согласиться с духом плоть, опутанная соблазнами, но свобода воли как свойство души специфична только для человека (Бернар Клервосский). Грааль становился источником метафизической легитимизации власти – в нем заключалось некое легитимирующее основание для государя, который вследствие этого уже не нуждался ни в каком другом обосновании своего сана. Символ имел самое непосредственное отношение к статусу государя: «И если столь земля грешна, что государя лишена, дарован будет государь Граалем, как бывало встарь» (Вольфрам фон Эшенбах).