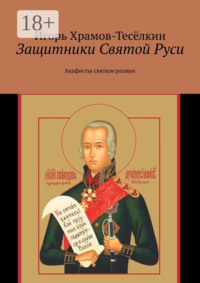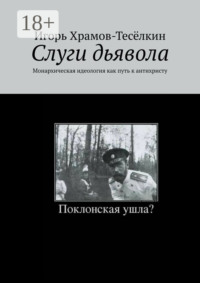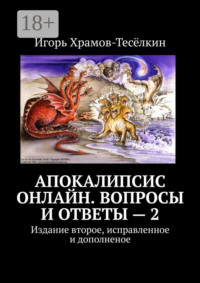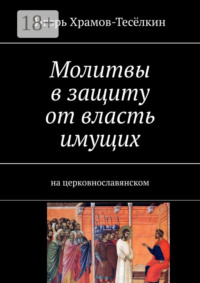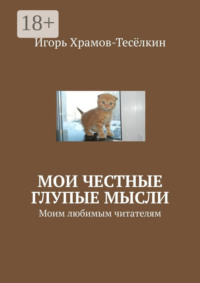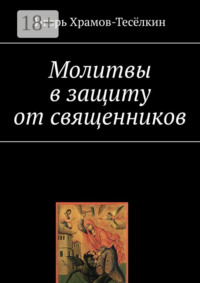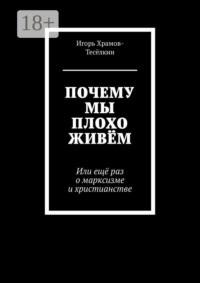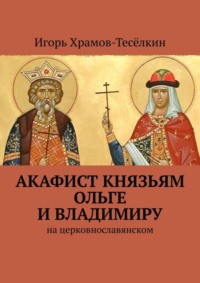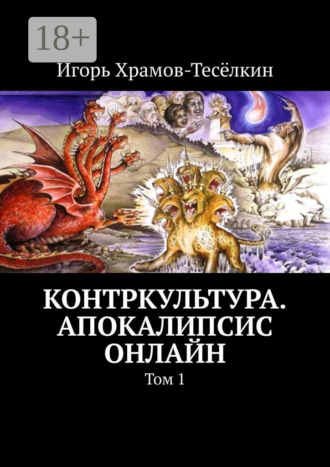
Контркультура. Апокалипсис онлайн. Том 1
Но я о другом. О том, что всё должно иметь свое значение. И если монах, давший обет отречения от мира, берет в руки гитару – в этом должен быть какой-то скрытый, возможно, не до конца пока понятный для нас смысл.
В поисках точного смысла, Или при чём всё-таки здесь модератор
Сам я отношусь к такому зрелищу, как священник, и уж тем более – монах с гитарой, крайне негативно. На мой взгляд – омерзительно. Так же, как юное розовощёкое ангелоподобное создание с коляской и бутылкой пива в руках, которое еще и курит. Хотя кто-то безусловно будет со мной не согласен.
Я сам читал откровение некоего профессора богословия, дающего гневную отповедь противникам… чего бы вы думали? – курения! Вот есть, дескать, кликуши, которые не переносят святыни: начинают бесноваться, извергать хулу и тому подобное. Так вот, оказывается, точно так же не переносят запаха табачного дыма! А почему? Да потому, что именно это, оказывается, и является настоящим запахом православного человека: до революции в России не курили только сектанты – штундисты, например, или баптисты…
Можете поискать эту книжечку в церковных библиотеках или Интернете и убедиться, что я не выдумываю. Как тут не вспомнить старую шутку о том, что настоящий мужчина должен быть могучий, колючий и вонючий…
Вот так. И зачем только, спрашивается, я просил перед чудотворной иконой моего любимого Николая – Угодника Саратовского бросить курить? И ведь бросил! А мог бы и дальше оставаться настоящим православным по духу. Может, бес помог?
Плохо, оказываемся, знаем мы Православие. Тошнит, говоришь, от табачного дыма? Значит ты – бесноватый! Святые отцы предсказывали, что в последние времена будут говорить: «Ты бесноватый, так как ты не беснуешься вместе с нами!» Вот, некоторые особо упертые фундаменталисты считают, что эти времена уже пришли. Надо бы им дать гневную и богословски аргументированную отповедь. Тем более что все ресурсы для этого есть. В отличие от мракобесов. Меня интересует одно: как отнесутся к такой вот проповеди и так крайне сложно относящиеся к преподаванию религии в школе учителя, когда прочитают откровения этого профессора, который утверждает, что курить, дескать, до некоторой степени даже «полезно». Ходят слухи, что именно ему и поручили редактирование учебника «Основ Православной культуры». Ну а кому же еще? Не мракобесу же какому—нибудь, который все о правилах Святых отцов норовит помянуть…
Кстати, о правилах Святых Отцов… Современный «продвинутый» читатель, возможно, удивится, но они относились к актерской профессии, мягко говоря, крайне неуважительно. Приблизительно так же, как относятся все традиционные конфессии к нетрадиционной сексуальной ориентации. Во всяком случае – до недавнего времени относились. С радостью надо отметить, что в последнее время положение резко начало меняться.
До такой степени, что, говорят, самые продвинутые профессора богословия уже начинают выступать, что они не видят ничего страшного в рукоположении содомитов. И некоторые особо пугливые граждане также поспешили увидеть в этом признак надвигающегося конца времён. Ну, смех один с этими мракобесами, верно?
Они утверждают, что, дескать, основоположники христианства относились к актерской профессии если и не как абсолютно греховной, то уж во всяком случае далеко не богоугодной. До такой степени, что женившийся на актрисе немедленно извергался не только из священного сана – из церковного клира, так же как женившийся на проститутке, а священнику канонами запрещено участвовать в публичных выступлениях.
Что ж теперь, монаху и гитару нельзя в руки взять? И на ударнике поиграть? Ну что за обскурантизм? Что, никак нельзя без этих устаревших правил и старомодных обрядов?
Нельзя. Так, во всяком случае, утверждают особо упёртые традиционалисты. Любое сообщество, и религиозное, держится в том числе и с помощью системы запретов. И забвение этих самых запретов привод к развалу общества.
Нельзя, например, воровать и убивать – иначе власть, нарушившая эти заповеди, дойдет до уничтожения собственного государства и собственного народа. Нельзя священнослужителю совершать поступки, несовместимые со званием священнослужителя. Выбираться в органы государственного управления, например. Опыт последних времен, в том числе и в России, неоспоримо свидетельствует об этом. В начале двадцатого века священнослужители по спискам различных партий избирались в Государственную думу. Ничего, кроме падения авторитета священства и Церкви в целом, это не принесло.
И уж тем более: существуют специальные каноны, согласно которым священнослужителю запрещено участвовать в публичных выступлениях, нарушение которых ведет к каноническим прещениям – вплоть до извержения священника из сана. Странно, что об этом почему-то не хотят вспоминать как участники таких выступлений, так и те, кто их на эти самые выступления столь щедро «благословляет».
Именно поэтому подобные, простите, «проявления демократии» вызывают столь резкую реакцию в среде верующих: они считают, что участие священнослужителя в концерте – это страшное каноническое преступление. Правильно считают? Или все-таки нет? Я хотел бы обратиться с этим вопросом к защитникам подобных «миссионерских подходов»: участие священника в концерте – это преступление или все-таки нет? Я никого ни в чем не обвиняю и не осуждаю, не пытаюсь «похлопать по плечу» и тем паче – унизить, не стараюсь нагнетать страсти. Я просто задаю конкретный вопрос и желаю получить на него по возможности логически точный и богословски аргументированный ответ. Так преступление или нет? Есть нарушение канонов или нет?
Повторюсь: мне хотелось бы получить точный ответ. Потому что действительно – есть люди, которые, по словам некоторых богословов, «когда им говорят, что жить надо по Евангелию, отвечают, что это невозможно». Дескать, и каноны-то устарели, и ни одно из положений Типикона на практике не соблюдается, и если в точности соблюдать все правила – и служить-то, пожалуй, будет некому, так что, говоря словами героя одного известного фильма, к людям надо быть помягше, а на вещи смотреть ширше».
Одна из таких вот статей, посвященных этой проблеме, называлась, если не ошибаюсь, что-то типа «Христианская совесть – наш модератор». В ней автор высказывает опасение, что вдруг вот кто-то «православный по формальным признакам и глубоко неправославный по духу» «попытается оскорбить архиерея». Странно, что автор ждёт опасности не от либеральной тусовки, а от человека православного. Право, странно. И «православный по формальным признакам, но глубоко неправославный по духу» – это как? Тот, например, кто на дух не переносит «новые формы миссионерства»? Дыма табачного, например, не переносит?
Совесть, как известно – глас Божий. Который, повторюсь, у больного человека может заглушаться, по словам Евангелия, «заботами и куплями житейским». У больного человека и совесть больная.
Кому-то стыдно за то, что в голодное время ему приходится воровать, чтобы выжить, кому-то – за то, что марка его машины не соответствует требованиям того круга, в который он стремится. У автора этих строк – руководителя пресс службы какой – там митрополии, с этим всё в порядке – он свои номарки, как новые русские – любовниц, раз в год аккуратно меняет. Но есть, простите, и иные представления о приличиях. И здесь как раз тот случай, когда совесть далеко не всегда соотносится с национальной и религиозной принадлежностью.
Настоятель большого – строящегося – храма и руководитель солидной – даже церковной – структуры – могут искренне считать, что им по статусу положено ездить на приличной иномарке, несмотря на то, что народ голодает. Как в одной старой книге о революции пожилой рабочий сделал замечание известному партийному функционеру: а что это вы, уважаемый, о народе-то печетесь, а сами в такие дорогие меха-то одеты? А тот ему – с большевистской принципиальностью: а что, по вашему, лучше бы мне лохмотья одеть? Стыдно, дескать, было бы перед мировым пролетариатом.
Разные бывают представления о совести. Как и сама совесть.
А вот что такое модератор – я, признаться, не знаю. Так же, как не знаю, что такое фьючерс, например, консалтинг, дистрибьютер и многие другие вошедшие в последнее время в моду иностранные слова, шуршащие, как конфетные фантики, развернув которые, с удивлением убеждаешься, что внутри – пустота. Моего гуманитарного образования -«классического», как сегодня принято говорить, университета и довольно-таки солидного опыта творческой работы – публикаций в отечественных и зарубежных, в том числе самых престижных, в том числе и посвящённых экономической проблематике, средствах массовой информации, оказывается, явно недостаточно для осознания всей этой современной премудрости.
Хотя, по мнению умных редакторов современных изданий, наверное, должен бы знать. Вероятно, что наши церковные бабушки, те самые «белые платочки», о которых так трогательно рассказывает Владыка Лонгин, также должны всю эту премудрость понимать. Увы, уверяю вас – знакомы с этими современными понятиями, мягко говоря, далеко не все. Чаще всего – наоборот.
Лично у меня слово «модератор» рифмуется со словом «реформатор». Может, поэтому при взгляде на то, как этими самыми понятиями наши «демократические» СМИ зачастую бесстыже манипулируют, пытаясь посеять в сознании совершенно чуждые и даже враждебные нам ценности, вспоминается почему-то поговорка о совести, на месте которой в результате демократических реформ что-то уж совершенно непонятное появилось. Может уже и модератор. Запросто. Лично я за последнее время вообще перестал чему-либо удивляться. Почти.
Потому что когда узнаю о некоторых либерально-церковных инициативах, всё-таки изумляюсь. Нет, и я против того, чтобы «стёб и ироническое осмысление церковной жизни» «становились нормами православного Интернета». Но вот к таким фактам, простите – как относиться? С глубоким воодушевлением и восторгом по поводу новых форм миссионерства и открывшихся в связи с этим горизонтов в церковной жизни? Как к «новой форме миссионерства»?
На книжном развале одного из храмов набрёл на книгу из серии «Миссионеры Третьего тысячелетия»: то ли «Апостолы среди нас», то ли «Мы сами себе апостолы», то ли что-то ещё столь же прогрессивное и значительное. Один из главных разделов книги посвящён миссии среди – ну, конечно же – любителей рока.
В качестве одного из главных достижений главный отец рок-миссионер приводит такой факт, как создание центров любителей рок-музыки при православных храмах. В Москве, оказывается, уже при каждом большом храме есть центр любителей рока. Не народного быта и творчества, не политики и истории и даже не родного языка…
«За всё время существования клуба у нас не было ни одной драки», – гордо рапортует о своем детище рок-игумен.
Читатель, тебя не преисполнило чувство гордости? Глаза не увлажнились? Сердце не затрепетало от восхищения и восторга? Подумайте только – каково достижение! И чего, правда, эти мракобесы постоянно твердят о любителях рока всякие гадости?
И всё же, думается, что о. миссионер явно поскромничал. Нужно было добавить: ни одного убийства, ни одной кражи, ни одного случая грабежа и изнасилования. Огласите весь список, пожалуйста! Может, быть – о чудо! – даже ни одного случая пьянства, употребления наркотиков и совращения малолетних? Уж похвастайтесь! Дайте отпор всяким там мракобесам! А то они всё твердят, что таких добрых, белых и пушистых любителей рока в реальной жизни попросту не бывает. Вот, можно, оказывается, в наше суперсверхпрогресивное время оставаться настолько тупым и зашоренным…
Мы, понятно, такими не будем. И всё же – в качестве примера – исключительно в интересах принципа соблюдения демократии – сошлюсь на мнение такого авторитетного специалиста, как иеромонаха Анатолия Берестова, в миру бывшим врачом-невропатологом, профессором медицины: «»… особо хочу отметить, что нет сатанизма без алкоголя, наркотиков, рок-музыки, секса, особенно группового…“ („Русский Дом №5—2001 Надежда Жуковская «Сатанисты»). Ну, это, как вы понимаете, пример из проклятого тоталитарного прошлого. Сегодня у нас в почёте иные – прогрессивные – демо-православные рок – ценности.
Монах, играющий рок – это уже норма церковной жизни? Священник, снимающийся в боевиках – это уже норма церковной жизни? Архиерей, который на всё это благословляет – это уже норма церковной жизни?
Некоторые люди, по старой интеллигентской привычке склонные к стёбу и ироническому осмыслению действительности, порой задают вопрос: а вот на рэкет у вас никак нельзя благословиться? На рейдерство? На проституцию? Что прикажете им отвечать? Возмутиться – и посоветовать: «лучше себя в чем-то изобличить. Не на людях, а на исповеди»? Они почему-то смеются. Вот ведь, ну нет в людях ничего святого. Недостаёт настоящей, понимаешь, воцерковленности.
Так может, сначала разобраться с воцерковлённостью? И ее признаками. Кто «православный по формальным признакам». И кто – «глубоко неправославный по формальному духу». Потому что здесь далеко не все так просто.
Достаточно сказать, что многое из того, что сегодня выдается – в том числе и церковными средствами массовой информации – «за новые формы миссионерства» не так давно было бы принято в церковной среде за откровенный сатанизм. Да что там – не так давно… Многими и сегодня это именно так и воспринимается. Попробуйте хотя бы «пошарить» по тому же самому Интернету, который просто «взрывается» после каждой такой либеральной инициативы. Люди возмущаются: как такие процессы в принципе совместимы с христианскими ценностями?
В самом деле: подумай, читатель, можешь ли ты представить себе, допустим, преподобного Силуана Афонского – с балалаечкой? Иже во святых отца нашего Серафима Саровского – с гармошечкой? Преподобного Амвросия Оптинского – с гитарой? Абсурд? Но сегодня именно это и происходит.
Что сказали бы наши предки, если бы приходской священник – в свободное, разумеется, от службы время – подрабатывал бы в театре? Не вытащили бы они такого священника – с величайшим позором – из храма и выкинули на улицу как гадкого, паршивого, мерзкого пса, которому ну никак не место в алтаре? Что было бы, вздумай правящий архиерей познакомить своих друзей – журналистов с таким вот пастырем (уж не говорю – провести пресс – конференцию)? В смысле – с правящим архиереем? Не трудился бы он, лишенный всех степеней священства, в качестве «черного» – самого простого – монаха на самых грязных работах в монастыре? И это, как вы понимаете, в наилучшем случае. В худшем – отлученный от Церкви, подвизался бы до конца жизни в либеральной прессе как «демократический» журналист. Говоря «в лучшем», я, как вы, надеюсь, понимаете, имею в виду прежде всего спасение души.
Сегодня мы и в Церкви здорово продвинулись в плане демократизации, поэтому такое сегодня, понятно, нам не грозит. Можно только порадоваться. И чего, спрашивается, эти мракобесы всё так недовольны?
Они, видите ли, твердят, что священники и монахи, совмещающие служение Богу с актерской работой, являются чуть ли не исчадиями дьявола и самыми настоящими слугами сатаны. Ну разве не обскурантизм?
Интересно, кстати, тот самый рок – монах, что так активно «миссионерствует» с гитарой – он как своё миссионерство с монашеством сочетает? Так и бродит, неприкаянный вместо монастыря по разным там рок – тусовкам, или «тихо, сам с собою» играет свой рок в монашеской келье? Тогда как к его увлечению другие монахи относятся? Не знаю, как монахам, а мне вот от таких вот прогрессистов очень даже дурно становится. Даже при условии разделительного барьера в виде кирпичной стенки.
Успокойся, читатель. Проблема – признаюсь честно – несколько притянута за уши. Поскольку самый известный на весь мир рок – монах, настоятель одного из самых известных московских храмов, причастный к церковной издательской деятельности, почтённый ныне саном игумена, ни одного дня в своей жизни в монастыре не прожил. Ныне в сан игумена возводят, надо понимать, не за монашеские подвиги, а за совершенно другие достижения. За «нетрадиционный миссионерский подход».
Господа, здесь некоторые всякие там мракобесы интересуются: ваша «миссия» – не от слова «мессир»?
В первые годы после революции были очень популярны так называемые «звёздные ходы», во время которых комсомольские активисты пародировали представителей старого, отжившего мира – попов, буржуев, и прочих представителей, как тогда было принято говорить, «контры». Причем представители старого мира, как вы понимаете, изображались в самом уродливом карикатурном виде.
Поп с гармошкой, рядом мулла с балалайкой – оба, естественно, безобразно пьяные… Ну что еще можно было сделать, коли старый мир рушится, а в новом – более демократическом и прогрессивном – тебе ну никак не находилось места? Нет, не достойного, а просто – места? «Кишкой последнего попа последнего царя удавим…» Только «хряпнуть» с горя сто грамм и затянуть частушку: «Ох, накажи меня, Всевышний, за греховные дела, ее щёчка, словно вишня, с ума батюшку свела…» Ну и так далее. Даже поговорка ходила, которую я помню еще со школьного детства: «на фига попу гармонь»? Так говорили, когда хотели подчеркнуть ну что-то уж совершенно нелепое. Но было и еще одно существенное отличие, о котором сегодня почему-то стараются не упоминать.
Тогда попы были ряженые
Сегодня батюшки освоили ударник и бас – гитару. Но главное даже не это. Подразумевается, что священники эти – настоящие. Что ни говори – прогресс. Что ж, остается только вспомнить изречение одного ну очень популярного сегодня богослова – большого друга наших рок – музыкантов и, как подчеркнуто трогательно говорит о своем друге один известный миссионер, «Ванечки Охлобыстина», (которого все, в том числе и суперпатриотические СМИ, почему-то до сих пор позиционируют как священника), «христианство – одно из немногих учений, уверенных в своем полном и окончательном поражении». Вперед, к Апокалипсису?
Только не вздумайте гневно сжимать кулаки и метать громы и молнии, воинствующе отстаивая свои устаревшие фундаменталистские представления о христианстве! Ведь мы «договорились» – вести себя максимально корректно и сдержанно… А не то, не дай Бог, чересчур несдержанных грозят отлучить. Пока от малого сообщества – «православного» Интернета. И это грозит вполне реальными, в том числе и материальными, неприятностями. Вплоть до запрета на профессию. В этом автор смог убедиться на собственном опыте.
Я не знаю, чем отличается «православный» Интернет от «неправославного». По одной простой причине – у меня нет ни того, ни другого. Не позволяют материальные средства. За тексты, подобные этому, денег почему-то не платят. Наверное, подразумевается, что для того, чтобы за тексты платили, они должны быть более демократичными и продвинутыми. Может, я каких-то таких слов красивых не знаю, которые сегодня в нашем прекрасном языке, как те известные грибы, выросли. Может, взгляды какие – то там не те – недостаточно по нынешним временам или не туда православно – продвинутые.
Поэтому очень хотелось бы разобраться. Правда – очень интересно. Это меня, да и, как вы понимаете, не только для меня, жизненно важно. Если просто хотим – жить. И здесь, Там. Поэтому будем разбираться. Мальчик, который пишет эти строки, знаете ли, очень настырный. У него это – с детства. Ну да, все мы родом из детства. С него и начнём.
Про русский шансон
Так вот, в детстве мама принесла магнитофонную кассету с песнями начинающего тогда становиться популярным Булата Окуджавы. Он, наряду с Высоцким и Евтушенко стал настоящим кумиром тогдашней интеллигенции. Прослушав их, автор – тогда двенадцатилетний мальчик – был просто потрясён их – нет, даже не примитивизмом – вопиющим, ханжеским просто каким – то – музыкальным, текстовым и прочим во всех смыслах убожеством.
За что же Ваньку – то Морозова —Ведь он ни в чём не виноватОна сама его морочилаА он ни в чём не виноватОна по площади ходилаМахала белою рукой,И страсть Морозова схватилаСвоей мозолистой рукойИ такие вот шедевры – на протяжении целой магнитофонной кассеты. Прослушав их, мальчик заподозрил, что автор стихов просто не очень дружит с русским языком. Познакомившись с творчеством Булата Шалвовича поближе, мальчик с грустью убедился, до какой же степени он был прав.
Тогда он – двенадцатилетний мальчик – попытался обратить внимание мамы и остальных родственников на, мягко говоря, ну очень невысокое качество с таким восторгом принимаемых родственниками текстов и услышал возмущённое: «Да ты что! Это же настоящий шансон!» И, судя по их реакции, по настоящему умный, продвинутый человек ну просто обязан уважать шансон. Иначе какой же он продвинутый? У него же – из чувства протеста, наверное – на всю оставшуюся жизнь сложилось мнение, что шансон – это нечто пошлое и низкотребное. Так он привык оставлять недоеденный кусок на тарелке, несмотря на уговоры бабушки: «Ну, доешь, сынок, это же твоя сила…» Из чувства протеста, да… Тем более что музыка на вечеринке взрослых звучала так громко – именно тогда, когда он собирался уснуть. Прямо как сейчас, да… Впрочем, когда мальчик вырос, он убедился, что детские впечатления – самые верные.
А мальчик, который вырос и пишет эту книгу, хотел бы обратить внимание взрослых: никого ничего нельзя заставить сделать насильно. То есть можно, конечно, но чаще всего получается обратный эффект. В его жизни, во всяком случае, всё произошло именно так. У вас, возможно, всё было по другому, и вы с ним не согласитесь. Ну да, всё правильно – это ведь его жизнь и его книга…
Страсти по Андрею»
«Мне бы хотелось им сказать только то, чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили быть наедине с самим собой побольше. Беда нынешней молодёжи в том, что они стараются объединиться на основе каких-то шумных действий, порой агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким – это плохой симптом. Мне кажется, каждый человек должен учиться с детства находиться одному. Это не значит, быть одиноким. Это значит – не скучать с самим собой. Человек, скучающий от одиночества, находится в опасности с нравственной точки зрения»
Андрей Тарковский
Игорь Тесёлкин Браво!!! Страсть по шуму – это стремление заполнить пустоту в собственной душе, чтобы одному не было за неё стыдно. Человек чувствует этот стыд и пытается подсознательно от него избавиться, заполнив себя посторонним шумом!
Точно так же, как священник, который не хочет молиться, заполняет своё «мессиРонерское пространство» рок – музыкой. Чем может – тем и заполняет…
Все мы родом из детства
или история одного мальчика, который ну никак не мог стать глупым
Запах Родины
или
Где живут добрые пчёлы, настоящие дяди и делают правильный мёд
Батюшка подарил мне баночку мёда. Хорошую такую баночку – довольно приличную – двухлитровую. Ему её привёз какой-то его родственник: у них там, в Башкирии, делают мёд – по их мнению – самый лучший в мире, в доказательство чего на пакете шариковой ручкой гордо написано английскими буквами: «WORLD CLASS» – «мировой класс».
Правду написано – мёд действительно потрясающий.
Мы, диабетики, очень любим всё сладкое. Сами понимаете – больше всего всегда хочется именно того, что нельзя. А тот самый родственник из Башкирии авторитетно заявлял, что этот мёд можно есть даже диабетикам – его родственница, у которой тоже диабет, очень даже здорово этот мёд употребляет.
У них там, в Башкирии, на этот мёд объявляется охота, организованная по всем правилам медовой осадной науки. После зимней спячки, ближе к лету пчёл, как маленьких детей после школы, вывозят на лесное пахучее разнотравье, где они на лесных пахучих опушках делают правильный мёд. Его им помогают делать добрые дяди, которые этому доброму делу специально учились: у родственников или других добрых дядь, которые учили их правильно ухаживать за пчёлами, которые в благодарность за это будут давать им правильный мёд.
Это дело так по-русски и называется: «дело», и оно, как тот ихний бизнес, очень даже прибыльное, только наше – правильное и настоящее. Если только, конечно, делают его настоящие дяди – без лжи и обмана, а не новые, которых сегодня столько у нас развелось, так что иногда кажется, что только они и остались. Хотя это не так. Кто-то всё-таки у нас в стране такой вот настоящий мёд ещё делает.
Это не просто мёд – это дивное пахучее чудо, упакованное в стеклянную банку. Съешь ложечку этого пахучего дива – да не ложечку даже – так – буквально крошечку – на кончике ложки – будто поляну в рот засунул.