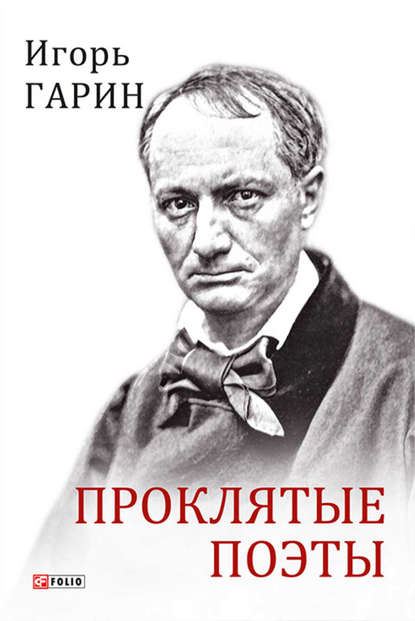По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятые поэты
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говорят: декаданс – искусство смерти, тоски, страха, ночи, мрака. Но разве всё это – не жизнь? Если хотите материализованный «декаданс» – это коммунизм, в избытке давший нам испытать предчувствия поэтов. Но вот незадача: поэтов-визионеров ликвидировали, коммунизм признали…
И будет жуткий страх, —
Так близко, так знакомо, —
Стоять во всех углах
Тоскующего дома.
Не из-за этих ли стихов пришлось предавать остракизму Федора Сологуба, в четырех строках выразившего суть «великой эпохи» «мелких бесов»?..
Темы боли, болезни, смерти, насилия неслучайно зазвучали у декадентов и поэтов отчаяния, – визионеры, они уже знали, кто и что грядет. Отнюдь не случайно этой «болезнью» наиболее часто поражались поэты России и Германии…
В писаниях наших символизм постоянно соприкасается или даже отождествляется с декадансом. Это вполне естественно для людей, глухих к «песне и плачу»[6 - Л. Тайад определял декадентов как «поколение, которое поет и плачет».], к экзистенциальному чувству «заброшенности», к предельной открытости и исповедальности, вообще – к правде внутренней жизни.
Не отождествляя два художественных феномена, отмечу, что оба связаны с естественной творческой эволюцией, открытием человеческой души, поиском прибежища в инстинктивной жизни «сердца», обострением естественных для нормального человека чувств одиночества, опустошенности и безнадежности, стремлением к «иным» мирам и преодолению рационализма и рассудочности сознания. «Меланхолия» Верлена, «сатанизм» Бодлера и Мореаса, «внутреннее кладбище» Лафорга и Бонфуа, «усталость от жизни» Самена, изощренно-утонченная чувственность Ренье и Гюисманса, Монтескью и Швоба, нервное ерничество Корбьера – всё это естественные человеческие реакции на реалии жизни, на дофрейдовское осознание бессознательного, на «кризис современной эпохи».
С историко-литературной точки зрения декаданс может быть понят как «повторное» (постсентименталистское и постромантическое) и, разумеется, модифицированное открытие человеческой «души», противопоставившее декадентов – в культурной ситуации 2-й половины XIX в. – реалистам-натуралистам, с одной стороны, и парнасцам – с другой.
Что касается символистов, то такое открытие было им чрезвычайно близко, поскольку вспоены они были из того же источника. Кроме того, как и декаденты, символисты остро переживали чувство неудовлетворенности миром, мучались ощущением того, что перед ними – превратная реальность, что подлинностью обладает какая-то другая действительность, пусть и неявленная, но зато отвечающая сокровенным упованиям «души». Точкой соприкосновения для декадентов и символистов служил также акцент на интуиции (а не на разуме) как подлинном источнике поэзии, равно как и представление о существовании особого, аффективного (символисты скажут: «суггестивного») языка поэзии, отличного как от рационально-логического языка науки, так и от языка повседневного общения.
Разница же между обоими литературными направлениями ярче всего проявлялась в том, что декадентская «душа» стремилась всеми силами отгородиться от отвратительной для нее действительности, замкнуться в собственной скорлупе, изолировавшись даже и от чужих «душ» (если она и хотела контакта с людьми, то прежде всего такого, при котором «другие» должны тебя понимать, а не ты – понимать других), тогда как символистская «душа», напротив, мечтала не о том, чтобы отвергнуть мир, а о том, чтобы его превозмочь, томилась по воплощенности, искала слияния индивидуальных «я» как друг с другом, так и с «душою мироздания», тем самым противостоя имморалистическим, а зачастую и разрушительно-нигилистическим настроениям «упадочников».
Все это создавало почву для взаимной борьбы между символистами и декадентами, но также и для их взаимного влияния друг на друга. Действительно, с одной стороны, многие поэты, начинавшие как декаденты, довольно легко (в некоторых случаях на время, а в некоторых – навсегда) переходили в символистский лагерь или подпадали под его влияние (Ренье, Самен и др.); и это понятно, поскольку декаденты, в сущности, томились той же «тоской по идеалу», что и символисты, хотя и искали его, как правило, на путях самоуглубления, возведенного в абсолют, где обрести идеал весьма затруднительно. Символизм же как будто подсказывал выход из тупика.
Мне представляется, что не следует отсчитывать историю французского символизма с маллармистских «вторников» на рю де Ром, собиравших юные дарования (Рене Гиль, Гюстав Кан, Пьер Кийар, Эфраим Микаэль, Анри де Ренье, Франсис Вьеле-Гриффен и др.) – литературный салон стал только актом оформления поэтического направления, самоопределением всего того, что так долго с начала XIX века зрело в художественной культуре. Здесь речь идет не о рождении самого символизма, без которого невозможно никакое искусство, но об эволюции от романтизма к Парнасу, проклятым и, наконец, собственно к суггестивному искусству, способному вызвать не только «целостную эмоцию» или «душевную музыку», но – при всех попытках Малларме избегать «метафизических» проблем – к бытийному, онтологическому искусству, позволяющему поэту и читателю устремиться к точке Омега, Божественному Ничто, абсолютному углублению, слиянию с иными мирами.
…Тайный смысл высшего, метафизического искусства – в замене жертвенной, золотой короны монарха (короны, изливающей свет, во внешнее), темной короной посвящения, короной абсолютного углубления.
Писателю-метафизику не стоит, я думаю, уклоняться от встреч с любыми силами, из какой бы бездны они ни исходили. Он должен вмещать всё, не отождествляя себя целиком ни с чем. Каково же тогда отношение всех этих действий к личному высшему «я» писателя?
…В основе всего должна лежать несгибаемая, чудовищная воля к трансцендентному; писатель-метафизик должен стремиться быть трансцендентнее своих самых трансцендентных образов. Проходя через ад, он должен быть Вергилием, а не отождествлять себя полностью с грешником. В небе он должен сохранить отблеск противоположной реальности. В идеале его высшее «я» должно быть неким аналогом Божественного Ничто, неким вечным холодом, трансцендентным по отношению ко всякой движущейся реальности.
Что же касается искусства, то для писателя-метафизика его искусство должно стать его личным путем. Таким образом, не метафизика становится сферой искусства, а само искусство, по крайней мере, в отношении к его творцу становится формой метафизики.
Сказанное позволяет полностью солидаризироваться с Т. С. Элиотом, полагавшим, что французские символисты, особенно Жюль Лафорг и Тристан Корбьер, были наследниками английских поэтов-метафизиков, Донна и Драйдена. Еще – Уильяма Блейка, гения поэзии Лоса, чьи «Ворота Стоунхенджа» – высокий символизм и чья максима: «Я не хочу рассуждать или сравнивать: мое дело творить» – эпиграф к символизму.
Философия французского символизма, производная от немецкого, берет свое начало в лекциях по эстетике Теодора Жуффруа и эссеистике Александра Гиро.
Т. Жуффруа:
Любой предмет, любая мысль в определенной мере являются символами… Всё, что мы непосредственно воспринимаем, символично, ибо вызывает в нас представление о чем-то ином, чего мы не воспринимаем… Романтик… стремится одухотворить материальную природу… Поэзия есть не что иное, как чреда символов, предстающих уму, дабы он смог постигнуть незримое.
А. Гиро:
В глазах поэта всё символично; в нескончаемой смене образов и сравнений он пытается доискаться до следов того изначального языка, который был дан человеку Богом и слабым отражением которого являются наши современные языки… Если поэзия ищет символы в природных предметах, то, стало быть, она разыскивает в явлениях этого мира всевластную причину, их породившую; ведь любое явление, как и любое существо, таит в себе скрытый смысл, который и надобно обнаружить!
Хотя французские поэты начала XIX века еще глухи к «голосу бытия» («музыке мира», по словам Шарля Сент-Бёва), романтический нарциссизм и самовлюбленный индивидуализм мало-помалу начинают сдавать позиции смыслообретению, постижению существования, «ужасу перед жизнью и восторгу жизни», как потрясающе точно определил свои поэтические искания Шарль Бодлер.
Стефан Малларме считал, что случайность не может породить стих – он должен быть тщательно выверен и призван – так или иначе – отразить тайный смысл бытия. Эволюция поэзии – движение от непосредственно-данного к сущностному: «Глагол, будучи прежде всего грезой и песнью, обретает в устах поэта – благодаря властной потребности, заложенной в любом искусстве, связанном с воображением, – всю свою потенциальную мощь». Но движение к сущностному неотделимо от таинства, поэтому тайна всегда присутствует в стихах:
Вероятно, решительно во всем заложено нечто сокровенное, и я твердо верю в существование чего-то потаенного, некоего скрытого и недоступного значения, заключенного в самых обыденных вещах; и стоит этой стихии устремиться по тому или иному руслу, как она становится реальностью – но уже не реальностью в себе, а реальностью, представленной, к примеру, на бумаге, в словесном воплощении, – вот где царит мрак; словно жадный смерч, она захватывает все, что ни встретится на пути, все обволакивает густой, непроницаемой пеленой.
Поэзия есть то, что позволяет выразить – с помощью человеческого языка, обретшего свой исконный ритм, – потаенный смысл разноликого бытия: тем самым она дарует нашей бренной жизни подлинность, и поэтому идеал всякой духовной деятельности заключен именно в ней.
Поэзия – не прибавление к природе и не отражение ее, цель поэзии – установить связи между явлениями, то, что ускользает от нас. Поэзия – движение к таинству Идеи, к чистой Гармонии:
Однако и здесь можно удовольствоваться тем же – сопоставлять разные грани, отыскивать новые, насколько хватит нашего усердия, вызывать к жизни порой прекрасные в своей многосмысленности образы, украшающие вершины, где эти грани сходятся. Все переплетения образуют гигантскую арабеску, где можно разглядеть то самые причудливые, головокружительные извивы, то будоражащие сочетания красок. Каждым таким зигзагом арабеска не сбивает с толку, но озаряет, а ее тождество самой себе, умерщвляя ее, одновременно приносит ей освобождение. Все мотивы складываются в безмолвную мелодию, созвучную нашим чувствам и образующую некий логический ряд. И как бы ни билась в агонии Химера, пораженная золотыми стрелами, как бы ни сочились ее раны кровью самоочевидного, однообразного бытия – никакие корчи не способны ни искривить, ни уничтожить той вездесущей Линии, которая соединяет всякую точку с другой такой же точкой, ради того чтобы возникла Идея, не всегда являющаяся в человеческом обличье и тем более таинственная, чем больше в ней чистой Гармонии.
В. Брюсов:
Пойми, пойми, все тайны в нас,
В нас сумрак и рассвет…
Ф. Сологуб:
Я – бог таинственного мира,
Весь мир – в одних моих мечтах.
В свое время Борхес говорил о поэзии, что она, по определению, таинственна, ибо никто не знает до конца, что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто в принципе не до конца знаемое и самим автором. Откуда и появляется феномен многих вариаций одного и того же. Вариации есть форма проявления символичности. Символ (не знак!) всегда есть то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как существующие. И наши философские произведения, и их чтение есть форма существования этого не до конца понимаемого, его бесконечной длительности и родственной самосогласованности. Бытие произведений и есть попытка интерпретировать их и понять, подставляя в виде вариаций текста наши же собственные состояния, которые есть тогда форма жизни произведения. Например, можно сказать так: то, что я думаю о Гамлете, есть способ существования Гамлета.
Философские проблемы становятся таковыми, если они ставятся под луч одной проблемы – конечного смысла. Для чего вообще все это? Для чего мироздание? Для чего «я» и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живет существо, которое не создано, а создается. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не завершен, не готов.
Интеллектуальная привлекательность символизма определяется метафоричностью, смелыми поворотами мысли, плюралистическим богатством содержания, той головокружительной зыбкостью, которая определяет его антидогматизм и открытость миру. «Прекрасная трудность» символизма – в богатстве идей и духовной палитры художника, в его вечном стремлении двигаться дальше, дальше, дальше…
«Темнота» символа связана с таинством обозначаемой им вещи. Как семя определяет формы и качество будущего плода, так в символе уже заключены, скрыты, интимно присутствуют грядущие смыслы, неведомые самому поэту качества, зачатки того, что явится лишь другим временам. «Темнота» символа – это его многозначность, мифологичность, плодотворность, метафоричность, скрытая в нем обильность.
Поэты часто черпают символы из мифов именно по причине бессознательной глубины человеческих чаяний.
Анри де Ренье:
Легенды и Мифы всегда были в чести у поэтов, как в прошлом, так и ныне. Оно и понятно: ведь они показывают в преображенном и возвеличенном виде Человека и его Жизнь. Они создают идеализированную реальность, где человечество представляется таким, каким оно хотело бы себя видеть.
К Легендам и Мифам прибегали всегда, не углубляясь в даль времен, хотя сделать это было бы нетрудно; напомним лишь романтиков и парнасцев, охотно к ним обращавшихся. Достаточно привести в пример Гюго и Леконта де Лиля. Но, что весьма существенно, их обоих прельщала в Мифах и Легендах пластическая красота и высокий строй. Они описывают, пересказывают это мифическое прошлое. Превращают себя как бы в его современников. Для них это освященные веками предания. Боги и Герои – чуть ли не исторические персонажи, принадлежащие волшебной истории, миру, который в силу своей удаленности представляется более прекрасным, благородным, колоритным, чем наш.
Современные же поэты относятся к Мифам и Легендам иначе. Они ищут их непреходящий идеальный смысл, видят символы там, где их предшественники видели лишь сказки да басни. Миф подобен раковине на берегу времени, в которой слышен шум моря, и это море – человечество. Это раковина Тритона, поднесенная к устам идеи.
Но мифы тоже бывают разные: первобытные, закабаляющие, высокодуховные, делающие человека деятельным и свободным.
В. П. Зинченко:
У нас, выросших в условиях рабства, атрофирована установка к выбору, к самостоятельному действию. Воспитанные на коллективных первобытных мифах, мы не имеем опыта в создании своих собственных, индивидуальных мифов. Когда первые разрушаются или разрушены, мы ожидаем, что кто-то предложит нам новые.
Символ – не только язык мифа, но и знак искусства вообще. Символизм присущ любой литературной школе. Символизм как самостоятельное направление отличается лишь осознанием пронизанности искусства символикой, поиском символа «на дне бытия».
Современное искусство определяет себя как искусство символическое. Символизм в искусстве есть утверждение живой цельности переживания, как начала группировки образов. В выражении образами переживания сила искусства, а не в системе образов, использованных переживанием. Символизм – это метод выражения переживаний в образах.
Символизм подчеркивает динамику творчества. Вот почему он против школьного педантизма как начала статического в искусстве.
Символизм есть соединение двух порядков последовательностей: последовательности образов и последовательности переживаний, вызывающих образ. Здесь вся сила в последовательности переживаний. Образы – это эмблематическая роспись переживаний, не более. Переживание зацветает образами. В символизме реальная связь за пределами видимости.
Гносеология освобождает субъект познания от времен и сроков теоретически. Задача человечества практически осуществить эту свободу, и задача осуществима в принципе творчества ценностей. Но теория ценностей есть теория творчества. Это и есть теория символизма.
И будет жуткий страх, —
Так близко, так знакомо, —
Стоять во всех углах
Тоскующего дома.
Не из-за этих ли стихов пришлось предавать остракизму Федора Сологуба, в четырех строках выразившего суть «великой эпохи» «мелких бесов»?..
Темы боли, болезни, смерти, насилия неслучайно зазвучали у декадентов и поэтов отчаяния, – визионеры, они уже знали, кто и что грядет. Отнюдь не случайно этой «болезнью» наиболее часто поражались поэты России и Германии…
В писаниях наших символизм постоянно соприкасается или даже отождествляется с декадансом. Это вполне естественно для людей, глухих к «песне и плачу»[6 - Л. Тайад определял декадентов как «поколение, которое поет и плачет».], к экзистенциальному чувству «заброшенности», к предельной открытости и исповедальности, вообще – к правде внутренней жизни.
Не отождествляя два художественных феномена, отмечу, что оба связаны с естественной творческой эволюцией, открытием человеческой души, поиском прибежища в инстинктивной жизни «сердца», обострением естественных для нормального человека чувств одиночества, опустошенности и безнадежности, стремлением к «иным» мирам и преодолению рационализма и рассудочности сознания. «Меланхолия» Верлена, «сатанизм» Бодлера и Мореаса, «внутреннее кладбище» Лафорга и Бонфуа, «усталость от жизни» Самена, изощренно-утонченная чувственность Ренье и Гюисманса, Монтескью и Швоба, нервное ерничество Корбьера – всё это естественные человеческие реакции на реалии жизни, на дофрейдовское осознание бессознательного, на «кризис современной эпохи».
С историко-литературной точки зрения декаданс может быть понят как «повторное» (постсентименталистское и постромантическое) и, разумеется, модифицированное открытие человеческой «души», противопоставившее декадентов – в культурной ситуации 2-й половины XIX в. – реалистам-натуралистам, с одной стороны, и парнасцам – с другой.
Что касается символистов, то такое открытие было им чрезвычайно близко, поскольку вспоены они были из того же источника. Кроме того, как и декаденты, символисты остро переживали чувство неудовлетворенности миром, мучались ощущением того, что перед ними – превратная реальность, что подлинностью обладает какая-то другая действительность, пусть и неявленная, но зато отвечающая сокровенным упованиям «души». Точкой соприкосновения для декадентов и символистов служил также акцент на интуиции (а не на разуме) как подлинном источнике поэзии, равно как и представление о существовании особого, аффективного (символисты скажут: «суггестивного») языка поэзии, отличного как от рационально-логического языка науки, так и от языка повседневного общения.
Разница же между обоими литературными направлениями ярче всего проявлялась в том, что декадентская «душа» стремилась всеми силами отгородиться от отвратительной для нее действительности, замкнуться в собственной скорлупе, изолировавшись даже и от чужих «душ» (если она и хотела контакта с людьми, то прежде всего такого, при котором «другие» должны тебя понимать, а не ты – понимать других), тогда как символистская «душа», напротив, мечтала не о том, чтобы отвергнуть мир, а о том, чтобы его превозмочь, томилась по воплощенности, искала слияния индивидуальных «я» как друг с другом, так и с «душою мироздания», тем самым противостоя имморалистическим, а зачастую и разрушительно-нигилистическим настроениям «упадочников».
Все это создавало почву для взаимной борьбы между символистами и декадентами, но также и для их взаимного влияния друг на друга. Действительно, с одной стороны, многие поэты, начинавшие как декаденты, довольно легко (в некоторых случаях на время, а в некоторых – навсегда) переходили в символистский лагерь или подпадали под его влияние (Ренье, Самен и др.); и это понятно, поскольку декаденты, в сущности, томились той же «тоской по идеалу», что и символисты, хотя и искали его, как правило, на путях самоуглубления, возведенного в абсолют, где обрести идеал весьма затруднительно. Символизм же как будто подсказывал выход из тупика.
Мне представляется, что не следует отсчитывать историю французского символизма с маллармистских «вторников» на рю де Ром, собиравших юные дарования (Рене Гиль, Гюстав Кан, Пьер Кийар, Эфраим Микаэль, Анри де Ренье, Франсис Вьеле-Гриффен и др.) – литературный салон стал только актом оформления поэтического направления, самоопределением всего того, что так долго с начала XIX века зрело в художественной культуре. Здесь речь идет не о рождении самого символизма, без которого невозможно никакое искусство, но об эволюции от романтизма к Парнасу, проклятым и, наконец, собственно к суггестивному искусству, способному вызвать не только «целостную эмоцию» или «душевную музыку», но – при всех попытках Малларме избегать «метафизических» проблем – к бытийному, онтологическому искусству, позволяющему поэту и читателю устремиться к точке Омега, Божественному Ничто, абсолютному углублению, слиянию с иными мирами.
…Тайный смысл высшего, метафизического искусства – в замене жертвенной, золотой короны монарха (короны, изливающей свет, во внешнее), темной короной посвящения, короной абсолютного углубления.
Писателю-метафизику не стоит, я думаю, уклоняться от встреч с любыми силами, из какой бы бездны они ни исходили. Он должен вмещать всё, не отождествляя себя целиком ни с чем. Каково же тогда отношение всех этих действий к личному высшему «я» писателя?
…В основе всего должна лежать несгибаемая, чудовищная воля к трансцендентному; писатель-метафизик должен стремиться быть трансцендентнее своих самых трансцендентных образов. Проходя через ад, он должен быть Вергилием, а не отождествлять себя полностью с грешником. В небе он должен сохранить отблеск противоположной реальности. В идеале его высшее «я» должно быть неким аналогом Божественного Ничто, неким вечным холодом, трансцендентным по отношению ко всякой движущейся реальности.
Что же касается искусства, то для писателя-метафизика его искусство должно стать его личным путем. Таким образом, не метафизика становится сферой искусства, а само искусство, по крайней мере, в отношении к его творцу становится формой метафизики.
Сказанное позволяет полностью солидаризироваться с Т. С. Элиотом, полагавшим, что французские символисты, особенно Жюль Лафорг и Тристан Корбьер, были наследниками английских поэтов-метафизиков, Донна и Драйдена. Еще – Уильяма Блейка, гения поэзии Лоса, чьи «Ворота Стоунхенджа» – высокий символизм и чья максима: «Я не хочу рассуждать или сравнивать: мое дело творить» – эпиграф к символизму.
Философия французского символизма, производная от немецкого, берет свое начало в лекциях по эстетике Теодора Жуффруа и эссеистике Александра Гиро.
Т. Жуффруа:
Любой предмет, любая мысль в определенной мере являются символами… Всё, что мы непосредственно воспринимаем, символично, ибо вызывает в нас представление о чем-то ином, чего мы не воспринимаем… Романтик… стремится одухотворить материальную природу… Поэзия есть не что иное, как чреда символов, предстающих уму, дабы он смог постигнуть незримое.
А. Гиро:
В глазах поэта всё символично; в нескончаемой смене образов и сравнений он пытается доискаться до следов того изначального языка, который был дан человеку Богом и слабым отражением которого являются наши современные языки… Если поэзия ищет символы в природных предметах, то, стало быть, она разыскивает в явлениях этого мира всевластную причину, их породившую; ведь любое явление, как и любое существо, таит в себе скрытый смысл, который и надобно обнаружить!
Хотя французские поэты начала XIX века еще глухи к «голосу бытия» («музыке мира», по словам Шарля Сент-Бёва), романтический нарциссизм и самовлюбленный индивидуализм мало-помалу начинают сдавать позиции смыслообретению, постижению существования, «ужасу перед жизнью и восторгу жизни», как потрясающе точно определил свои поэтические искания Шарль Бодлер.
Стефан Малларме считал, что случайность не может породить стих – он должен быть тщательно выверен и призван – так или иначе – отразить тайный смысл бытия. Эволюция поэзии – движение от непосредственно-данного к сущностному: «Глагол, будучи прежде всего грезой и песнью, обретает в устах поэта – благодаря властной потребности, заложенной в любом искусстве, связанном с воображением, – всю свою потенциальную мощь». Но движение к сущностному неотделимо от таинства, поэтому тайна всегда присутствует в стихах:
Вероятно, решительно во всем заложено нечто сокровенное, и я твердо верю в существование чего-то потаенного, некоего скрытого и недоступного значения, заключенного в самых обыденных вещах; и стоит этой стихии устремиться по тому или иному руслу, как она становится реальностью – но уже не реальностью в себе, а реальностью, представленной, к примеру, на бумаге, в словесном воплощении, – вот где царит мрак; словно жадный смерч, она захватывает все, что ни встретится на пути, все обволакивает густой, непроницаемой пеленой.
Поэзия есть то, что позволяет выразить – с помощью человеческого языка, обретшего свой исконный ритм, – потаенный смысл разноликого бытия: тем самым она дарует нашей бренной жизни подлинность, и поэтому идеал всякой духовной деятельности заключен именно в ней.
Поэзия – не прибавление к природе и не отражение ее, цель поэзии – установить связи между явлениями, то, что ускользает от нас. Поэзия – движение к таинству Идеи, к чистой Гармонии:
Однако и здесь можно удовольствоваться тем же – сопоставлять разные грани, отыскивать новые, насколько хватит нашего усердия, вызывать к жизни порой прекрасные в своей многосмысленности образы, украшающие вершины, где эти грани сходятся. Все переплетения образуют гигантскую арабеску, где можно разглядеть то самые причудливые, головокружительные извивы, то будоражащие сочетания красок. Каждым таким зигзагом арабеска не сбивает с толку, но озаряет, а ее тождество самой себе, умерщвляя ее, одновременно приносит ей освобождение. Все мотивы складываются в безмолвную мелодию, созвучную нашим чувствам и образующую некий логический ряд. И как бы ни билась в агонии Химера, пораженная золотыми стрелами, как бы ни сочились ее раны кровью самоочевидного, однообразного бытия – никакие корчи не способны ни искривить, ни уничтожить той вездесущей Линии, которая соединяет всякую точку с другой такой же точкой, ради того чтобы возникла Идея, не всегда являющаяся в человеческом обличье и тем более таинственная, чем больше в ней чистой Гармонии.
В. Брюсов:
Пойми, пойми, все тайны в нас,
В нас сумрак и рассвет…
Ф. Сологуб:
Я – бог таинственного мира,
Весь мир – в одних моих мечтах.
В свое время Борхес говорил о поэзии, что она, по определению, таинственна, ибо никто не знает до конца, что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто в принципе не до конца знаемое и самим автором. Откуда и появляется феномен многих вариаций одного и того же. Вариации есть форма проявления символичности. Символ (не знак!) всегда есть то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как существующие. И наши философские произведения, и их чтение есть форма существования этого не до конца понимаемого, его бесконечной длительности и родственной самосогласованности. Бытие произведений и есть попытка интерпретировать их и понять, подставляя в виде вариаций текста наши же собственные состояния, которые есть тогда форма жизни произведения. Например, можно сказать так: то, что я думаю о Гамлете, есть способ существования Гамлета.
Философские проблемы становятся таковыми, если они ставятся под луч одной проблемы – конечного смысла. Для чего вообще все это? Для чего мироздание? Для чего «я» и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живет существо, которое не создано, а создается. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не завершен, не готов.
Интеллектуальная привлекательность символизма определяется метафоричностью, смелыми поворотами мысли, плюралистическим богатством содержания, той головокружительной зыбкостью, которая определяет его антидогматизм и открытость миру. «Прекрасная трудность» символизма – в богатстве идей и духовной палитры художника, в его вечном стремлении двигаться дальше, дальше, дальше…
«Темнота» символа связана с таинством обозначаемой им вещи. Как семя определяет формы и качество будущего плода, так в символе уже заключены, скрыты, интимно присутствуют грядущие смыслы, неведомые самому поэту качества, зачатки того, что явится лишь другим временам. «Темнота» символа – это его многозначность, мифологичность, плодотворность, метафоричность, скрытая в нем обильность.
Поэты часто черпают символы из мифов именно по причине бессознательной глубины человеческих чаяний.
Анри де Ренье:
Легенды и Мифы всегда были в чести у поэтов, как в прошлом, так и ныне. Оно и понятно: ведь они показывают в преображенном и возвеличенном виде Человека и его Жизнь. Они создают идеализированную реальность, где человечество представляется таким, каким оно хотело бы себя видеть.
К Легендам и Мифам прибегали всегда, не углубляясь в даль времен, хотя сделать это было бы нетрудно; напомним лишь романтиков и парнасцев, охотно к ним обращавшихся. Достаточно привести в пример Гюго и Леконта де Лиля. Но, что весьма существенно, их обоих прельщала в Мифах и Легендах пластическая красота и высокий строй. Они описывают, пересказывают это мифическое прошлое. Превращают себя как бы в его современников. Для них это освященные веками предания. Боги и Герои – чуть ли не исторические персонажи, принадлежащие волшебной истории, миру, который в силу своей удаленности представляется более прекрасным, благородным, колоритным, чем наш.
Современные же поэты относятся к Мифам и Легендам иначе. Они ищут их непреходящий идеальный смысл, видят символы там, где их предшественники видели лишь сказки да басни. Миф подобен раковине на берегу времени, в которой слышен шум моря, и это море – человечество. Это раковина Тритона, поднесенная к устам идеи.
Но мифы тоже бывают разные: первобытные, закабаляющие, высокодуховные, делающие человека деятельным и свободным.
В. П. Зинченко:
У нас, выросших в условиях рабства, атрофирована установка к выбору, к самостоятельному действию. Воспитанные на коллективных первобытных мифах, мы не имеем опыта в создании своих собственных, индивидуальных мифов. Когда первые разрушаются или разрушены, мы ожидаем, что кто-то предложит нам новые.
Символ – не только язык мифа, но и знак искусства вообще. Символизм присущ любой литературной школе. Символизм как самостоятельное направление отличается лишь осознанием пронизанности искусства символикой, поиском символа «на дне бытия».
Современное искусство определяет себя как искусство символическое. Символизм в искусстве есть утверждение живой цельности переживания, как начала группировки образов. В выражении образами переживания сила искусства, а не в системе образов, использованных переживанием. Символизм – это метод выражения переживаний в образах.
Символизм подчеркивает динамику творчества. Вот почему он против школьного педантизма как начала статического в искусстве.
Символизм есть соединение двух порядков последовательностей: последовательности образов и последовательности переживаний, вызывающих образ. Здесь вся сила в последовательности переживаний. Образы – это эмблематическая роспись переживаний, не более. Переживание зацветает образами. В символизме реальная связь за пределами видимости.
Гносеология освобождает субъект познания от времен и сроков теоретически. Задача человечества практически осуществить эту свободу, и задача осуществима в принципе творчества ценностей. Но теория ценностей есть теория творчества. Это и есть теория символизма.