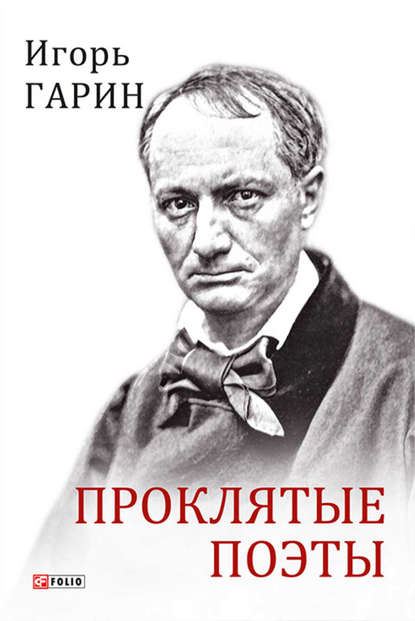По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятые поэты
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэзия – теургия.
Поэзия – живопись.
Поэзия – музыка слова.
Поэзия – отзвук души поэта на печаль бытия.
Поэзия – ослепительные «вспышки бытия».
Поэзия – ложь.
Поэзия – игра.
Поэзия – форма познания.
Поэзия – обновление мира словом.
Поэзия – поиск и добыча «гормона фантазии».
Поэзия – высшая форма человеческого общения.
Поэзия – реорганизованное время.
Поэзия – продленное существование – самого поэта и его героев.
Искусство не отражает времени, а выражает его внутреннюю суть, предвосхищает то, что должно в нем случиться. Оно непостижимым образом ощущает глухое, подспудное течение бытия, из которого происходят конкретные события и материализуется самое жизнь. Поэзия и есть это предвосхищение. Ей и музыке дано предугадать судьбы мира.
И. Бродский: «Стихотворение есть результат известной необходимости: оно неизбежно, и форма его неизбежна тоже».
Поэзия неопределима, потому что в сущности своей иррациональна, недоступна для анализа, досознательна – стихийный прорыв глубины, сочетание верхнего интеллектуального слоя с темной бездной…
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Г. Померанц:
Ошибочно, нечаянно вырвавшееся слово. Забытое слово. Бессмысленное слово. Слово в беспамятстве, в безумии. Господи, сказал я по ошибке. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Среди кузнечиков беспамятствует слово. Может быть, это точка безумия. Может быть, это совесть твоя…
В стихах Мандельштама главное всегда недосказано, забыто, не должно быть сказано:
Останься пеной, Афродита!
И, слово, в музыку вернись…
Сейчас уже есть много прекрасных работ, распутывающих ткань ассоциаций Мандельштама – то, что в них сказано. Но остается недоступно для анализа и открывается только интуиции то, что не сказано. Ткань ассоциаций сплетается в кольцо, а внутри – пустота. И из пустоты свет. Этот свет чувствуется (или не чувствуется) непосредственно, без всякого знания, из чего свито кольцо, и никакое знание фактуры кольца не может здесь ничего переменить:
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хотел сказать, —
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Я сотни раз перечитывал это стихотворение (большей частью наизусть) и погружался во тьму, и там, во тьме, следовал за слепым поводырем. Который познает, не зная, кого и что он познает.
Можно ли говорить о мировоззрении там, где царствует осязание истины?
Дионисий Ареопагит пытался понять Бога через перечисление его имен. Поэзию можно тоже определить, как определяют понятия математики или физики. Но… нельзя определить неопределимое. «Поэзия преодолевает логическую грамматику, как крылья – земное тяготение».
Фома Аквинский считал, что источник красоты произведения искусства заключен в творце, но сам художник является произведением Творца. Поэтому замысел и план произведения сообщаются художнику высшей творческой силой, исходящей из божественной воли. Вещи являются прекрасными постольку, поскольку они уподоблены абсолютной и совершенной божественной красоте. Художник в известной мере «обречен» на творение: он должен создавать то, что ему предназначено, и совершенно не важно, как он поступает, важно, как он творит.
Согласно эстетике неотомизма, посредством искусства человек способен приобщиться к высшему, божественному: знак и символ представляют собой «эманацию божественного». Искусство как способ подражания Богу является системой спиритуалистических символов, своего рода «сиянием благодати» – в нем истина сосуществует с благом. Это не означает синтез эстетического с этическим – это свидетельствует: искусство призвано быть «полнотой бытия», оно должно включать в свой состав правду «Цветов Зла», не противопоставлять, а синтезировать.
Искусство, поэзия самодостаточны: все необходимые ресурсы они черпают из самих себя.
Искусство есть область автономных форм; после заката метафизики им уже не правят никакие высшие инстанции; но поскольку оно вырастает из внутреннего – донаучного – опыта, ему можно, пожалуй, еще обоснованнее, чем раньше, приписывать религиозный смысл.
По Кузмину, задача поэта – молиться своему Богу, но делать это хорошо.
Поэзия – одна из высших форм одухотворения, озаряющего магическим светом внутреннее видение поэта. Отсюда ее теургия, ее божественность.
Для символистов поэзия была религиозным действом – магическим актом творения и покорения действительности. Поэтическому языку придавались теургические свойства: магичность, энергия, действенная сила. Вяч. Иванов писал, что еще эллины перенесли представление о «языке богов» на язык поэзии.
Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, присвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение… Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой.
Слово-символ обещало стать священным откровением… Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей жизни и в своем творчестве… миросозерцание мистического реализма или – по слову Новалиса – миросозерцание «магического идеализма».
В «Магии слов» Андрей Белый разделяет «слово-термин», бытующее в языке общения или науки, и «слово-символ» – поэтическое, образное слово, «музыку невыразимого». Поэтическое слово он называет «живым и действенным», термин – «мертвым словом». Первое – «слово-плоть», «воплощенное слово», второе – тотальная, массовая речь. «Живую речь» поэзии, дающую поэту-жрецу магическую власть над миром, он уподобляет «священному наречию», языку, на котором «были даны человечеству высочайшие откровения».
А. Белый:
Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно – выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы.
А. Жид:
Поэт – человек, умеющий смотреть. Что же он видит? – Рай.
Ибо Рай – повсюду; не стоит доверяться чувственным видимостям. Видимости – это воплощение несовершенства, а потому они способны лишь невнятно проговаривать сокрытые в них истины. Что же до Поэта, то ему надлежит расслышать эти истины с полуслова – и возвестить их в полный голос. А Ученый? Он ведь тоже открывает архетипические первообразы вещей и законы, ими управляющие; он пересоздает мир, доходя до идеальной простоты, связывающей формы наиболее естественным образом.
Правда, открывая эти изначальные формы, Ученый предварительно перебирает множество конкретных примеров, двигаясь медленным, индуктивным путем; ему нужна доказательность, и потому, имея дело с чувственными феноменами, он не позволяет себе произвольных догадок.
Поэт же – творец, и ему это ведомо; вот почему любая вещь для него – это повод для догадки, символ, способный явить свой идеальный первообраз; Поэт знает, что чувственные феномены – только предлог, только внешний покров, на котором и останавливается взгляд непосвященного; под покровом, однако, скрыт первообраз, все время как бы нашептывающий: Я здесь.
Поэт благоговейно созерцает символы, в безмолвии склоняется над ними, стремясь проникнуть в самое сердце вещей; и когда, словно ясновидящему, ему открывается наконец Идея, равно как и сокровенное, мировое Число ее Бытия, лишь воплощенное в несовершенной форме, – тогда Поэт впивает эту Идею и, не заботясь более о той тленной форме, в которую облекло ее время, придает ей новую, подлинную, бессмертную, одним словом, от века предназначенную форму – форму райскую и прозрачную, словно кристалл.
Поэзия – живопись.
Поэзия – музыка слова.
Поэзия – отзвук души поэта на печаль бытия.
Поэзия – ослепительные «вспышки бытия».
Поэзия – ложь.
Поэзия – игра.
Поэзия – форма познания.
Поэзия – обновление мира словом.
Поэзия – поиск и добыча «гормона фантазии».
Поэзия – высшая форма человеческого общения.
Поэзия – реорганизованное время.
Поэзия – продленное существование – самого поэта и его героев.
Искусство не отражает времени, а выражает его внутреннюю суть, предвосхищает то, что должно в нем случиться. Оно непостижимым образом ощущает глухое, подспудное течение бытия, из которого происходят конкретные события и материализуется самое жизнь. Поэзия и есть это предвосхищение. Ей и музыке дано предугадать судьбы мира.
И. Бродский: «Стихотворение есть результат известной необходимости: оно неизбежно, и форма его неизбежна тоже».
Поэзия неопределима, потому что в сущности своей иррациональна, недоступна для анализа, досознательна – стихийный прорыв глубины, сочетание верхнего интеллектуального слоя с темной бездной…
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.
Г. Померанц:
Ошибочно, нечаянно вырвавшееся слово. Забытое слово. Бессмысленное слово. Слово в беспамятстве, в безумии. Господи, сказал я по ошибке. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Среди кузнечиков беспамятствует слово. Может быть, это точка безумия. Может быть, это совесть твоя…
В стихах Мандельштама главное всегда недосказано, забыто, не должно быть сказано:
Останься пеной, Афродита!
И, слово, в музыку вернись…
Сейчас уже есть много прекрасных работ, распутывающих ткань ассоциаций Мандельштама – то, что в них сказано. Но остается недоступно для анализа и открывается только интуиции то, что не сказано. Ткань ассоциаций сплетается в кольцо, а внутри – пустота. И из пустоты свет. Этот свет чувствуется (или не чувствуется) непосредственно, без всякого знания, из чего свито кольцо, и никакое знание фактуры кольца не может здесь ничего переменить:
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хотел сказать, —
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
Я сотни раз перечитывал это стихотворение (большей частью наизусть) и погружался во тьму, и там, во тьме, следовал за слепым поводырем. Который познает, не зная, кого и что он познает.
Можно ли говорить о мировоззрении там, где царствует осязание истины?
Дионисий Ареопагит пытался понять Бога через перечисление его имен. Поэзию можно тоже определить, как определяют понятия математики или физики. Но… нельзя определить неопределимое. «Поэзия преодолевает логическую грамматику, как крылья – земное тяготение».
Фома Аквинский считал, что источник красоты произведения искусства заключен в творце, но сам художник является произведением Творца. Поэтому замысел и план произведения сообщаются художнику высшей творческой силой, исходящей из божественной воли. Вещи являются прекрасными постольку, поскольку они уподоблены абсолютной и совершенной божественной красоте. Художник в известной мере «обречен» на творение: он должен создавать то, что ему предназначено, и совершенно не важно, как он поступает, важно, как он творит.
Согласно эстетике неотомизма, посредством искусства человек способен приобщиться к высшему, божественному: знак и символ представляют собой «эманацию божественного». Искусство как способ подражания Богу является системой спиритуалистических символов, своего рода «сиянием благодати» – в нем истина сосуществует с благом. Это не означает синтез эстетического с этическим – это свидетельствует: искусство призвано быть «полнотой бытия», оно должно включать в свой состав правду «Цветов Зла», не противопоставлять, а синтезировать.
Искусство, поэзия самодостаточны: все необходимые ресурсы они черпают из самих себя.
Искусство есть область автономных форм; после заката метафизики им уже не правят никакие высшие инстанции; но поскольку оно вырастает из внутреннего – донаучного – опыта, ему можно, пожалуй, еще обоснованнее, чем раньше, приписывать религиозный смысл.
По Кузмину, задача поэта – молиться своему Богу, но делать это хорошо.
Поэзия – одна из высших форм одухотворения, озаряющего магическим светом внутреннее видение поэта. Отсюда ее теургия, ее божественность.
Для символистов поэзия была религиозным действом – магическим актом творения и покорения действительности. Поэтическому языку придавались теургические свойства: магичность, энергия, действенная сила. Вяч. Иванов писал, что еще эллины перенесли представление о «языке богов» на язык поэзии.
Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, присвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение… Они знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой.
Слово-символ обещало стать священным откровением… Художникам предлежала задача цельно воплотить в своей жизни и в своем творчестве… миросозерцание мистического реализма или – по слову Новалиса – миросозерцание «магического идеализма».
В «Магии слов» Андрей Белый разделяет «слово-термин», бытующее в языке общения или науки, и «слово-символ» – поэтическое, образное слово, «музыку невыразимого». Поэтическое слово он называет «живым и действенным», термин – «мертвым словом». Первое – «слово-плоть», «воплощенное слово», второе – тотальная, массовая речь. «Живую речь» поэзии, дающую поэту-жрецу магическую власть над миром, он уподобляет «священному наречию», языку, на котором «были даны человечеству высочайшие откровения».
А. Белый:
Но живое, изреченное слово не есть ложь. Оно – выражение сокровенной сущности моей природы; и поскольку моя природа есть природа вообще, слово есть выражение сокровеннейших тайн природы.
А. Жид:
Поэт – человек, умеющий смотреть. Что же он видит? – Рай.
Ибо Рай – повсюду; не стоит доверяться чувственным видимостям. Видимости – это воплощение несовершенства, а потому они способны лишь невнятно проговаривать сокрытые в них истины. Что же до Поэта, то ему надлежит расслышать эти истины с полуслова – и возвестить их в полный голос. А Ученый? Он ведь тоже открывает архетипические первообразы вещей и законы, ими управляющие; он пересоздает мир, доходя до идеальной простоты, связывающей формы наиболее естественным образом.
Правда, открывая эти изначальные формы, Ученый предварительно перебирает множество конкретных примеров, двигаясь медленным, индуктивным путем; ему нужна доказательность, и потому, имея дело с чувственными феноменами, он не позволяет себе произвольных догадок.
Поэт же – творец, и ему это ведомо; вот почему любая вещь для него – это повод для догадки, символ, способный явить свой идеальный первообраз; Поэт знает, что чувственные феномены – только предлог, только внешний покров, на котором и останавливается взгляд непосвященного; под покровом, однако, скрыт первообраз, все время как бы нашептывающий: Я здесь.
Поэт благоговейно созерцает символы, в безмолвии склоняется над ними, стремясь проникнуть в самое сердце вещей; и когда, словно ясновидящему, ему открывается наконец Идея, равно как и сокровенное, мировое Число ее Бытия, лишь воплощенное в несовершенной форме, – тогда Поэт впивает эту Идею и, не заботясь более о той тленной форме, в которую облекло ее время, придает ей новую, подлинную, бессмертную, одним словом, от века предназначенную форму – форму райскую и прозрачную, словно кристалл.