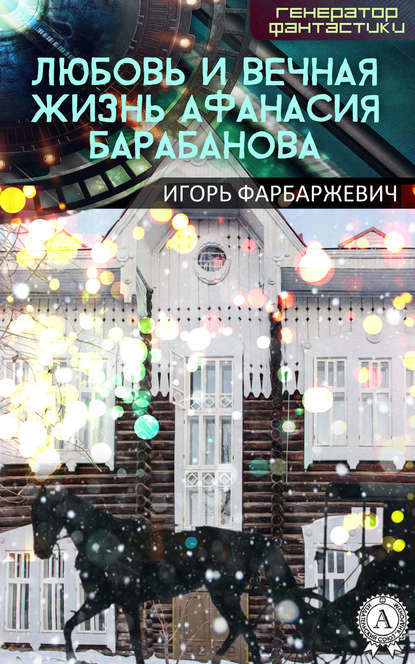По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любовь и вечная жизнь Афанасия Барабанова
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И оба смутились.
– Простите, ваши благородия, – обратился к обоим стоящий рядом извозчик, которому было не до их взаимных любезностей. – Ехать будете? А то нонче морозно в Москве. Точь-в-точь, как в двенадцатом годе.
– А вы при Наполеоне в Москве были? – живо поинтересовался Штернер.
– Под Москвой, барин, в Можайске партизанил, – бойко отвечал извозчик. – Потом на Смоленской дороге французиков гнал. Уж как нам, привычным к морозу, холодно было, а им-то – матушка моя родна! Мёрзли французики, как вороны бескрылые. Иной раз глядеть на них жалко было, не то, что убивать, пардоньте!
– А почему «вороны»? – не понял Штернер.
Извозчик удивлённо на него посмотрел, не понимая, как это умный с виду барин задаёт такой нелепый вопрос.
– Так ведь, налетели на нас, как вороны! И, что ни слово, то карканье!.. А носы их видели?… Вороний клюв поменьше будет!
Сравнение француза с вороном было точно подмечено. Если к тому же прибавить русскую поговорку, которая родилась в дни отступления непобедимой когда-то армии Бонапарта: «Голодный француз и вороне рад».
– Так ехать будете, али как?… – напомнил о себе извозчик.
– Будем-будем! – обнадёжил его Атаназиус и спросил Татьяну. – Вам в какие края, Татьяна Николаевна?
– На Воронцовскую улицу, что на Таганке, – ответила девушка, беря в одну руку деревянный сундучок, в другую плетёную корзинку высматривая свободного извозчика. – Прощайте, господин Атаназиус! Счастливо вам до места доехать! Рада была познакомиться…
– Погодите! – прервал её Штернер. – Я тоже рад! Но давайте сделаем вот что… Сначала я провожу вас на Таганку, а уж потом вернусь на станцию и возьму возок до одной из деревень.
– Зачем же обо мне беспокоиться? – вспыхнула Татьяна. – Сама доеду. Не маленькая. У вас дела поважней будут…
– И возок новый ни к чему брать, – встрял в разговор извозчик.
– Так мне потом по делам из города ехать… – начал было объяснять ему Штернер.
– А вы, барин, меня послушайте! И вы, сударыня, тоже. Довезу вас обоих – и на Воронцовскую, и… в какую деревню?…
– В Воробейчиково, – уточнил Штернер.
– Знаю такую. Аккурат перед Зуевом.
– Точно, – кивнул молодой человек и обратился к девушке. – Ну, так как, поедем?…
Та уже не отнекивалась.
– Часа за три управимся, – добавил извозчик, ставя в сани их общую поклажу. – Ежели «на чай» дадите…
– И на рюмку водки тоже, – шутя, пообещал Атаназиус, подстраиваясь под «русский обычай» и помогая Татьяне усесться в санях.
– Крепких напитков не пью, – твёрдо сказал извозчик.
– Что так?
– Жена против.
– Так ведь не узнает.
– Болеет она у меня, барин. Не первый год. Лучше деньгой взять. На всякие там снадобья и на дохтура.
– Вас как зовут? – спросила Татьяна.
– Никифором, барышня. Двадцатый год в Москве извозничаю.
Штернер сел в сани рядом с Филипповой. Никифор стал укладывать под ноги новых пассажиров мешки с сеном, а после прикрыл плечи обоих волчьей шубой.
– Ну, с Богом! – сказал он, резво взобравшись на облучок и беря в горсть концы вожжей. – Фьють, Сивый! Двигай, голубь ты мой!
Глава II
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Твоё отрадное участье,
Твоё вниманье, милый друг,
Мне снова возвращают счастье
И исцеляют мой недуг.
Кондратий РЫЛЕЕВ
Само собой вышло, что в пути Атаназиус коротко рассказал Татьяне о своей жизни.
Та, конечно, ахала и охала, иногда даже с недоверием смотрела ему в глаза, радовалась его победам, горевала над его бедами – за четверть часа прожила всю его жизнь и даже в конце немного подустала и поняла, что повзрослела сразу на несколько лет.
Читатель вскоре и сам узнает историю жизни Атаназиуса Штернера. Только немного позже. Ибо начни я её рассказывать сейчас – Татьяна точно опоздает в дом купчихи Владыкиной, которая со всех краёв России набирала молодых девушек для кружевных работ, на кои был небывалый спрос в Москве уже несколько лет – и среди клиентов, и среди иностранных портних.
А вот о самой Татьяне Филипповой кое-что расскажу, чтобы иметь о ней хоть какое представление.
Приехала Татьяна Николаевна из Вязьмы, а родилась восемнадцать лет тому назад в семье мещанина.
Отец её, Николай Иванович, был аптекарем, ну и лекарем впридачу. Выучился он этому мастерству у одного пленного француза уже после войны с Наполеоном. Как война закончилась, все пленные «жоржи», «гюставы» и «эжены» давным-давно до дома добрались, кроме тех, кто навсегда в российской земле окопался, а полковой лекарь мсье Жюль, как попал в плен к русскому солдату Николаю Филиппову, так и остался у того после войны. И не по своей воле. А условием его вызволения было одно: научить Николая Ивановича аптекарскому искусству, ну и лекарскому впридачу.
Учителем мсье Жюль наверняка был хорошим, ибо спустя год заспешили к Таниному отцу все хворые с окрестных мест – кто за микстурой, кто за мазью, кому кровь пиявкой пустить, кому зуб «из сердца вон» вырвать. Он и перевязку на рану наложит, и вывих после драки вправит, и перелом залечит. А иногда и от «червивого плода любви», прости, Господи, избавит или, наоборот, счастливые роды примет. Всё умел Филиппов. За это и сделали его власти уездным лекарем. А там и все права мещанина дали по закону.
А мсье Жюля пришлось отпустить на волю. Жаль было с ним расставаться. Только – дал слово, держись! А француз, не будь дураком, да и остался в России. Уехал, правда, из Вязьмы куда подальше, чтоб не быть своему ученику конкурентом. И где он, и что с ним – никто с той поры не знает.
Хотела стать Татьяна отцу лекарской помощницей, вроде сестры милосердия, но он не позволил. Не бабье это дело! Тут-то матушка и взяла судьбу дочери в свои руки.
Была Галина Алексеевна чудо-вышивальщицей. Одной иглой с цветными нитями могла целую картину насочинить – и закат со звёздами, и поле в ромашках, и озеро с лебедями, и церковь с маковкой. И витязя на коне! Стоит под ними каждая травиночка, будто живая! Подуй – зашевелится!
А ещё вязала отменно – и на спицах, и на коклюшках. Но, главное, к чему Бог приспособил – это плесть кружева! Ах, облака небесные! Паутинки морозные! Снежинки льняные!..
Да только не для всех эта профессия. В таком деле персты нужны чуткие, очи острые, вкус тонкий. А главное, душа должна быть певучей.
Кто видел ажурные кружева бельгийские, из льна, выращенного на полях Брабанта, не поверит, что кружева русских мастериц, взращённые из полевых голубых цветков – от Пскова до Владимира – были такими же изящными, утончёнными, иной раз даже мудрёней по рисунку.
Лён зелёной при горе, при крутой!
– Простите, ваши благородия, – обратился к обоим стоящий рядом извозчик, которому было не до их взаимных любезностей. – Ехать будете? А то нонче морозно в Москве. Точь-в-точь, как в двенадцатом годе.
– А вы при Наполеоне в Москве были? – живо поинтересовался Штернер.
– Под Москвой, барин, в Можайске партизанил, – бойко отвечал извозчик. – Потом на Смоленской дороге французиков гнал. Уж как нам, привычным к морозу, холодно было, а им-то – матушка моя родна! Мёрзли французики, как вороны бескрылые. Иной раз глядеть на них жалко было, не то, что убивать, пардоньте!
– А почему «вороны»? – не понял Штернер.
Извозчик удивлённо на него посмотрел, не понимая, как это умный с виду барин задаёт такой нелепый вопрос.
– Так ведь, налетели на нас, как вороны! И, что ни слово, то карканье!.. А носы их видели?… Вороний клюв поменьше будет!
Сравнение француза с вороном было точно подмечено. Если к тому же прибавить русскую поговорку, которая родилась в дни отступления непобедимой когда-то армии Бонапарта: «Голодный француз и вороне рад».
– Так ехать будете, али как?… – напомнил о себе извозчик.
– Будем-будем! – обнадёжил его Атаназиус и спросил Татьяну. – Вам в какие края, Татьяна Николаевна?
– На Воронцовскую улицу, что на Таганке, – ответила девушка, беря в одну руку деревянный сундучок, в другую плетёную корзинку высматривая свободного извозчика. – Прощайте, господин Атаназиус! Счастливо вам до места доехать! Рада была познакомиться…
– Погодите! – прервал её Штернер. – Я тоже рад! Но давайте сделаем вот что… Сначала я провожу вас на Таганку, а уж потом вернусь на станцию и возьму возок до одной из деревень.
– Зачем же обо мне беспокоиться? – вспыхнула Татьяна. – Сама доеду. Не маленькая. У вас дела поважней будут…
– И возок новый ни к чему брать, – встрял в разговор извозчик.
– Так мне потом по делам из города ехать… – начал было объяснять ему Штернер.
– А вы, барин, меня послушайте! И вы, сударыня, тоже. Довезу вас обоих – и на Воронцовскую, и… в какую деревню?…
– В Воробейчиково, – уточнил Штернер.
– Знаю такую. Аккурат перед Зуевом.
– Точно, – кивнул молодой человек и обратился к девушке. – Ну, так как, поедем?…
Та уже не отнекивалась.
– Часа за три управимся, – добавил извозчик, ставя в сани их общую поклажу. – Ежели «на чай» дадите…
– И на рюмку водки тоже, – шутя, пообещал Атаназиус, подстраиваясь под «русский обычай» и помогая Татьяне усесться в санях.
– Крепких напитков не пью, – твёрдо сказал извозчик.
– Что так?
– Жена против.
– Так ведь не узнает.
– Болеет она у меня, барин. Не первый год. Лучше деньгой взять. На всякие там снадобья и на дохтура.
– Вас как зовут? – спросила Татьяна.
– Никифором, барышня. Двадцатый год в Москве извозничаю.
Штернер сел в сани рядом с Филипповой. Никифор стал укладывать под ноги новых пассажиров мешки с сеном, а после прикрыл плечи обоих волчьей шубой.
– Ну, с Богом! – сказал он, резво взобравшись на облучок и беря в горсть концы вожжей. – Фьють, Сивый! Двигай, голубь ты мой!
Глава II
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Твоё отрадное участье,
Твоё вниманье, милый друг,
Мне снова возвращают счастье
И исцеляют мой недуг.
Кондратий РЫЛЕЕВ
Само собой вышло, что в пути Атаназиус коротко рассказал Татьяне о своей жизни.
Та, конечно, ахала и охала, иногда даже с недоверием смотрела ему в глаза, радовалась его победам, горевала над его бедами – за четверть часа прожила всю его жизнь и даже в конце немного подустала и поняла, что повзрослела сразу на несколько лет.
Читатель вскоре и сам узнает историю жизни Атаназиуса Штернера. Только немного позже. Ибо начни я её рассказывать сейчас – Татьяна точно опоздает в дом купчихи Владыкиной, которая со всех краёв России набирала молодых девушек для кружевных работ, на кои был небывалый спрос в Москве уже несколько лет – и среди клиентов, и среди иностранных портних.
А вот о самой Татьяне Филипповой кое-что расскажу, чтобы иметь о ней хоть какое представление.
Приехала Татьяна Николаевна из Вязьмы, а родилась восемнадцать лет тому назад в семье мещанина.
Отец её, Николай Иванович, был аптекарем, ну и лекарем впридачу. Выучился он этому мастерству у одного пленного француза уже после войны с Наполеоном. Как война закончилась, все пленные «жоржи», «гюставы» и «эжены» давным-давно до дома добрались, кроме тех, кто навсегда в российской земле окопался, а полковой лекарь мсье Жюль, как попал в плен к русскому солдату Николаю Филиппову, так и остался у того после войны. И не по своей воле. А условием его вызволения было одно: научить Николая Ивановича аптекарскому искусству, ну и лекарскому впридачу.
Учителем мсье Жюль наверняка был хорошим, ибо спустя год заспешили к Таниному отцу все хворые с окрестных мест – кто за микстурой, кто за мазью, кому кровь пиявкой пустить, кому зуб «из сердца вон» вырвать. Он и перевязку на рану наложит, и вывих после драки вправит, и перелом залечит. А иногда и от «червивого плода любви», прости, Господи, избавит или, наоборот, счастливые роды примет. Всё умел Филиппов. За это и сделали его власти уездным лекарем. А там и все права мещанина дали по закону.
А мсье Жюля пришлось отпустить на волю. Жаль было с ним расставаться. Только – дал слово, держись! А француз, не будь дураком, да и остался в России. Уехал, правда, из Вязьмы куда подальше, чтоб не быть своему ученику конкурентом. И где он, и что с ним – никто с той поры не знает.
Хотела стать Татьяна отцу лекарской помощницей, вроде сестры милосердия, но он не позволил. Не бабье это дело! Тут-то матушка и взяла судьбу дочери в свои руки.
Была Галина Алексеевна чудо-вышивальщицей. Одной иглой с цветными нитями могла целую картину насочинить – и закат со звёздами, и поле в ромашках, и озеро с лебедями, и церковь с маковкой. И витязя на коне! Стоит под ними каждая травиночка, будто живая! Подуй – зашевелится!
А ещё вязала отменно – и на спицах, и на коклюшках. Но, главное, к чему Бог приспособил – это плесть кружева! Ах, облака небесные! Паутинки морозные! Снежинки льняные!..
Да только не для всех эта профессия. В таком деле персты нужны чуткие, очи острые, вкус тонкий. А главное, душа должна быть певучей.
Кто видел ажурные кружева бельгийские, из льна, выращенного на полях Брабанта, не поверит, что кружева русских мастериц, взращённые из полевых голубых цветков – от Пскова до Владимира – были такими же изящными, утончёнными, иной раз даже мудрёней по рисунку.
Лён зелёной при горе, при крутой!