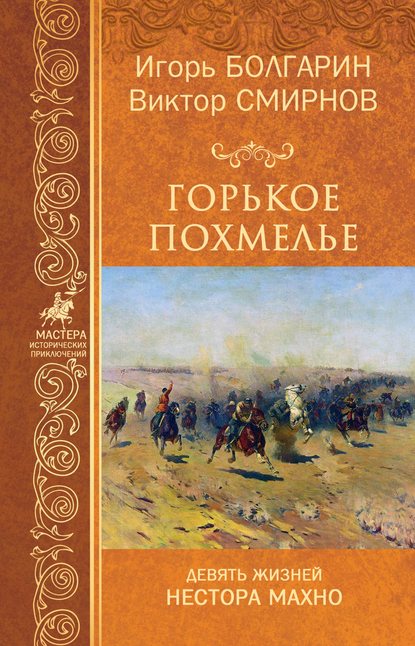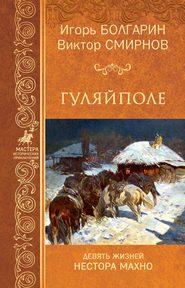По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Горькое похмелье
Автор
Год написания книги
2006
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И едва он прискакал на мол, сразу же началась рубка пленных. Тела сбрасывали в море.
– Там же совсем хлопчики, кадеты, – сказала Галина. – Какие юнкера?
– Взял оружие в руки – значить враг, – сердито ответил Нестор. – Мне, Галочка, Кропоткин Петро Алексеевич шо говорил…
– И Кропоткин не прав, и ты тоже, – возразила Галина. – Для кого ж мы свободу добываем, если всех детей перебьем?
– За детей я сам голову положу, а с врагами, извини… без сентиментальностей.
Галина отвернулась от окна. Ей стало нехорошо. Нестор обнял ее за плечи:
– Бороться, Галочка, за анархизм в школе – это одно, а на войне – совсем другое. Походишь с нами, озвереешь, как все.
– Не хочется, – ответила жена.
– А кому хочеться? Конечно, лучше на пасеке сидеть, с пчелками беседовать. Но закон такой. Мы офицеров в плен не берем, они – нас не берут. Как говорится, взаимное согласие.
Мол постепенно очищался от людей – и убиваемых, и убийц. Только красные пятна остались на досках да красная вода плескалась у свай… Возбужденно кричали чайки, кружили над молом, резко падали на воду…
Под штаб-квартиру заняли особнячок Бердянско-Ногайского банка. Морской ветер, влетавший в разбитые окна, гонял по полу какие-то бумаги, кредитные билеты, ассигнации, и среди них новенькие, только что выпущенные при Деникине деньги с изображением цветка – колокольчика. Лашкевич, ползая у ног людей, которые то и дело вбегали и выбегали из бывшего банка, собирал бумаги и деньги. Добро все же!
– О! – сказал он, рассматривая деникинский червонец. – Начальник управления финансов Бернацкий… Я красивше росписуюсь.
Махно отмахнулся от дотошного казначея. Не до денег, в городе продолжался бой. Феня вместе с бойцами роты связи разматывала катушку телефонного провода. Как учительница физики и других естественных наук, она быстро разобралась в новом деле. Связисты тоже что-то ей втолковывали, непременно стараясь приобнять за плечи, а то и за талию.
Уныло посвистывали пули, пролетая мимо пустых окон. Где-то далеко, и от этого вроде как безобидно, словно детские хлопушки, рвались гранаты.
Пыль и дым, смешиваясь, создали над городом облако.
Начала ухать пушка, вышибая гардемаринов из здания мореходных классов. На грузовых путях у порта что-то взорвалось, заставив вздрогнуть массивное банковское сооружение. Феня, смеясь, отбросила от себя слишком настойчивого специалиста по связи. И тут же в аппарате заквакал зуммер вызова.
– Слухаю! Батько Махно! – заорал Нестор, взяв трубку.
Голоса махновских командиров звучали в телефонной трубке беспрерывно. Звонили из элеватора, господствующего над городом, из караимской синагоги, напоминающей маленькую гранитную крепость, из Общества взаимного кредита, в подвалах которого нашли склад оружия, и даже из маяка, расположенного на окончании длиннейшей, верст в пятнадцать, Бердянской косы. И когда только успели туда добраться?
Черныш и Озеров принимали сообщения, отдавали приказы, ставили отметки на карте, и наконец начштаба доложил Нестору:
– Все! Город взят. Окрестности тоже у нас. Ни один пароход не ушел.
Махно расплылся в улыбке. Впервые он видел столь слаженную работу своей армии. Да, учились, учились – и выучились.
Вновь ворвался, теперь уже в штаб, Федос Щусь. Он желал услужить батьке и получить признание в качестве командира полка, как и было ранее. Бинт на его голове потемнел от крови.
– Батько, вражеске гнездо нашли. Того самого Тилло, якого мы убили. Там ще других Тилло до хрена.
– Ну и пострелял бы их всех к бисовой матери!
– Так оны на патретах. Ты б глянув, батько, шоб потом, в случай чего, опять мне плетюганов не всыпав… Тут близенько!
Особнячок был невелик, но в строгом классическом духе, с портиком и колоннами, отчего казался выше своих двух этажей. Облицованный белым мелким ракушечником, он светился отраженными солнечными лучами до боли в глазах.
После яркого света вестибюль показался темным погребом. Лестница. Какие-то портреты, старинные вазы. Такого добра Нестор уже насмотрелся вдоволь.
Только сейчас Нестор различил стоявшую на лестнице хозяйку – немолодую уже, стройную высокую женщину в черном платье.
– Вы кто? – спросил Нестор.
– Тилло… Евгения Александровна. – Женщина ответила спокойно, и Махно, ценивший в людях умение держаться с достоинством даже перед лицом смерти, стал говорить с ней чуть мягче:
– Генерал Тилло вам кем доводится?
– Какой генерал Тилло? – спросила женщина. – Их много. Один строил Бердянский порт, гидролог, один погиб под Варшавой, двое в гвардии… сражаются. Еще корнет, восемнадцатилетний, тоже…
Щусь подошел к одному из портретов, указал на него:
– А этот генерал… как его…
– Александр Александрович. Это мой брат.
– О! Слыхал, батько? Это ж тот самый…
– Помолчи, Федос! Не спеши поперед батька! – строго сказал Нестор.
Глаза батьки постепенно привыкли к комнатным сумеркам, и он смог разглядеть еще один большой портрет в строгой раме, висевший над пролетом лестницы. Нестор узнал этого красивого, темноусого и чернобрового моряка с глазами страдальца, глубокими, очаровывающими, такими глазами, которые прежде он видел только на иконах, изображавших Христа. Из ворота кителя проступал высокий, с острыми углами белый воротничок, подпирающий длинную шею, на плечах погоны с двумя звездочками.
Совсем недавно Галина разыскала такой портрет где-то в Гуляйполе и повесила в особняке Кернера к приезду Дыбенко. И именно этому человеку с глазами Христа отдал тогда честь бравый красный командир Дыбенко.
– А это кто ж? Тоже ваша родня? – немного растерянно, вглядываясь в пронзительные, затуманенные внутренней болью глаза моряка, спросил Нестор.
– Это… Петр Петрович Шмидт, – словно бы нехотя пояснила Евгения Александровна.
– Я узнал. Я спрашиваю – он тоже родич?
– Жених.
– Та-ак… Дозвольте пройти, присесть, – сказал батько.
И к удивлению всех его сопровождающих, он сделал невероятное – бережно взял под локоток хозяйку и повел ее по лестнице наверх. Шмидт! Да вся Новороссия в юные годы Махно гудела от одного только его имени!
…Хозяйка была немногословной. Она умела держать себя в руках. Недаром ее виноградарское хозяйство считалось лучшим на Азовщине. «Гости» требовали рассказа. Но как расскажешь о том, что составляло и продолжало составлять смысл жизни, чужим, пропахшим порохом людям, забежавшим на минутку во время еще не до конца стихшего боя?
Ну да, в детстве они были соседями: трехлетний Петенька и двухлетняя Женечка. Дружили, вместе играли. Отец Женечки, адмирал, строил и достраивал в Бердянске военный порт, а отец Петеньки, тоже адмирал, был начальником этого порта. Потом дети выросли и полюбили друг друга. Полюбили так, что даже домашние называли их женихом и невестой, не видя в том преувеличения или насмешки.
Потом Петенька уехал в Петербург, в Морское училище, чтобы стать адмиралом. Он писал Женечке почти каждый день трогательные письма. Для того чтобы жениться, он должен был окончить училище, отплавать гардемарином и мичманом и получить лейтенантские погоны. И заручиться разрешением начальства, которое в данном случае, конечно, не пошло бы против желания Пети Шмидта, сына адмирала и княгини Сквирской.
Но увлечения молодых людей мимолетны, переменчивы. Нет, нет, Петенька не забыл о невесте, о данном слове. Его новым увлечением стали революционные идеи и мысли о страданиях бедного народа. И в качестве первого шага, доказывающего, как высоко он чтит простой народ, Петенька, не сказав никому ни слова, женился на первой встреченной им «падшей женщине», питерской проститутке, жившей на нищей окраине. Он отдал Доминике свои сбережения и свое сердце, увы, совершенно не нужное этой весьма вульгарной и циничной девушке.
Женечка благородно вернула жениху данное им слово, что весьма немаловажно для офицера с «фамилией». Не в силах забыть Петеньку, она отвергла ухаживания новых женихов и осталась соломенной вдовой, продолжая любить своего лейтенанта. А потом… потом Петенька продолжал писать бывшей невесте, так как не было у него человека ближе. Женечка и ее отец не раз выручали не такого уж молодого лейтенанта, без конца попадавшего в какие-то неприятности. Но во время восстания, когда Петенька, ставший известным революционным оратором, назначил себя командующим взбунтовавшимся флотом, никто уже не мог спасти полуседого бывшего гардемарина.
– Там же совсем хлопчики, кадеты, – сказала Галина. – Какие юнкера?
– Взял оружие в руки – значить враг, – сердито ответил Нестор. – Мне, Галочка, Кропоткин Петро Алексеевич шо говорил…
– И Кропоткин не прав, и ты тоже, – возразила Галина. – Для кого ж мы свободу добываем, если всех детей перебьем?
– За детей я сам голову положу, а с врагами, извини… без сентиментальностей.
Галина отвернулась от окна. Ей стало нехорошо. Нестор обнял ее за плечи:
– Бороться, Галочка, за анархизм в школе – это одно, а на войне – совсем другое. Походишь с нами, озвереешь, как все.
– Не хочется, – ответила жена.
– А кому хочеться? Конечно, лучше на пасеке сидеть, с пчелками беседовать. Но закон такой. Мы офицеров в плен не берем, они – нас не берут. Как говорится, взаимное согласие.
Мол постепенно очищался от людей – и убиваемых, и убийц. Только красные пятна остались на досках да красная вода плескалась у свай… Возбужденно кричали чайки, кружили над молом, резко падали на воду…
Под штаб-квартиру заняли особнячок Бердянско-Ногайского банка. Морской ветер, влетавший в разбитые окна, гонял по полу какие-то бумаги, кредитные билеты, ассигнации, и среди них новенькие, только что выпущенные при Деникине деньги с изображением цветка – колокольчика. Лашкевич, ползая у ног людей, которые то и дело вбегали и выбегали из бывшего банка, собирал бумаги и деньги. Добро все же!
– О! – сказал он, рассматривая деникинский червонец. – Начальник управления финансов Бернацкий… Я красивше росписуюсь.
Махно отмахнулся от дотошного казначея. Не до денег, в городе продолжался бой. Феня вместе с бойцами роты связи разматывала катушку телефонного провода. Как учительница физики и других естественных наук, она быстро разобралась в новом деле. Связисты тоже что-то ей втолковывали, непременно стараясь приобнять за плечи, а то и за талию.
Уныло посвистывали пули, пролетая мимо пустых окон. Где-то далеко, и от этого вроде как безобидно, словно детские хлопушки, рвались гранаты.
Пыль и дым, смешиваясь, создали над городом облако.
Начала ухать пушка, вышибая гардемаринов из здания мореходных классов. На грузовых путях у порта что-то взорвалось, заставив вздрогнуть массивное банковское сооружение. Феня, смеясь, отбросила от себя слишком настойчивого специалиста по связи. И тут же в аппарате заквакал зуммер вызова.
– Слухаю! Батько Махно! – заорал Нестор, взяв трубку.
Голоса махновских командиров звучали в телефонной трубке беспрерывно. Звонили из элеватора, господствующего над городом, из караимской синагоги, напоминающей маленькую гранитную крепость, из Общества взаимного кредита, в подвалах которого нашли склад оружия, и даже из маяка, расположенного на окончании длиннейшей, верст в пятнадцать, Бердянской косы. И когда только успели туда добраться?
Черныш и Озеров принимали сообщения, отдавали приказы, ставили отметки на карте, и наконец начштаба доложил Нестору:
– Все! Город взят. Окрестности тоже у нас. Ни один пароход не ушел.
Махно расплылся в улыбке. Впервые он видел столь слаженную работу своей армии. Да, учились, учились – и выучились.
Вновь ворвался, теперь уже в штаб, Федос Щусь. Он желал услужить батьке и получить признание в качестве командира полка, как и было ранее. Бинт на его голове потемнел от крови.
– Батько, вражеске гнездо нашли. Того самого Тилло, якого мы убили. Там ще других Тилло до хрена.
– Ну и пострелял бы их всех к бисовой матери!
– Так оны на патретах. Ты б глянув, батько, шоб потом, в случай чего, опять мне плетюганов не всыпав… Тут близенько!
Особнячок был невелик, но в строгом классическом духе, с портиком и колоннами, отчего казался выше своих двух этажей. Облицованный белым мелким ракушечником, он светился отраженными солнечными лучами до боли в глазах.
После яркого света вестибюль показался темным погребом. Лестница. Какие-то портреты, старинные вазы. Такого добра Нестор уже насмотрелся вдоволь.
Только сейчас Нестор различил стоявшую на лестнице хозяйку – немолодую уже, стройную высокую женщину в черном платье.
– Вы кто? – спросил Нестор.
– Тилло… Евгения Александровна. – Женщина ответила спокойно, и Махно, ценивший в людях умение держаться с достоинством даже перед лицом смерти, стал говорить с ней чуть мягче:
– Генерал Тилло вам кем доводится?
– Какой генерал Тилло? – спросила женщина. – Их много. Один строил Бердянский порт, гидролог, один погиб под Варшавой, двое в гвардии… сражаются. Еще корнет, восемнадцатилетний, тоже…
Щусь подошел к одному из портретов, указал на него:
– А этот генерал… как его…
– Александр Александрович. Это мой брат.
– О! Слыхал, батько? Это ж тот самый…
– Помолчи, Федос! Не спеши поперед батька! – строго сказал Нестор.
Глаза батьки постепенно привыкли к комнатным сумеркам, и он смог разглядеть еще один большой портрет в строгой раме, висевший над пролетом лестницы. Нестор узнал этого красивого, темноусого и чернобрового моряка с глазами страдальца, глубокими, очаровывающими, такими глазами, которые прежде он видел только на иконах, изображавших Христа. Из ворота кителя проступал высокий, с острыми углами белый воротничок, подпирающий длинную шею, на плечах погоны с двумя звездочками.
Совсем недавно Галина разыскала такой портрет где-то в Гуляйполе и повесила в особняке Кернера к приезду Дыбенко. И именно этому человеку с глазами Христа отдал тогда честь бравый красный командир Дыбенко.
– А это кто ж? Тоже ваша родня? – немного растерянно, вглядываясь в пронзительные, затуманенные внутренней болью глаза моряка, спросил Нестор.
– Это… Петр Петрович Шмидт, – словно бы нехотя пояснила Евгения Александровна.
– Я узнал. Я спрашиваю – он тоже родич?
– Жених.
– Та-ак… Дозвольте пройти, присесть, – сказал батько.
И к удивлению всех его сопровождающих, он сделал невероятное – бережно взял под локоток хозяйку и повел ее по лестнице наверх. Шмидт! Да вся Новороссия в юные годы Махно гудела от одного только его имени!
…Хозяйка была немногословной. Она умела держать себя в руках. Недаром ее виноградарское хозяйство считалось лучшим на Азовщине. «Гости» требовали рассказа. Но как расскажешь о том, что составляло и продолжало составлять смысл жизни, чужим, пропахшим порохом людям, забежавшим на минутку во время еще не до конца стихшего боя?
Ну да, в детстве они были соседями: трехлетний Петенька и двухлетняя Женечка. Дружили, вместе играли. Отец Женечки, адмирал, строил и достраивал в Бердянске военный порт, а отец Петеньки, тоже адмирал, был начальником этого порта. Потом дети выросли и полюбили друг друга. Полюбили так, что даже домашние называли их женихом и невестой, не видя в том преувеличения или насмешки.
Потом Петенька уехал в Петербург, в Морское училище, чтобы стать адмиралом. Он писал Женечке почти каждый день трогательные письма. Для того чтобы жениться, он должен был окончить училище, отплавать гардемарином и мичманом и получить лейтенантские погоны. И заручиться разрешением начальства, которое в данном случае, конечно, не пошло бы против желания Пети Шмидта, сына адмирала и княгини Сквирской.
Но увлечения молодых людей мимолетны, переменчивы. Нет, нет, Петенька не забыл о невесте, о данном слове. Его новым увлечением стали революционные идеи и мысли о страданиях бедного народа. И в качестве первого шага, доказывающего, как высоко он чтит простой народ, Петенька, не сказав никому ни слова, женился на первой встреченной им «падшей женщине», питерской проститутке, жившей на нищей окраине. Он отдал Доминике свои сбережения и свое сердце, увы, совершенно не нужное этой весьма вульгарной и циничной девушке.
Женечка благородно вернула жениху данное им слово, что весьма немаловажно для офицера с «фамилией». Не в силах забыть Петеньку, она отвергла ухаживания новых женихов и осталась соломенной вдовой, продолжая любить своего лейтенанта. А потом… потом Петенька продолжал писать бывшей невесте, так как не было у него человека ближе. Женечка и ее отец не раз выручали не такого уж молодого лейтенанта, без конца попадавшего в какие-то неприятности. Но во время восстания, когда Петенька, ставший известным революционным оратором, назначил себя командующим взбунтовавшимся флотом, никто уже не мог спасти полуседого бывшего гардемарина.